Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
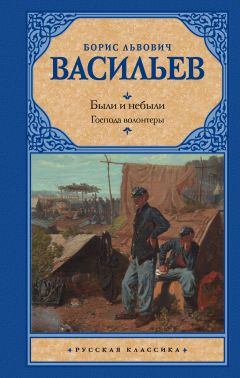
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 43 страниц)
Беневоленский больше в Высоком не появлялся. Варя старательно не замечала его отсутствия, была ровна и даже весела, но самолюбие ее было уязвлено. Ею пренебрегали явно и демонстративно, и это кололо больнее, чем само отсутствие Аверьяна Леонидовича.
Тетушка уехала, забрав с собой Ивана и младших, в Высоком остались только Федор и Варя. Яблоки звучно падали в саду, было тепло, тихо и грустно, но грусть была легкой и приятной. Правда, она мешала с прежним рвением заниматься хозяйством, но после разговора с тетей Варя как-то охладела к хозяйству, все чаще поручая дела приказчику – мужику немолодому, серьезному и работящему. Возилась в саду, много читала, а с Федором почти не разговаривала: он целыми днями сидел безвылазно в своей комнате, обложившись книгами. То ли готовился в университет, то ли вырабатывал очередную сверхновую идею. Встречались в столовой за обедом да за ужином, даже завтракали отдельно.
От Дурасовых неожиданно прискакал нарочный с запиской: Елизавета Антоновна заболела, очень скучает, просит не забывать. Записка никому не адресовалась, Варя прочитала ее, подумала и за обедом показала Федору.
– Надо бы съездить, Федя.
Федор прочитал записку, повздыхал и ничего не ответил.
– Я понимаю, как тебе не хочется, – продолжала Варя. – Может быть, вместе с Беневоленским прокатитесь? Кстати, он что-то совсем пропал, не заболел ли тоже? Ты бы навестил и записку показал: хороший предлог для визита.
Федору очень не хотелось никуда ходить, он обленился за лето. Но Варя настояла, и пришлось, вздыхая, оставить привычный диван.
– Здоров как бык, – сказал Беневоленский, когда Федор, появившись, справился о здоровье. – Хотите водки? Нормальная российская сивуха вкупе с малосольным огурцом обладает сказочной способностью приземлять мысли витийствующей интеллигенции.
Он достал початую бутылку, налил в стакан, придвинул миску с огурцами и сел напротив.
– Отчего ж никуда не поехали?
– Не знаю, – сказал Федор. – Я отвык учиться. Право, отвык.
– А к лени привыкли быстро, – усмехнулся хозяин. – Хотите совет? Поезжайте к этой дамочке. Она мается томлением духа и тела: авось желания появятся.
Федор хлебнул из стакана, сморщился, полез за огурцом. Аверьян Леонидович насмешливо следил за его вялыми движениями.
– В вашей семье жизнеспособна только женская линия, Олексин, замечаете? Это первый признак угасания рода.
– При чем тут угасание? – вздохнул Федор. – Просто все: мать у меня крестьянка. Вы ничего не знаете, Беневоленский, а беретесь судить, это нехорошо и на вас не похоже.
– Чего же я не знаю?
– Ничего, – упрямо повторил Федор. – Вот напьюсь сейчас и все вам расскажу.
– Ну так напивайтесь поскорее.
– Вы спешите?
– Очень, – сказал Аверьян Леонидович. – Я уезжаю.
– Куда?
– В отличие от вас – учиться. Надо закончить в университете.
– А зачем?
– Ну хотя бы затем, чтобы зарабатывать на хлеб насущный. У меня нет имения, Олексин. Ни имения, ни состояния – только руки и голова.
– Вы лжете, Беневоленский, да, да, лжете. Вы не из тех, кто будет делать что-либо ради своей выгоды. Это пошло, ужас как пошло – делать что-либо ради своей выгоды. Ради идеи – да! Это прекрасно, это возвышенно и благородно. А ради выгоды… Нет, вы идейный. Вы скрываете от меня, потому что идея ваша, – Федор вдруг выпучил глаза и весь подался вперед, – казнить государя!
– Бог мой, какой бред посещает иногда вашу бедную голову, – усмехнулся Аверьян Леонидович. – И все от безделья. Бредни – от безделья, идейки – от безделья, даже разговор этот – тоже от безделья. Ох ты, милое ты мое русское безделье! Есть ли что в мире добродушнее, безвреднее и… бесполезнее тебя!
– Вот, – обиженно отметил Олексин и снова хлебнул. – Опять вы насмешничаете.
– Нет, друг мой, на сей раз я не насмешничаю, – вздохнул Беневоленский. – На сей раз предмет слишком дорог, чтобы обращать его в шутку. Дорог не для меня – дорог для отечества нашего в самом вульгарном экономическом смысле. Миллионы золотых рублей летят на воздух ежедневно и ежечасно, летят опять-таки в прямом смысле, лишь сотрясая его, но не производя никакой полезной работы. Когда же вы опомнитесь, добрые, милые, безвредные и – увы! – бесполезные господа соотечественники? Когда же вы наконец поймете, что идеи не сочиняют, а творят, творят на почве знаний, боли, тоски, неосуществленных порывов и, главное, труда. Адского труда, Олексин! А вы… Да вбили ли вы хоть один гвоздь в своей жизни, пропололи хоть одну грядку?
– Прополол, – кивнул Федор. – Маменька велела, я и прополол. Это был лук.
– Лук! – усмехнулся Аверьян Леонидович. – Проповедуете народу собственное представление о Евангелии, а что вы знаете о самом народе? Каков он, о чем думает, о чем мечтает, о чем говорит меж собой, подальше от барских ушей? О куске хлеба или о справедливости? О Боге или уряднике? Если вы уж так стремитесь служить ему – а вы стремитесь, я верю, что стремитесь, – так сначала узнайте, какой службы он ждет от вас. Залезьте в его шкуру, пропотейте его потом, покормитесь его тюрей с квасом, а уж тогда и решайте, в каком именно качестве вы послужите и ему на пользу, и себе в умиление.
– Но разве… Разве знания обязательно должны быть практическими? Разве нельзя постичь истину путем углубленного изучения?
– Для вас – нет, – отрезал Беневоленский. – Вы не способны к углубленному изучению, а посему изучайте с натуры. Впрочем, можете и не изучать: натура от этого не пострадает. Что вы смотрите на меня, как на чудотворную? Я лишь предполагал, только и всего. Решать все равно придется вам. Если сможете.
– Если смогу, – задумчиво повторил Федор. – Странно, ах как все странно переплетается в жизни! Вася тоже говорил о неоплатном долге перед народом, о служении истине и справедливости. И вот вы теперь…
– Я ничего не говорил, – резко перебил Аверьян Леонидович. – Ваш братец Василий Иванович, знаком с ним по Швейцарии, – восторженный адепт Лаврова, такой же говорун и идеалист. Нет, не просвещение народа должно предшествовать революции, а революция – просвещению, господа Лавровы! Не долг перед народом, а обязанность действовать во имя и во спасение этого народа – вот реализм русской действительности, если желаете знать правду. Понять народ, полюбить народ и, если надо, погибнуть во имя его свободы и счастья – вот цель жизни. Самая благородная из всех целей, какие только ставило перед собой человечество!
– А это… это прекрасно! – воскликнул Федор. – Прекрасно то, что вы сказали! Позвольте поцеловать вас, милый Аверьян Леонидович. Позвольте. Вам – в дорогу, и это замечательно. Дорога – это замечательно!
С серьезнейшим, даже многозначительным видом он расцеловал хохотавшего в голос Беневоленского и вернулся домой, не поехав к больной Лизоньке. И не потому, что забыл о ней, – он помнил и даже хотел поехать, – а потому, что не мог уже, не имел права откладывать того, что решил вдруг, внезапно за голым холостяцким столом Аверьяна Леонидовича. А поскольку решение это нашло на него как озарение, он и воспринимал его как озарение свыше, как зов, не откликнуться на который уже не имел права.
Он ничего не стал рассказывать Варе, буркнул походя, что Беневоленский здоров, и ушел к себе. Варе долго не спалось в эту ночь, она слушала, как Федор бродит по дому, хотела даже встать и спросить, что это он бродит, но поленилась. А потом уснула.
К завтраку Федор не явился. С ним часто это случалось, и Варя не обратила внимания. Но когда он не вышел к обеду, забеспокоилась, послала узнать.
– Федора Ивановича нету, – сказала горничная, воротясь. – Постель нетронутая.
Заволновавшись, Варя пошла сама. Осмотрела пустую комнату, нетронутую кровать, успела уж испугаться, но нашла записку:
«Я не утонул и не пропал: я ушел. Не ищите меня, а лучше всего – забудьте. Идеи нельзя сочинять – их надо выстрадать, и я готов страдать. Я хочу быть честным и нужным. И буду честным и нужным. А вас всех – целую. Будьте счастливы и простите своего брата-бездельника Федора».
Варя три раза прочитала записку и, так ничего и не поняв, в бессилии и отчаянии опустилась на стул.
7Длинная, запряженная отощавшей парой повозка уныло скрипела несмазанными осями. Возница, молодой серб, пел бесконечные песни, в терпеливом одиночестве трясясь на передке; остальные предпочитали идти пешком по пыльной обочине.
– Дегтю у них нет, что ли? – удивлялся Захар. – Бранко, долго еще пыль-то глотать?
– Гайд, гайд! – погонял приморенных коней Бранко, весело сверкая зубами.
– Турецкие кони, что ли?
– Добрые кони! Сербские кони!
Группа волонтеров – трое русских и молчаливый поляк – выехала на позиции с первой же оказией. Все произошло внезапно, второпях, и знакомиться пришлось уже в пути.
С русским – субтильным, болезненным до желтизны штабс-капитаном Истоминым – Гавриил был знаком: штабс-капитан служил адъютантом при московском генерал-губернаторе. Слабый физически, чрезвычайно интеллигентный, Истомин еще в июне прибыл в Сербию, участвовал в победоносном черняевском наступлении, а теперь маялся иссушающей желудочной болезнью. В Москве у него оставалась жена, старуха мать и три девочки, но штабс-капитан сетовал не на судьбу и не на больной желудок, а на равнодушие штабов, несогласованность действий и запутанную многоступенчатость начальства.
– Слишком много указаний, Олексин, слишком много! Боюсь, что самолюбие отдельных господ погубит великую идею.
В идею всеславянского единения он верил истово и несокрушимо. Ни авантюрный марш плохо подготовленной черняевской армии, ни последующий ее разгром, ни даже честолюбивые интриги многочисленного начальства, присосавшегося к народному восстанию и теперь торопливо выкраивающего выгоды для личного пользования, – ничто не могло поколебать тихого и мягкого штабс-капитана. За внешним обликом книжно-салонного дворянина скрывалась фанатическая преданность однажды понятому и принятому на себя долгу.
– Прекрасный, достойный свободы народ, прекрасная, достойная счастья страна! О, если бы немножечко честности, немножечко искренности, немножечко долга, господа!
– Да сядьте же вы на телегу, Истомин. На вас лица нет.
– Нет, нет, ни в коем случае. Мои недуги – это мои несчастья, Олексин. И я желаю бороться с ними, а не выставлять их напоказ. Равенство трудностей рождает равенство усилий, поэтому никаких исключений ни для кого, кроме раненных на поле боя. Равенство трудностей: ах, если бы когда-нибудь эту простую истину поняли бы те, кто управляет энтузиазмом людей, поверивших в благородную идею! Ах, как это было бы прекрасно, Олексин, ибо нет боли мучительнее, чем разочарование. Пирогов сказал, что раны победителей заживают быстрей, чем раны побежденных. Знаете почему? Потому что их идея осуществилась, их труд не погиб втуне и они не обманулись в вождях своих.
– Вы слушали Пирогова?
– Я много и бестолково учился, как большинство русских, – улыбнулся штабс-капитан. – Увы, если бы мы к тому же умели бы с пользой применять свои знания! Но нам этого не дано: мы просвещенные дилетанты, не более.
Кони шли неспешным ломовым шагом, не меняя скорости ни на спусках, ни на подъемах. В полдень волонтеры останавливались в придорожной корчме, часа через три трогались дальше, до следующей корчмы, где и ночевали в узких, как пеналы, номерах, заботливо сохранявших запахи всех предыдущих постояльцев.
– К концу кампании попадем, ей-богу, к концу, – ворчал Захар.
Гавриил и сам беспокоился, что они непременно куда-либо опоздают, но нетерпение скрывал: и бывалый – очень трудно было отнести это слово к утонченному штабс-капитану – Истомин, и неоднократно проделывавший этот путь Бранко относились к лошадиной медлительности как к явлению естественному; явно тяготился путешествием лишь высокий поляк.
– Прошу пана, но нельзя ли быстрее?
Русских при этом он сторонился, шел всегда рядом с Бранко, ел с ним за одним столом. Утром и вечером любил мыться до пояса: Бранко окатывал его холодной водой, поляк громко, радостно вскрикивал. Истомин пригляделся, сказал поручику:
– Обратите внимание на его шрам.
Шрам был на левой руке, чуть ниже локтя. Недавний, еще багровый, узкий, будто от удара хлыстом.
– Сабля, и скорее всего казачья, – определил Олексин.
Вскоре их обогнала пароконная коляска. С грохотом пронеслась мимо: был уклон, лошади неслись вскачь. В клубах пыли Гавриил разглядел только широкую спину кучера, но Захар был внимательнее:
– Клетчатый ваш проехал. Ему, видно, лошадушек не пожалели.
В следующей корчме корреспондентской коляски не оказалось, но к вечеру они нагнали ее на постоялом дворе. Коляска стояла под навесом, лошади у коновязи, а широкоплечий кучер одиноко ужинал за столом: клетчатого господина в зале не было.
В этот низкий, полутемный зальчик Олексин вошел один: Захар устраивался в номере, попутчики отлучились по своим делам. Выбрав относительно чистый стол, поручик сел в расчете заказать ужин на троих. Но не успел: вошел поляк и, оглядевшись, направился к нему.
– Вас просят выйти до конюшни, – негромко по-русски сказал он.
– Кто просит?
Поляк отошел, разглядывая прокопченные стены и демонстративно не желая отвечать. Олексин недоуменно пожал плечами, но вышел.
Двор был пустынен. Поручик пересек его, вошел в темную конюшню. Здесь был Бранко: задавал корм лошадям. Гавриил хотел окликнуть его, но не успел.
– Здравствуйте, сударь.
Он оглянулся: у стены стоял Этьен.
– Не ожидали?
– Признаться, нет. – Гавриил пожал руку. – И очень рад, что нам по пути.
– По пути, но не вместе, – улыбнулся Этьен. – Маленькая неприятность и маленькая просьба, месье Олексин. Видели во дворе коляску?
– Кажется, на ней прикатил ваш соотечественник?
– Это неважно. Важно, чтобы эта коляска не выехала вслед за нами. А мы уедем, как только стемнеет.
– Что вы предлагаете: пристрелить лошадей или, может быть, кучера?
– Зачем же столько ужасов? Насколько нам известно, кучер не дурак выпить. Угостите его с русской щедростью, и он не сможет держать вожжи.
– Извините, Этьен, но я – офицер, и попойки с ямщиками мне как-то не с руки.
– Дело идет о нашей жизни, сударь, – все так же улыбаясь, сказал Этьен. – В ваших руках возможность сохранить эти жизни. Для общего дела, сударь, для борьбы за свободу Сербии. Решайтесь, а мне пора исчезать: наш соотечественник любит появляться там, где его меньше всего хотят видеть.
Сказав это, француз тут же шмыгнул в густую тьму конюшни. Через мгновение во тьме еле слышно скрипнула дверь, и Олексин остался один.
Он вернулся в низкий зальчик, где добродушный толстый хозяин уже расставлял на столах глиняные миски с вареной кукурузой и кусками обжаренного мяса. Спутники были на месте, клетчатый не появлялся; кучер его в одиночестве приканчивал ужин и бутылку местного вина. Он безразлично глянул на Олексина и с удовольствием потянулся к кружке.
– Прошу извинить, господа, – сказал поручик, подходя. – Захар, тебе придется отужинать сегодня в другой компании.
Отозвав денщика, Олексин коротко проинструктировал его и снабдил деньгами.
– Чтобы из-за стола не вылез, понял?
– Вот это приказ! – заулыбался Захар. – Не извольте беспокоиться, ваше благородие, исполним в лучшем виде.
Гавриил сел ужинать, а Захар, равнодушно позевывая, направился к хозяину, от которого вышел с тремя бутылками ракии. Неторопливо, вперевалочку, будто не зная, куда приткнуться, поплутал по залу и решительно уселся за столик кучера, красноречиво стукнув бутылками.
– Решили дать денщику увольнение? – улыбнулся Истомин. – Очень демократично, Олексин. Только не рекомендую такое попустительство в зоне военных действий.
– Пусть гульнет в последний раз.
Ужинали неспешно и долго, развлекаясь разговорами и слабеньким местным вином. Поляк сидел отдельно и не столько слушал их беседу, сколько поглядывал на дальний столик в углу. И иногда – с острым любопытством – на поручика.
Гавриил тоже посматривал на дальний столик: там крепчали голоса, явно не понимавшие друг друга, но звучавшие вполне дружелюбно. Дважды туда направлялся хозяин: раз с огромной сковородой яичницы на сале, второй – с двумя бутылками. Захар знал толк в застолье и приказ исполнял любовно и трепетно.
– Не напьется? – с брезгливой миной спросил штабс-капитан.
– Напьется, – улыбнулся поручик. – Непременно напьется как скотина!
Олексина чрезвычайно забавляла и сама ситуация, и полнокровный восторг Захара. Он знал Захара с детства и не сомневался, что все сойдет благополучно.
– Все же позволю себе удивиться вашим действиям, – непримиримо ворчал Истомин. – Пьянство вообще гнусь великая, и прискорбная к тому же. И мне, признаться, странно наблюдать в офицере такое… ммм… безразличие к чести нации.
– Да перестаньте вы брюзжать, капитан. Моему Захару нужна бочка…
Он замолчал, потому что в зальчике появился клетчатый господин. Задержался в дверях, мгновенно окинул быстрыми глазками помещение, лишь на миг задержавшись на Гаврииле, и решительно направился к дальнему столику. Олексин уже привстал, еще не решив, что делать, но понимая, что клетчатого необходимо задержать, отвлечь, заговорить. Но его опередили.
Путь клетчатого лежал мимо дальнего конца их стола, за спиной поляка. Поляк тоже заметил корреспондента, тоже понял, куда он направляется, но сидел ближе к нему, и действовать ему было удобнее. Не подавая виду, он повернулся спиной, а когда клетчатый почти поравнялся с ним, чуть отставил локоть. Это было сделано так вовремя, что корреспондент с ходу наткнулся на него.
– О, пардон!
– Сударь! – гневно сказал поляк, отряхивая капли вина. – Ваша неучтивость стоит мне ужина и одежды.
– Тысяча извинений…
– Даже из миллиона извинений мне не сшить новой рубашки, – громко перебил поляк и воинственно подкрутил усы. – Вам придется поискать другой способ, господин невежа.
Поляк напролом шел к глупейшему трактирному скандалу. Истомин болезненно сморщился.
– Вот ярчайший пример нашей славянской распущенности…
Он сделал попытку встать, но Гавриил удержал его:
– Мы русские офицеры, Истомин, нам не к лицу ввязываться в кабацкие ссоры.
– Не понимаю, чего вы требуете от меня, – горячился француз. – Я нанес вам материальный ущерб? Извольте, готов компенсировать.
Он вынул из кармана несколько монет, положил их на край стола, шагнул, но поляк схватил его за полу клетчатого пиджака.
– Сначала вы испачкали мое платье, а теперь пытаетесь замарать мою честь? Я не лакей, сударь, а волонтер.
– Но помилуйте… Господа! – вскричал встревоженный корреспондент, на сей раз узнавая Гавриила. – Господин Олексин, умоляю вас объяснить вашему спутнику…
– Нет уж, позвольте! – гремел поляк, вставая и по-прежнему удерживая клетчатого за лацкан пиджака. – Я готов был свести все к недоразумению, но теперь, когда мне швырнули деньги…
– Господа, стыдно! – болезненно морщась, взывал Истомин. – Господа, прекратите. Что подумают сербы?
Поляк грозно топорщил усы, кричал, но при этом часто взглядывал на Олексина. Гавриил догадался, глянул в дальний угол и увидел пустой, заставленный бутылками стол: Захар уже увел захмелевшего кучера подальше от господского скандала. Поручик улыбнулся и не очень умело подмигнул обидчивому шляхтичу.
– Черт с вами, согласен на мировую, – сразу перестав кричать, сказал поляк. – Ставьте две бутылки клико, и мы квиты. Эй, хозяин, тащи шампанское, Франция угощает доблестных волонтеров!
Пили долго. Поляк шутил, рассказывал анекдоты, провозглашал тосты. Штабс-капитан вскоре ушел, сославшись на недомогание, клетчатый нервничал, с трудом прикрываясь вежливостью. Однажды, не выдержав, воззвал к Олексину:
– Помогите мне уйти: у меня пропал кучер.
– А у меня денщик, – сказал поручик. – В России есть поговорка: рыбак рыбака видит издалека.
– Это замечательная поговорка! – развеселился поляк. – Вы уловили ее смысл, газетная душа?
Наконец он угомонился и отпустил корреспондента. Проводил его насмешливым взглядом, повернулся к Олексину, вдруг посерьезнев.
– Разрешите представиться: Збигнев Отвиновский. Жму вашу руку, поручик, с особым удовольствием: вы не из тех, кто вешал нас на фонарных столбах в шестьдесят третьем году.
– Вас вешали жандармы, – сказал Гавриил. – Следует ли из-за этого ненавидеть целый народ?
– Это сложный вопрос, поручик, – вздохнул Отвиновский. – Очень сложный вопрос, решать который приходится пока путем личных контактов. Судьбе угодно было свести нас в одном лагере, и я предлагаю вам дружбу. Но если она вновь разведет нас – не взыщите, Олексин. А сегодня мы с вами устроили неплохой спектакль!
Они еще раз крепко пожали друг другу руки и разошлись по номерам. Захара не было. Гавриил постелил, осмотрел подозрительно серые простыни, повздыхал и лег. Голова приятно кружилась, и он с удовольствием перебирал весь сегодняшний вечер, странный и немного таинственный. Где-то копошилась мысль, что поступки его вряд ли были бы одобрены на родине, что поступает он вопреки официальному долгу, но по совести, и это раздвоение между долгом и совестью совсем не терзало его. Он был в чужой стране, считал себя свободным от служебных обязательств и хотел лишь поступать согласно внутренним законам чести. И выполнил сегодня основное требование этого закона: помог друзьям избежать полицейской слежки. И на душе у него было легко. С этим приятным чувством он задремал и проснулся от грохота: Захар, шепотом ругаясь, поднимался с пола.
– Хорош, нечего сказать!
– Сами велели. – Язык у Захара заплетался, но соображения он не терял. – Так что разрешите доложить, приказ исполнил.
– А где кучер?
– В сене, – засмеялся Захар. – Я его так упрятал, что ни в жисть не найдут, пока сам не выползет! Вот ведь с виду бычина чистый, а жила у него слаба.
– Не опоил до смерти?
– Меру знаем, Гаврила Иванович, меру знаем и блюдем. – Захар, покачиваясь, стелил себе в углу. – Ежели еще будут такие же приятные ваши распоряжения, то мы рады стараться.
– Ладно, спи, поздно уже. И не храпи, сделай милость.
– Храп, он от Бога, – резонно заметил Захар. – Накажет господь сном тяжким, так и захрапишь. Ты не спишь, Гаврила Иванович?
Захар обращался запросто очень в редких случаях. И сейчас не похоже было, что говорил совсем уж с пьяных глаз. Олексин помолчал немного и спросил:
– Ну что тебе?
– Мы в конюшне-то втроем пили: Бранко я поднес. Для разговору: он по-нашему маленько балакает, а с этой немчурой…
– Разве кучер не серб?
– Немец, – решительно сказал Захар. – Или кто-то вроде. А Бранко свой брат, правда, пьет мало. Он к вам просится, Бранко-то этот. Надоело, говорит, на извозе: туда целых, обратно калеченых.
– Как – ко мне? Куда – ко мне?
– Так вам же, поди, отряд под начало дадут? Вот он и просится: скажи, говорит, своему офицеру – это вам, значит, – что желаю проводником. Места, мол, хорошо знаю, вырос тут.
– Там видно будет, – сказал Гавриил. – Куда самих направят, тоже неизвестно. Спи.
– Сплю, – вздохнул Захар. – Вот мы и в Европе, значит. Чудно! А парень он, Бранко-то, хороший. Как есть славный парень, Гаврила Иванович. А закуска у них, прямо сказать, хреновая. Ни тебе соленого огурчика, ни тебе квашеной капусты. Может, поэтому и пить тут не умеют, а, Гаврила Иванович?..
С раннего утра клетчатый с заметно опухшей физиономией долго суетился, звал кучера, приставал к Захару.
– Знать не знаю, ведать не ведаю, – твердил Захар, хмурый с похмелья. – Пили вместе, а ночевали поврозь.
Выезжали, когда сыскался кучер. Вылез весь в сене, мыча что-то несуразное. Корреспондент кричал, бил его пухлым кулачком в гулкую спину – кучер ничего не соображал. Бранко весело хохотал, выводя коней из узких ворот.
Ехали, а точнее – брели за телегой уже вместе, поддерживая общий разговор. Правда, Отвиновский обращался только к Гавриилу, но делал это вполне корректно; штабс-капитан все еще расстраивался по поводу вчерашней гульбы и попрекал Олексина:
– Недопустимое легкомыслие, поручик, недопустимое!
Клетчатый догнал их только в обед, когда они уже сидели за столом. Подошел, сухо поклонился, сказал Гавриилу:
– Я ценю ваши шутки, но в известных пределах. Ваш денщик вчера обокрал моего кучера. Его показания у меня: они будут представлены лично генералу Черняеву с соответствующими разъяснениями.
– Я не верю ни единому слову вашего кучера, – сказал Олексин. – А своего денщика знаю ровно столько, сколько живу на свете, и ручаюсь за него своей честью.
– Ваш денщик будет предан военно-полевому суду, – отрезал корреспондент и, не отобедав, спешно выехал вперед.
– Я вас предупреждал! – шипел штабс-капитан. – Иностранные корреспонденты – большая сила при штабе.
– Чего клетчатый-то сказал? – допытывался Захар.
Гавриил не стал ничего объяснять, но настроение было испорчено.
– Не расстраивайтесь, – утешал Отвиновский. – Кто поверит в эту дикую чушь?
На вечернем постое они вновь встретились с клетчатым и его кучером: оба мелькнули в трактире, заказывая ужин в номер. Перекусив, быстро разошлись, а на рассвете Гавриил был разбужен испуганным воплем хозяина. Накинув сюртук, торопливо сбежал вниз, в трактир, где уже звенели встревоженные голоса.
Корреспондент лежал поперек стола лицом вниз. Под левой лопаткой торчал складной нож, по клетчатому американскому пиджаку расползалось большое темное пятно.
– Убийство! – кричал хозяин. – Угнали коней и коляску!
Ломая руки, он бестолково метался по трактиру, то выбегая во двор, где гомонились кучера, то возвращаясь.
– Убийство! Надо сообщить полиции!
В трактире были поляк и Захар, штабс-капитан еще не спускался. Они негромко переговаривались, Гавриил их не слушал.
Он смотрел на нож: итальянец красноречиво играл им при первой встрече еще в Будапеште.
Хозяин снова выбежал во двор. Олексин огляделся и, еще ничего не обдумав, вырвал нож из тяжело вздрогнувшего тела, вытер его, сложил и сунул в карман.
– Ножа не было, – негромко по-русски сказал он. – Никакого ножа не было. Убийца унес нож с собой, понятно?
И вышел из трактира.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































