Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
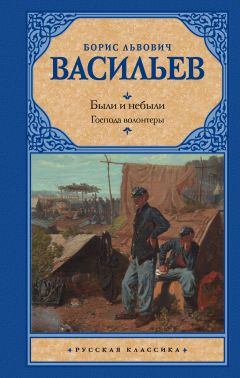
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 43 страниц)
Глава четвертая
1Воинский эшелон из платформ, занятых артиллерийскими орудиями, фурами и зарядными ящиками, из теплушек с конским и людским составом и двух классных вагонов для офицеров нещадно трясло и бросало на узкой заграничной колее. Офицеры пробирались из купе в купе, цепляясь за стенки и потирая ушибленные места.
– Казнь египетская, а не перегон, – ругался капитан Юматов, боком влетая в купе. – Нет, господа, я за старые способы передвижения. Тише едешь – целее будешь.
– Вы ретроград, капитан, – сказал Тюрберт. – Начинается век бешеных скоростей, это только цветочки.
– Ну, даст бог, до ягодок я не доживу, – проворчал капитан.
Он был старше других офицеров, картам и выпивкам предпочитал книги, за что к нему относились с изрядной долей иронии. В отличие от него собравшиеся у Тюрберта полковые приятели воспринимали дорожные неудобства как развлечение.
– Очень приятно спать, господа, – разглагольствовал розовощекий прапорщик. – При толчках отсеиваются всякие волнующие сновидения.
– Если бы нам грозила только скорость, я бы приветствовал век грядущий, – сказал черноусый майор с длинными восточными глазами. – Но я боюсь, что ученые бестии в конце концов низведут наше искусство до ремесла. И для того чтобы, скажем, попасть с первого выстрела в гарцующего на коне вражеского полководца, понадобится посмотреть в какую-нибудь хитрую зрительную трубку. И любой безграмотный остолоп будет стрелять нисколько не хуже выпускника академии. Как, Тюрберт, вы согласны жить в таком веке?
– Я встречу этот век в возрасте пятидесяти двух лет, – сказал Тюрберт, аккуратно подпиливая ногти. – К тому времени я, безусловно, буду счастливым мужем и отцом трех… нет, маловато – пяти детей и, конечно же, генералом. – Он полюбовался ногтями и спрятал пилочку в футляр. – Думается мне, что майор спутал искусство артиллерийского офицера с искусством артиллерийского наводчика. Наводчик целится и стреляет, а офицер указывает, куда целиться и куда стрелять. Поэтому офицерское искусство бессмертно: оно не зависит ни от каких ученых трубок. Оно основано не на механике, а на долге и чести.
– Эка хватили! – капитан Юматов с усмешкой покачал головой. – Это все буквально понятые философии, материи и иллюзии, господа бомбардиры. Уж ежели додумаются до трубок, о которых говорит майор, так додумаются и до ваших донкихотских представлений о чести.
– Как это вы себе мыслите? – спросил Тюрберт. – С помощью клистира для мозгов или еще как?
– Клистир для мозгов будет наверняка, – улыбнулся майор. – Тут, Тюрберт, вы заглянули в корень.
– Дальность стрельбы, – подняв палец, важно сказал капитан. – Дальность стрельбы – вот в чем вся штука.
– Что дальность стрельбы? – не понял прапорщик. – Вы говорите загадками.
– А то, вьюнош, что эта самая дальность перевернет все наши морали вверх тормашками. Вот сделает господин Крупп пушку длиной с версту и доведет ее дальность до того, что из Берлина можно будет стрелять по Петербургу. Ну и при чем тут ваша честь, долг, мораль, жалость и прочая ахинея? Когда наводчик не видит, где рвется снаряд, он, господа бомбардиры, свободен от всех грехов разом. Коль не видишь и не слышишь, так и не разумеешь, – вот каков результат. Бабах – и полтысячи душ разнесло по вселенной, так и в реляциях писать станут, то-то радость читающей публике. А каких именно душ – детских или женских – пушке все равно.
– Страшная картина, – усмехнулся Тюрберт.
– Но правдивая, – сказал майор. – В самом деле, что можно противопоставить желанию господ стратегов выигрывать войны любой ценой?
– Честь, – упрямо тряхнул головой подпоручик. – Если люди не растеряют ее, так и Крупп такой пушки не сделает. И никто не сделает, если сохранится понятие чести и благородства. Однако если допустить, что тезис отцов иезуитов «цель оправдывает средства» восторжествует в каждодневной жизни, я ни за что уже не поручусь.
– Ага, – сказал Юматов, – все же допускаете это через «однако». Значит, и ваша душа смущена, Тюрберт, смущена духом практическим, коим, как сквозняком, из всех щелей несет. Чувствуете этот ветер, господа бомбардиры? Это ветер века грядущего: отдайте ему честь и… и сдайте ему сабли.
– Это почему же, позвольте? – обиделся вдруг прапорщик. – Это я не понимаю. Почему мы должны сдать сабли?
– Потому что капитан Юматов опять всю ночь просидел над Спенсером, Шопенгауэром или еще над каким-либо очередным заумным немцем, – сказал Тюрберт. – И это вместо того, чтобы безмятежно играть в винт.
– Кстати, насчет винтика, – оживился майор. – Может…
Открылась дверь, и в купе заглянула усатая, красная то ли от ветра, то ли от усердия физиономия унтер-офицера Гусева.
– Виноват, ваши благородия, – сдерживая дыхание, сказал он. – Водички не найдется?
– Ты откуда взялся, Гусев? – удивился Тюрберт.
– Так из вагона своего, ваше благородие. Сперва по крыше, потом, стало быть, по платформе, потом обратно по крыше, а там и к вам. Мне бы водички.
– Пить захотелось? – строго спросил капитан. – А ну дыхни!
– Да не извольте думать, тверезый я, – сказал Гусев с досадой. – Мне бы ведра два.
– Ого! – сказал прапорщик. – А мы всю в самовар вылили.
– Что случилось, Гусев? – спросил Тюрберт.
– Да так… – Гусев замялся. – Сами справимся, водичка была бы.
– Говори, в чем дело.
– Да ящик зарядный горит на платформе, – с большой неохотой сообщил унтер. – Да вы не беспокойтесь, ваше благородие, там уж расчет тушит.
– Ящик? – Подпоручик вскочил. – Пять пудов снарядов, соображаешь? Если рванет, эшелону конец, балда стоеросовая. Веди!
Следом за Гусевым, виновато бормочущим: «Да не извольте же вы беспокоиться», Тюрберт, майор и юный прапорщик кинулись из купе. Капитан Юматов открыл окно и по пояс высунулся из него, пытаясь разглядеть, где горит. Но платформа с зарядными ящиками была прицеплена через теплушку от классного вагона, и увидеть из окна, что там творится, было невозможно. Убедившись в этом, Юматов закрыл окно, сел у столика и хладнокровно закурил.
В тамбуре молчаливый денщик Тюрберта колдовал над самоваром, оберегая его от вагонной качки. Увидев Гусева и ворвавшихся следом офицеров, вытянулся и лаконично доложил:
– Закипает.
– Вся вода тут, – сказал Тюрберт. – Дотащишь?
– Дотащу. Только подайте, как на крышу взлезу.
Унтер открыл дверь и ловко полез на крышу. Тесный тамбур сразу наполнился грохотом колес, стуком и скрежетом металла. Ногой сбив горячую трубу, Тюрберт схватил самовар и, аккуратно за ножки подняв его над головой, подал со ступенек. Вагон немилосердно бросало, из-под крышки самовара выплескивалась горячая вода. Тюрберт громко ругался, но терпел: майор держал его за расстегнутый мундир.
– Бери, Гусев!
– Сейчас, ваше… Зацеплюсь только.
– Осторожней, на меня не плесни. Да бери же ты, холера, горячо ведь держать.
– Ну беру, беру.
Передав закипающий самовар Гусеву, Тюрберт тут же стал подниматься на крышу, подтягиваясь на скобах. Прапорщик хотел было последовать за ним, но майор бесцеремонно отбросил его, крикнув:
– Запрещаю! Ступайте в вагон и успокойте офицеров!
Пока майор взбирался на крышу, прапорщик успел пробежать вдоль всего вагона. Он распахивал двери каждого купе и кричал:
– Спокойно, господа! Сейчас взорвемся!
На узкой, круто выгнутой крыше вагона швыряло, трясло и мотало так, что Тюрберт не мог встать на ноги. Рядом на четвереньках стоял майор, уцепившись за вентиляционную трубу, а Гусев, сидя на корточках, держал отчаянно дымивший самовар на вытянутых руках и выжидал мгновение, когда можно будет выпрямиться и одним прыжком перепрыгнуть на крышу соседней теплушки.
– Положеньице! – кричал майор. – В жизни не попадал в такую передрягу! Чего вы ржете, как жеребец, Тюрберт?
– Не могу!.. – На подпоручика напал безудержный приступ смеха. – Смертельный номер на крыше вагона!
– Ну, Господи, благослови! – крикнул Гусев и прыгнул на соседний вагон, по-прежнему держа дымящийся самовар в вытянутых руках. – Сигайте, ваше благородие! – радостно кричал он оттуда. – Подсобите с самоваром, мне одному не управиться!
– Чай будем пить на платформе, майор! – Тюрберт вскочил, оттолкнулся и с грохотом упал на соседнюю крышу. – Прыгайте, майор!
– Не получается! – Майор несколько раз честно пытался привстать и изготовиться для прыжка, но вагон бросало, и он тут же испуганно падал на колени, цепляясь за вентиляционную трубу.
– Черт с вами, майор!
Пригнувшись, Тюрберт бежал по крыше. В конце его подбросило внезапным толчком, но он успел присесть и ухватиться за железо.
– В рост-то не бегай! – с укоризной кричал Гусев. – Ты ж длинный, ваше благородие, ты ниже пригинайся, ниже! Держи самовар!
Тюрберт принял самовар. Теперь подпоручик лежал на краю крыши и отчетливо видел платформу, заставленную ящиками и орудиями. Один из ящиков горел, ветер раздувал пламя, и искры летели во все стороны. Вокруг него суетились солдаты, шинелями, шапками, а то и просто руками сбивая огонь. Он исчезал, из-под толстых досок шел густой белый дым, а потом вновь летели искры и вырывались языки пламени: ветер начинал пожар заново.
Гусев уже спустился на платформу. Он стоял на вагонных буферах, широко расставив ноги. Сзади его в обхват держал артиллерист в раздутой колоколом и прожженной во многих местах рубахе. Унтер тянул вверх руки и надсадно кричал:
– Кидай самовар! Самовар, говорю, кидай! Кидай, поймаю!
Тюрберт изловчился и, раскачав самовар, выпустил. Гусев ловко поймал его за горячие бока, перехватил и уже за ручки потащил к горящему ящику, а солдат перелез на его место, чтобы помочь подпоручику спуститься на платформу.
Вскоре с огнем и искрами было покончено. Пламя залили водой, обгоревшие места укутали шинелями; довольные солдаты сидели вокруг ящика, еще не чувствуя холода на пронизывающем ветру.
– Ну, теперя, ребята, все. Задохся он.
– Вода – первое дело.
– А я думал – не поспеем. Пра слово, думал – взорвет!
– Слава богу, обошлось. Слава богу!
Тюрберт дул на ошпаренные ладони, морщился. Возбуждение его еще не улеглось, холода он пока тоже не чувствовал и даже не запахивал мундир. Гусев принес шинель, набросил ему на плечи.
– Укройся, ваше благородие. Застынешь.
– Мерзавцы, – беззлобно сказал подпоручик. – Как все это случилось?
– Должно, искра. С паровоза. Ишь как он разошелся, что твой самовар.
– Усиль караул, Гусев. На станции набери воды в ведра, вели дневальным ящики поливать.
– Слушаюсь, ваше благородие. – Унтер добродушно улыбнулся. – Что, руки ошпарил? Дуй сильней, до свадьбы заживет.
– Нет, Гусев, ошибаешься, как раз до свадьбы-то и не заживет, – весело сказал Тюрберт. – Свадьба у меня через десять дней, вот какая история. Эй, ребята, слазайте кто-нибудь на классный вагон да майора снимите, а то он там до самых Плоешт на карачках просидит.
2– Как проехать к господам Совримовичам?
– Чого? – переспросила классическая свитка с вислыми запорожскими усами. – Мабуть, вам до пана Андрия Совримовича? Так его же нету. Он же вже вбитый.
– Да в Климовичи ему, в Климовичи, – поспешно вмешалась дородная запорожцева жинка. – То на Климовичи вам, верст семь або десять.
– Довезешь?
– Ни, не повезу, – сказал запорожец. – То ж в Климовичи, а мне не в Климовичи.
Отвиновский не умел уговаривать. Отказ он всегда воспринимал в его окончательной форме и поэтому тут же повернулся спиной к запорожцу.
– Та куда ж вы, пане милостивый? – расстроилась добрая баба. – То ж мы не в Климовичи, а ось та бричка, так та в Климовичи.
– И она не в Климовичи, – упрямо не согласился запорожец.
– Да чого же не в Климовичи, зараз когда в Климовичи? И кони те из Климовичей, бо у их сроду овса доброго не было.
– То у нас овса сроду не было, а у их…
Отвиновский уже шагал через разъезженную площадь к одинокой бричке, запряженной парой поджарых коней. Вечерело, накрапывал дождь, и вокруг не было ни души. Но бричка стояла возле питейного заведения, и Отвиновский не сомневался, что рано или поздно владелец ее отыщется.
Владельцем оказался угрюмый верзила, заросший по самые брови бурой, сроду не чесанной шерстью. Он потребовал полтину вперед, тут же торопливо выпил еще и взгромоздился на передок.
– Но, халявы!..
Заморенные кони тащились с убийственной неторопливостью, бричку трясло, и Отвиновский, сунув саквояж под сено, шел по обочине. Однако вскоре началась такая черноземная грязь, что пришлось-таки пристроиться позади пропахшего всеми кабацкими запахами необъятного кожуха возницы.
– Кто в именье живет?
– Чого?
– Кто, говорю, у Совримовичей сейчас?
– Люди.
– Какие люди? – не понял Отвиновский.
– А уси – люди. И чоловики – люди, и жонки – люди.
– И много их там?
– Кого?
– Да людей, кого же еще?
– А кто их знае. – Возница гулко икнул. – Хороша горилка у шинкаря. С духом. А у их горилки немае.
– У кого?
– Та у их, у жонок. – Верзила передернул вожжами. – Но, халявы! Пан их на войне загинул, зачем им теперь горилка?
– Значит, одни женщины остались?
– Чого?
– В именье, говорю, одни женщины теперь?
– Не, двое их. Стара да паненка. А горилки немае. И горилки немае, и радости немае. Чорно.
– Чорно, – вздохнув, повторил Отвиновский.
– Как в печи нетопленной. – Возница сокрушенно покачал головой. – Был пан – так и печь топилась, нет пана – так и хлиб с водой. Коли усих чоловиков побьют, то и уси печи погаснут.
Отвиновский промолчал. Он еще в отрочестве взял в руки оружие и с той поры убивал и делал все, чтобы не убили его самого, но никогда еще война, ставшая судьбой, не обнажалась перед ним столь ясно и беспощадно, как обнажилась она в корявых словах подвыпившего верзилы. «Значит, когда гибнет человек, в его доме гаснет огонь, – думал он. – Как просто все: смерть – и потухший очаг. И нет тепла в доме. И женщины молча сидят у остывшего пепла и жуют хлеб, запивая холодной водой. И может быть, совсем не от бедности, а оттого, что не для кого более готовить обед. Сколько же мы потушили очагов и сколько еще потушим…»
Он распрощался с возницей у старых, с облупившейся штукатуркой кирпичных столбов, ворота с которых были давно сняты, и по заросшей дороге пошел через запущенный сад. Дорога вывела его к одноэтажному, несуразно длинному дому с двумя крылами; было уже темно, но во всем доме только в двух окнах горел свет. Он остановился у крыльца, долго вытирал ноги, ожидая, что кто-нибудь пробежит по двору, выйдет, окликнет его, что хотя бы залает собака, но вокруг было тихо, сыро и печально. Он вздохнул, старательно отряхнул макинтош от дождевых брызг и постучал в дверь.
Открыла чернявая толстая женщина в переднике, испачканном мукой: то ли кухарка, то ли прислуга. Он представился, спросил госпожу Совримович, но баба смотрела настороженно и молчала.
– Кто там, Тарасовна? – спросил женский голос, показавшийся ему усталым и безразличным.
– Да вас спрашивают.
– Так впусти.
– Да не бачила я их прежде.
– Проведи в комнату, пусть обождут.
Кухарка нехотя посторонилась. Отвиновский мимо нее протиснулся в переднюю, снял макинтош и шляпу, повесил их, куда указали, и прошел в маленькую комнату, заставленную старой и случайной мебелью. Дверь за ним закрылась, и он остался один, не зная, куда сесть и следует ли вообще садиться. Впрочем, скоро открылась другая дверь, и в комнату вошла пожилая рыхлая дама с седыми волосами, густыми, еще черными бровями и заметными усиками. Отвиновский поклонился и назвал себя.
– Я друг вашего сына.
– Мой сын погиб, сударь, – строго сказала барыня. – Однако же садитесь.
– Он погиб у меня на руках, – сказал Отвиновский, садясь на подозрительно зашатавшийся стул. – Я дал ему слово повидать вас и рассказать…
Он замолчал, заметив, что госпожа Совримович со странным ужасом смотрит на него. Увидел, как жалко дрожат болезненные мешки под круглыми темными глазами, как судорожно дергаются губы, и торопливо повторил:
– Да, да, он умер у меня на руках…
– Оля! – вдруг громко крикнула барыня. – Оля, поди же сюда, поди! У нас друг Андрюши, он видел, как погиб, как погиб… Собственными глазами!
Потом, вспоминая это мгновение, Отвиновский всегда связывал его с шорохом, а не стуком, словно Оля летела к нему, шурша крыльями, а не стучала каблучками по истертому полу. Она и вправду влетела: развевающийся подол еще оставался в другой комнате, а сама Оля уже стояла перед ним.
Совримович называл ее красавицей и успел признаться, что был влюблен. Как все влюбленные, он преувеличивал красоту той, о которой мечтал: красивыми у Оли были одни глаза – черные, глубокие, в пол-лица. Перед Отвиновским стояла очень живая, вероятно, смешливая и стремительная барышня с детской грудью, длинной нежной шеей и нервными худыми руками, пальцы она сплела и так стиснула, что суставы стали совсем белыми.
– Вы друг Андрея?
Взгляды их столкнулись, и она замолчала. Не в замешательстве, ибо для него не было никаких резонов, а по той таинственной причине, по которой зачастую мужчина и женщина, лишь однажды заглянув друг другу в глаза и еще не будучи знакомы, без всяких размышлений и доводов рассудка узнают того, кого неосознанно ждали всю жизнь. Узнают судьбу свою и общую, уже неотделимую от своей, уже единую для двух сердец, и оба эти сердца в такое мгновение начинают биться согласно и восторженно. И поэтому молодые люди продолжали молча смотреть друг на друга. Оля первой опустила глаза и, покраснев, спросила:
– Значит, вы с ним вместе были там? В Сербии?
– Да, мадемуазель. – Отвиновский в задумчивости провел ладонью по лбу, не понимая, что с ним происходит и отчего так радостно забилось сердце. – Я познакомился с ним в штабе Черняева, когда Андрей уже носил черную косматую бороду, потому что ему взрывом опалило лицо…
Он замолчал, подумав, что говорить нужно не о том, что претерпел Совримович на чужбине, а о чем-то хорошем, добром, уютном. Но им – и кузине, в которую безнадежно, как вдруг подумалось Отвиновскому, был влюблен Совримович, и его матери, – им сейчас важно и дорого было все о близком человеке, погибшем где-то далеко-далеко от дома, в чужой земле и на чужой войне. И он весь долгий вечер рассказывал им все, что знал, что пережил сам, шаг за шагом приближаясь к тому моменту, когда он сказал: «Прощайте, друг», – и нажал на спусковой крючок револьвера. Сейчас Отвиновский все помнил, все видел и все слышал и, рассказывая, все время лихорадочно думал, как же ему обойти эти последние страшные секунды. Он столько лет воевал, столько лет был лишен семьи, общества, общения с милыми, воспитанными женщинами, что давно разучился обманывать даже во спасение, и теперь с ужасом ожидал, что рано или поздно признается в том, что сам собственными руками застрелил Андрея Совримовича.
Но разговор уже переставал быть плавным. Он уже прыгал и разветвлялся, отходя от случаев с Андреем, переключаясь на иные случаи, обрастая подробностями. Первое время Отвиновский не решался говорить о другом, коротко отвечал на вопросы и снова возвращался к Совримовичу. Но потом понял, что слушательницам нужны именно подробности, а не сам рассказ; им чисто по-женски хотелось знать, с кем дружил их Андрей, что ел и пил, где спал и тепло ли одевался. И вздохнул с облегчением: он и не предполагал, что женщин, оказывается, всегда интересуют подробности жизни, а не подробности смерти.
Теперь рассказов хватало на все вечера, потому что он начал рассказывать о жизни. Смерть конечна и однозначна, а жизнь не имеет ни концов, ни начал, и Отвиновский вдруг сам ощутил эту безграничность и обрадовался ей. Он словно переживал заново то, что когда-то происходило с ним, но происходило торопливо и напряженно, в постоянной борьбе, а потому походило скорее на какой-то набросок жизни, чем на нее саму. И только сейчас, в воспоминаниях, он жил неторопливо и осмысленно, внимательно вглядываясь в людей и события. Ему казалось, что только теперь он начинает понимать и этих людей, и все, что происходило тогда.
Старая барыня была очень больна и вставала только к вечерним рассказам. А днем Отвиновский часами гулял вместе с Олей по старому запущенному саду. Звенели птицы, звенели соки в деревьях, звенела молодая листва – звенела сама жизнь в эти прекрасные весенние дни.
– Мы всегда жили очень скромно. – Теперь Оля все чаще рассказывала о себе. – Когда Андрей учился, все деньги уходили на ученье, но это было как-то привычно. А когда он погиб, нам пришлось продавать последнее и экономить на дровах. Сейчас мы живем в самой серединочке дома, а крылья всю зиму не топились, пустуют и разрушаются. Я хотела идти в гувернантки или в компаньонки, но здесь мало кому нужны такие нахлебницы. Вы думали когда-нибудь о богатстве?
– Нет, – сказал он. – Я не знаю, о чем я думал. О свободе? Нет, я не думал о свободе, я просто хотел ее, как голодный хочет куска хлеба. Хотел, даже не мечтая.
– А о чем вы мечтали?
– Мечтал? – Он задумался. – Я не умею мечтать. Я умею стрелять, скакать на лошади, рубить с обеих рук. Вы сказали о богатстве, а я не знаю, что это такое и зачем людям нужно богатство. Людям нужно есть и пить, одеваться и иметь теплый угол – вот, пожалуй, и все, что им нужно. А богатство… Я бы собрал все богатства, какие только есть, и купил бы на них хлеб и одежду для тех, кто голоден и раздет.
– Рядом с нами живут очень богатые люди, однажды я была у них… – она запнулась, – по делам. Меня приняла сама хозяйка, а я смотрела на ее уши. В каждой серьге сверкало по бриллианту, на который можно было бы накормить и одеть половину уезда.
– Вы пытались получить службу?
– Золушек приглашают на балы только в сказках, – грустно улыбнулась Оля. – Мне было сказано, что если бы я была француженкой или англичанкой, то они бы, пожалуй, подумали, как мне помочь.
– А еще где-нибудь вы искали место?
– Искала, – Оля невесело усмехнулась.
– И там тоже отказали?
– Напротив, там обещали райскую жизнь.
– И что же?
– Я убежала. Бегом и немедленно.
– Почему? – Он спохватился: – Извините, я не имею права расспрашивать вас.
– Отчего же? Мне предложили большое жалованье и даже намекнули на богатые подарки, если я… хорошо пойму свои обязанности. И за все это я должна была читать романы хозяину дома.
– Всего-навсего?
– Всего-навсего. По вечерам и перед сном. А хозяин – шестидесятилетний старик с такими глазами, что я бежала оттуда три версты без передыху. А теперь жду, не придется ли бежать обратно. Простите, мне не следовало об этом говорить, но ведь вы сказали сущую правду: человеку не нужны богатства, ему нужно лишь есть, пить, одеваться и иметь свой угол.
Он ничего не ответил. Долго шел молча, потом спросил неожиданно:
– Вы собирались замуж за Андрея?
– Тетя мечтала об этом, – нехотя сказала Оля.
– И Андрей, – кивнул Отвиновский. – Я знаю, он успел сказать, что был влюблен в вас.
Оля промолчала. Шла чуть впереди него, сосредоточенно глядя под ноги. Потом вдруг остановилась.
– Скажите, господин Отвиновский, это была мучительная смерть? Тетя боится расспрашивать вас о его последних минутах, а сама говорит о них и плачет.
– Нет, – помедлив, сказал Отвиновский. – Конечно, смерть есть смерть, но не надо думать о ней, мадемуазель. Мне у вас так хорошо, как еще никогда не было, может быть, как раз потому, что я стал думать о жизни.
– И что вы о ней стали думать?
Он хотел заглянуть в ее удивительные глаза, но она упорно смотрела мимо.
– Если бы у меня был дом, я бы увез вас с собой, – угрюмо сказал он. – Да, увез бы, потому что я эгоист. Мне хорошо с вами и плохо без вас. Пусто, как в нежилом доме. Бога ради, простите…
– Почему? – Теперь она пристально смотрела на него огромными темными глазами. – Почему вы думаете, что вам плохо без меня?
– Потому что я много лет жил без вас и мне было плохо, – тихо сказал он. – Это была жизнь, это была… Я не знаю, что это было, вероятно, сплошная война, а теперь – мир. В моей душе теперь мир, Оля, и я хочу унести этот мир с собой. Но я не знаю, как это сделать.
Она продолжала молча смотреть на него, точно пытаясь проникнуть внутрь и заглянуть в самое сердце. Он не понял ее взгляда и лишь виновато развел руками.
– Я солдат, мадемуазель Оля, я не умею разговаривать с барышнями, и вы можете прогнать меня. Но я сказал вам сущую правду. Я больше никогда не вернусь к этому разговору, даю вам слово.
– Пора обедать. – Оля повернулась и пошла к дому. – Только, прошу вас, не давайте больше таких слов.
– Оля! – Он нагнал ее, рискнул взять за руку. – Оля, обождите.
– Завтра, – она впервые рассмеялась застенчиво и счастливо. – Завтра днем здесь же, хорошо?
Мягко высвободила руку и, подобрав платье, легко и молодо побежала к крыльцу. Отвиновский глядел ей вслед, радуясь и удивляясь этой прорвавшейся в ней грациозности.
После обеда Отвиновский обычно валялся на диване, читал или просматривал старые журналы, но сегодня не мог ни лежать, ни читать. Он то бродил по комнате, натыкаясь на мебель, то выходил в сад, часто доставая часы и очень досадуя, что так медленно тянется время.
После сна по заведенному исстари порядку пили чай с вареньем, а разговоры начинались потом, когда недоверчивая Тарасовна – старая и одинокая нянька Андрея Совримовича, жившая в доме на положении члена семьи, – убирала со стола. Сегодня Отвиновский ожидал этого с особым нетерпением, говорил легко и интересно, смотрел в Олины глаза, и она не опускала их, а лишь прикрывала ресницами, чуть заметно улыбаясь ему. В этот вечер он говорил о поручике Олексине, о болгарах, Стойчо Меченом и его сестре Любчо. Ему хотелось, чтобы Оле понравились его друзья, и рассказ его звучал восторженно и увлеченно, и они не сразу расслышали стук во входную дверь.
– Пана гостя спрашивают! – крикнула из передней Тарасовна. – В экипаже приехали!
Никто ничего не успел сказать, как в комнату вошел офицер в сопровождении двух жандармов. Жандармы остались у порога, а офицер отдал честь и шагнул к столу.
– Прошу прощения за незваный визит, сударыня, я лишь исполняю долг. Господин Збигнев Отвиновский?
Отвиновский уже все понял. В последний раз долгим взглядом посмотрел в глубокие, испуганно раскрывшиеся черные глаза, медленно встал и уж более не заглядывал в них. Не видел растерянности, ужаса, отчаяния, слез, которые вдруг переполнили их до краев.
– Что вам угодно?
– Мне приказано арестовать вас и под охраной доставить в Киев. Потрудитесь сдать оружие и все находящиеся при вас бумаги.
– В чем дело, господин офицер? – встревоженно спросила госпожа Совримович. – Этот господин друг моего сына и мой гость, и я хотела бы знать…
– Очень сожалею, сударыня, но этот господин – государственный преступник.
– В чем же меня обвиняют? – Отвиновский спрашивал сейчас не для себя, для Оли. – Я прибыл в Россию вполне легально, мне выдано разрешение из штаба действующей армии.
– Повторяю, что мне приказано лишь арестовать вас. Прошу оружие и бумаги.
– Оружия у меня нет, а бумаги находятся в саквояже. Позвольте достать их оттуда.
У него было оружие: заряженный револьвер лежал в саквояже. Трое в комнате, один, по всей вероятности, с лошадьми возле экипажа: четыре выстрела – и он свободен. Он выходил из худших переделок и с четырьмя неопытными жандармами справился бы без особого труда.
– Этот ваш саквояж? – спросил офицер.
– Да.
– Достаньте бумаги сами. Вещи можете взять с собой.
Этот жандармский офицер был столь молод и наивен, что собственными руками протягивал ему его спасение и свою смерть. Отвиновский открыл саквояж, сунул туда обе руки, нащупал револьвер. Оставалось лишь взвести курок, а первый выстрел – прямо в обтянутую голубым мундиром грудь – можно было сделать не доставая револьвера. Прогремит выстрел, рухнет офицер, жандармы растеряются, и у него будет достаточно времени, чтобы уложить их обоих. А там четыре шага до входной двери, еще выстрел, коляска, добрый конь – и темень. Пустынные дороги, леса, пустоши, болота и где-то совсем недалеко – Польша, а значит, спасение. Оставалось только взвести курок… Но он не мог его взвести. Бежать на глазах у женщин, ничего так и не объяснив им и оставив за собой четыре трупа, – нет, такой ценой не стоило покупать свободу. Такое бегство подтверждало, что он преступник, лишало его чести, а ею Отвиновский поступиться не мог. И поэтому раньше всех бумаг он выложил на стол заряженный револьвер.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































