Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
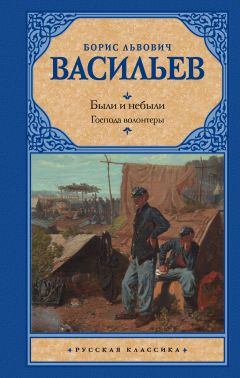
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 43 страниц)
– Спасибо, Тюрберт! – закричал Гавриил, вскочив. – Вперед, ребята! Там спасение! Там!
Вторая атака была стремительным рывком на едином дыхании. Олексин одним из первых ворвался во вторую линию, но турки опять не приняли рукопашной, опять откатились за следующие валы.
– Укрепляться! – сорванным до хрипа голосом скомандовал поручик. – Здесь их залпы нам не страшны.
На флангах слышалась стрельба, далекие крики. Олексин разослал связных, распорядился, чтоб уносили раненых, и в полном изнеможении опустился на землю. Бойцы его кое-как укреплялись, но что следовало делать дальше, он плохо представлял.
– Отходить, – пожал плечами Стоян.
– Без боя?
– Бой будет, но уходить лучше без боя, поручик. Мы достигли цели: потревожили турок, сбили их с передовых ложементов.
– Побегать, пострелять, поваляться по земле – и отойти? Странное занятие, вы не находите?
– Если хотите разобраться в этой странности, спросите своих войников, откуда у них яблоки. Кое-что я понял сам, кое-что мне растолковал Шошич.
– Какой Шошич? Мой взводный?
– Хороший командир. – Меченый одобрительно кивнул. – Его взвод поднимался в атаку первым. Он серб, но из Боснии, с левого берега Дрины, а это большая разница. Там власть султана проявляется в полную меру.
– Почему там проявляется, а здесь…
– Потому что по Дрине проходит граница Сербского княжества и Османской империи. Княжество автономно и практически независимо: оно лишь платит султану дань. А левый берег турки считают своей территорией, и сербы там – райя, то есть неверные. И для них не существует ни свободы, ни закона, как в Болгарии…
Грохот близкого разрыва заглушил слова: турецкая артиллерия открыла огонь по собственным укреплениям, занятым отрядом Олексина. Била она часто, не жалея снарядов, но пока неточно: снаряды ложились в стороне, с перелетом.
– Вот и дождались! – прокричал Меченый. – У них снарядов хватает!
– Так это же превосходно, Стойчо! – смеялся поручик. – Они сами разрушат то, из-за чего мы шли на вылазку!
Однако турки вскоре ослабили обстрел, а потом и вовсе прекратили его, перенеся значительно левее, где удачно атаковал отряд Отвиновского. У Олексина оказалось пятеро тяжелораненых и трое убитых, патроны были на исходе, турки часто постреливали, явно готовясь к атаке. Пора было отходить.
На отходе потеряли еще одного, но отошли в порядке, без отставших, своевременно выведя из боя Совримовича и Отвиновского. Вспомогательный удар Брянова пришелся весьма кстати, а сейчас и он выводил своих людей из-под огня. Дело было сделано, добились, правда, не очень многого, но и офицеры и солдаты были довольны. Опасности остались позади, и теперь вдоволь можно было и наговориться, и похвастаться.
– Благодарю, Тюрберт, – сказал Олексин, когда офицеры сошлись, чтобы обсудить вылазку. – Ваша помощь была вовремя.
– Не воображайте, что я так уж стремился оказать ее вам, – с привычной насмешливостью ответил подпоручик. – Я заботился о чести русской артиллерии, не более того.
– Ну что же, общие потери – всего девять убитых, – отметил Брянов. – Турки потеряли явно больше, сбиты с передовых ложементов, ошарашены нашей внезапностью. Результат в нашу пользу, господа, с чем я вас и поздравляю.
– А что это за история с яблоками, Брянов? – спросил Олексин. – Вы что-нибудь знаете об этом?
Брянов усмехнулся, покачал круглой, как у мальчишки, головой.
– Ходят мои сербы за яблоками. Левее нас в низинке – брошенный сад. Вот туда и ходят. И турки тоже.
– Турки?
– Там у них что-то вроде клуба. Существует джентльменское соглашение: не стрелять, когда кто-то спускается в сад.
– Веселая война, – усмехнулся Отвиновский.
– Ваше благородие, Гаврила Иванович!
Олексин оглянулся. Невдалеке маячил Захар, не решаясь подойти к офицерам.
– Француза ранило, Гаврила Иванович, в лазарете он. Вас спрашивал.
Миллье лежал под кустом на соломе, кое-как прикрытый бурой от крови холстиной. Круглое добродушное лицо его осунулось и постарело, и даже пышные усы поникли, и седина в них стала еще заметнее. Рядом, понурившись, стояли Этьен и Лео, все время зло вытиравший мокрые глаза.
– Куда его?
– В живот, – сказал Этьен. – Осколком.
– Когда же это случилось?
– Он бежал медленнее нас, когда отходили. Как раз последним разрывом.
– Старый человек, – с отчаянием сказал Лео. – Он не мог воевать, не мог! Он и убивать никого не мог, если хотите знать. Он и на баррикадах всегда стрелял мимо и приговаривал: «Господи, только бы не попасть!» А тут вы с этим ножом, ну он и пошел…
– Осторожнее, сынок, – не открывая глаз, сказал Миллье. – Зачем грузить на человека чужие грехи?
– Его смотрел доктор?
– Посмотрел, махнул рукой и сказал, что все равно помрет, – тихо сказал Этьен. – Он спрашивал о вас.
– Подождите! – Гавриил рванулся к выгоревшей на солнце санитарной палатке, откуда как раз в эту минуту донесся отчаянный мальчишеский крик.
Он вбежал в палатку и остановился у входа. Два дюжих санитара, навалившись, держали на окровавленном столе по пояс обнаженное юношеское тело, и врач, потный, взлохмаченный, в залитом кровью кожаном фартуке, с ожесточением рвал что-то длинными загнутыми щипцами.
– Яду! – по-русски отчаянно кричал юноша. – Дайте мне яду, изверги!
– Ремня тебе, а не яду, – бормотал доктор, хладнокровно ковыряясь в разрезанной ране. – Ну вот, опять упустил, ищи ее тут, в кровище. Да держите же вы его крепче, болваны!
– Яду! Яду мне, яду!
– Терпи, волонтер. Еще чуть. Вот она!
Он вырвал глубоко засевшую в плече пулю, с торжеством поднял над головой. Юноша сразу перестал кричать, только дышал тяжело, со всхлипами.
– Сейчас зашьем тебя, будешь как новенький. Что у вас, поручик?
– Тяжело ранен один из моих людей. В живот.
– Ах, этот… француз? С этим все, голубчик, такие ранения не штопают даже в госпиталях. А у меня околоток.
– Неужели умрет?
– Часа через два, – спокойно подтвердил доктор, склоняясь над раненым.
– Неужели ничего нельзя сделать?
– Ступайте, голубчик, ступайте. У меня еще четверо необработанных, а я один и уже три часа на ногах. Ступайте.
Миллье по-прежнему лежал не шевелясь, опустив серые веки на глубоко ввалившиеся глаза. Лицо его еще более заострилось, дышал он коротко и часто, беспрестанно облизывая пересохшие губы.
– Спрашивал вас, – шепнул Этьен.
Опустившись на колени, Гавриил склонился к умирающему. Серые веки дрогнули, и усы тоже дрогнули в попытке улыбнуться.
– Не хлопочите, сударь, обо мне.
– Доктор займется вами. Сейчас у него раненые…
– Не лгите. Никогда не лгите, даже во спасение. Ложь съедает человека, как моль. От лгунов к старости остается одна голая шкура. А вы молоды и… честны. Честны, я сразу это понял. Еще там, в Будапеште…
Миллье с трудом открыл глаза, и Олексин вздрогнул, в упор увидев огромные, расширенные болью зрачки. Он хотел сказать что-то обнадеживающее, бодрое, но не смог. Не смог солгать.
– Люди достойны лучшей жизни, мальчик, – с трудом, задыхаясь на каждом слове, сказал француз. – Люди, понимаешь? Не протестанты, не католики, не мусульмане – люди. Они хотят справедливости…
Голос вдруг замер, и поручик с ужасом подумал, что Миллье мертв. Растерянно оглянулся, но старик заговорил снова:
– Люди хотят справедливости, запомни мои слова. Ты молод, а значит, тебя будут обманывать, и ты… ты будешь верить в обманы. О, старики выдумали массу способов, чтобы заставить верить таких, как ты. Помни о справедливости. Помни. Помни…
Последние слова он выговорил еле слышно и вновь прикрыл тяжелые серые веки. Гавриил поднялся, машинально отряхнул брюки, Лео сказал с отчаянием:
– Не надо было ему ходить в атаку. Не надо!
– Не надо, – со вздохом согласился Гавриил. Лео посмотрел на него и замолчал. Из палатки вышел доктор, щелкнул крышкой портсигара, но прикуривать не стал. Подошел, тронул рукой лоб умирающего, покрытый крупными каплями пота.
– Он все сказал, что хотел?
– Я сделаю укол морфия, чтобы он уснул и… и не мучился.
– Значит, он… – Лео гулко проглотил ком, – он больше не проснется?
Врач выразительно посмотрел на Олексина.
– Решать вам, – тихо сказал поручик Этьену. – Я не вправе.
– Решать мне, – внятно сказал Миллье. – Спасибо, доктор. Делайте свое дело, а ты, сынок, нацеди мне стаканчик вина.
– Вам нельзя пить, – неуверенно сказал доктор.
– А умирать можно? Ну если можно умирать, то можно и выпить. Последний глоток. За Францию.
Глава восьмая
1Портупей-юнкер Владимир Олексин наслаждался свободой. Щедрый подарок нового друга подпоручика фон Геллер-Ровенбурга – резвая кобылка была еще достаточно молодой, чтобы ощутить буйный восторг седока. А полк по-прежнему пребывал в Майкопе (в Крымской поговаривали, что оттуда он двинется прямо на Тифлис и далее к турецкой границе), обязанностей у юнкера не было никаких, но он не скучал, целые дни проводя либо в седле, либо на охоте.
Правда, за подарок приходилось платить визитами к Ковалевским, но эта дружеская потачка странным прихотям фон Геллера тоже была приятной. И добрая, такая домашняя Прасковея Сидоровна, и сам подполковник, превращавшийся дома в неизменно радушного хозяина, и его постоянные друзья, к которым Олексин очень скоро привык, и, главное, три «монстры», три сестрички-погодки, прекрасные юностью и желанием нравиться, – все делало жизнь похожей на затяжной праздник. И Владимир ощущал свое пребывание в Крымской именно как праздник, искренне предполагая в каждом те же запасы радости, восторженности и великодушия, которые испытывал сам. И, постоянно пребывая в этом состоянии, уже не замечал, что визиты к Ковалевским планирует не он, а подпоручик по какой-то своей системе, что место подле рыжей девочки выбирает тоже подпоручик из каких-то своих соображений, что разговоры с ней ведет только он, предоставляя юнкеру возможность развлекать остальных сестер.
– Друг мой, извините, но вы производите странное впечатление в сочетании с этой рыжей ватрушкой, – старательно грассировал фон Геллер, время от времени поучая Олексина. – Вашему порывистому экстерьеру нужна более благородная оправа. Вот вернутся наши, я введу вас в общество, представлю барышням действительно утонченным. Вы не в претензии, юнкер, за эти дружеские слова?
– Что вы, поручик! Я и сам догадываюсь, что оттачивать оружие следует на тонком оселке.
– Вы прекрасно сказали, Олексин: оттачивать оружие надо на тонком оселке. Прекрасно, рад за вас, дружище!
Жизнь была как праздник, но иногда – особенно по возвращении от Ковалевских – праздник этот вдруг как бы отступал, и на смену радужно-восторженному настроению приходила грусть и странная безадресная досада. В грусти этой являлась Тая, ее рыжие волосы, детские веснушки на круглых щеках, глаза, в которых можно было утонуть. Владимир вертелся на постели, гнал рыжую девочку, нещадно курил и ругал себя остолопом. А утром снова вставало солнце, и в его огненной короне окончательно плавились и исчезали все ночные видения. Под Олексиным чутко вздрагивала лошадь, послушная любому его желанию, и мир, видимый с казачьего седла, обещал одни радости. И он скакал по этому распахнутому лично для него миру с ощущением неистребимого молодого восторга.
Из Майкопа неожиданно пришло известие, что в Крымскую возвращается полковник Бордель фон Борделиус. Известие это касалось только начальства, но в тесном мирке полковых тылов о нем мгновенно узнали все. Узнали и засуетились, развивая непривычную энергию и приводя в порядок то, что следовало привести в порядок, дабы избежать нотаций строгого и уныло-пунктуального заместителя командира полка. Срочно проверяли людей и лошадей, караулы и помещения, что-то подкрашивали, приколачивали, чинили, чистили, гоняли солдат, и Владимир на время забыл о безмятежной жизни, так как и ему нашлась работа. Но и здесь он не огорчался, а радовался, с упоением муштруя на плацу нестроевые команды. А подпоручик фон Геллер-Ровенбург огорчился. Сутки пребывал в меланхолии, а потом начал бурную и непонятную деятельность: куда-то уезжал, с кем-то встречался, беспрестанно гонял денщика с записочками к Ковалевским, оставаясь при этом настроенным чрезвычайно нервозно. Потратив на эти тайные дела еще двое суток, вдруг угомонился, сказался больным, полдня провалялся на койке, а затем послал денщика за Олексиным.
– Друг мой, вы верите в любовь? Горячую, безрассудную, от которой теряют голову?
– Верю, – сказал Владимир, и сердце его сжалось в неприятном предчувствии.
– Перед вами жертва такой любви, – несколько картинно вздохнул подпоручик. – Да, да, не говорите мне, что я ставлю на карту свою карьеру, что двери общества отныне закроются для меня навсегда. Это выше меня, выше спекулятивных соображений. Надеюсь, вы понимаете, о каком предмете я говорю?
Олексин молчал, растерянно вертя в пальцах папиросу. Все это так не вязалось с избалованно-ломаным фон Геллером, с милой уютной семьей, в которую юнкер радостно спешил каждый вечер, с тем ощущением вечного праздника, в котором он жил.
– Мы с Таей любим друг друга. Удивлены? Ах, Тая, Тая, бедняжка, и надо же было ей влюбиться в такого никчемного человека, как я! – Вздох подпоручика был тоже достаточно фальшив. – Скажу откровенно, я это делаю только ради нее.
– А при чем тут я? – угрюмо спросил Владимир. – Зачем вам понадобился поверенный в сердечных делах? Носить записки? Извините, поручик, я не гожусь в пажи. Я вырос из этих штанишек.
– Бросьте дуться, Олексин. Я догадываюсь, вам неприятно ощущение, будто вас водили за нос. Но ведь я и сам не понимал, что влюблен, друг мой, не понимал до последнего объяснения, до ее слез, до ее отчаяния! А увидев все это, я уже не мог остаться прежним, Олексин, не мог! Меня потащило, как в половодье, и… и я счастлив, что меня потащило! Я вдруг точно очнулся, понимаете? Очнулся от дремы, в которой пребывал сызмальства, открыл и увидел жизнь. Да, да, друг мой, я прозрел и увидел жизнь!
Даже сейчас он фальшивил, хотя фальшивил почти восторженно. Владимир чувствовал это, но еще сильнее он чувствовал незнакомую ноющую боль в сердце.
– Я бы не рискнул вас просить, но об этом просит она. Наша Тая-Лореляя.
Кажется, он сознательно сказал «наша» вместо «моя», так, во всяком случае, почудилось Владимиру. Но сознательно это было сказано или случайно, Олексину важным казалось не это. Самым важным оставалась просьба, с которой обращались к нему.
– О чем она просит?
– Быть свидетелем при нашем венчании. Мы не можем ждать согласия родных, оглашения, разрешения командования, уже не можем, понимаете? Поэтому нас обвенчают тайно: я условился со священником в соседней станице. Но нам нужен свидетель, чтобы все было по закону. И Тая выбрала вас.
– Вам придется уйти из полка, – помолчав, сказал юнкер.
– Я знаю. Я перешлю рапорт почтой.
– И на что же вы будете жить?
– У меня есть средства, не беспокойтесь. Решайтесь, юнкер. Наше счастье в ваших руках.
Олексин молчал: что-то мешало ему сказать «да», протянуть руку или хотя бы согласно кивнуть. Нет, он не сомневался в правдивости подпоручика, хотя ощущал какую-то фальшь, какую-то нечистую игру. И все же искренне верил ему, потому что за этим стояла Тая, ее решение, ее любовь и счастье. И потому, что за этой просьбой стояла именно она, он и молчал. Молчал, ощущая тревожную боль в сердце.
– Неужели вы откажете Тае в ее просьбе?
– Хорошо, – сдавленно сказал Владимир. – Что я должен делать?
– Все расскажу, друг мой, все! – обрадованно засуетился фон Геллер. – Посвящу во все тайны, но сначала выпьем шампанского. Эй, Кузьма, неси!
Венчание состоялось в ночь накануне возвращения фон Борделиуса в Крымскую; правда, эту особенность Олексин отметил позднее, когда вообще все открылось и когда ему пришлось думать так много, как не приходилось никогда. Церковь оказалась не в соседней станице, а черт знает в какой глухомани, откуда Владимир добирался обратно весь остаток ночи и добрый кусок утра. Венчал маленький, неприлично пьяный попик, венчал с постыдной поспешностью и в полном одиночестве, гнусаво подпевая себе за всех разом; церковная книга тоже была странной, и запись в ней была сделана странно. Но все эти странности и несуразности всплыли потом, а тогда там, в скупо освещенной церкви, Олексину было не до того, чтобы замечать что-либо. Он был подавлен самим фактом, суетливостью фон Геллера, отчаянными глазами Таи и собственной болью в сердце.
Он вернулся в Крымскую, когда на плацу маршировали, а возле штаба суетились вестовые, счастливо миновал знакомых и, расседлав коня, завалился спать, решив, если разбудят, сказаться больным. Не хотелось встречаться с благодушным, всегда ласково улыбавшимся ему подполковником Ковалевским.
Разбудили его уже после обеда. Довольно бесцеремонно растрясли за плечо. Он открыл глаза и узнал капитана Гедулянова.
– Юнкер, в штаб. Немедля!
– Я болен, господин капитан.
Гедулянов смотрел зло и пронзительно, Олексин ощутил вдруг почти детский страх.
– Я правда болен, господин капитан.
– Вас вызывает полковник фон Борделиус. Без всякого промедления.
В кабинете полковника сидел Ковалевский; сердце Владимира сжалось, когда он увидел его опущенные плечи, непривычно ссутуленную спину, руки, которые не находили покоя, то потирая друг друга, то теребя мундир, то поглаживая старательно выбритый череп. Юнкер сразу отвел глаза и, доложившись, смотрел только на полковника. И полковник смотрел на него, не торопясь с вопросами. Смотрел усталыми строгими глазами, точно ожидая чего-то. И спросил, так и не дождавшись:
– Что же вы замолчали, юнкер? Доложите, где были ночью.
– Ночью? – Владимир глянул на Ковалевского и сразу опустил глаза. – Ночью я присутствовал на венчанье, господин полковник.
– Венчанье? – Подполковник Ковалевский весь подался вперед, к Олексину. – Тая обвенчалась с фон Геллером? Где?
– Я не знаю, такая маленькая церквушка. Но брак освящен, я присутствовал. И расписался в книге как свидетель.
– Следовательно, обвенчались, – не то подтвердил, не то спросил фон Борделиус. – И все же это странно. Неприлично странно.
– У меня одно состояние, Евгений Вильгельмович, – с глухим отчаянием сказал Ковалевский. – Доброе имя – мое богатство, вы знаете это. Не дайте пятну пасть. Не дайте.
Полковник промолчал. Медленно прошелся по кабинету, аккуратно, всякий раз почти складываясь пополам, заглянул в каждое из трех окошек, постоял перед юнкером, размышляя. Потом открыл дверь, велел, чтобы позвали Гедулянова, и снова остановился перед Олексиным, заложив руки за спину.
– Следовательно, обвенчались?
– Так точно, господин полковник.
– Вы сознаете, что скверно начали службу в Семьдесят четвертом Ставропольском полку?
– Кроме долга службы есть долг чести, господин полковник.
– Вот именно, – задумчиво повторил фон Борделиус. – Долг чести. Именно поэтому я и говорю, что вы скверно начали свою карьеру, юнкер. Скверно.
Вошел Гедулянов. Не отрапортовав, остановился у порога.
– Поедете с юнкером в церковь, капитан, он покажет дорогу. Поговорите со священником, попросите предъявить записи о ночном венчании. Даже если все совершенно соблюдено, выразите священнослужителю мое крайнее удивление сему прискорбному факту. И скажите, что донесение о нарушении им закона мною будет послано незамедлительно.
– Дозвольте мне. – Ковалевский сделал попытку встать, но полковник удержал его. – Дозвольте лично, Евгений Вильгельмович…
– Не надо вам ехать, – грубовато сказал Гедулянов. – Идите, юнкер.
Ехали рядом, стремя в стремя, и молчали. И если Гедулянов был вообще из молчаливой породы, то Олексину это молчание казалось уже нестерпимым. Он не чувствовал за собой большой вины, с тайным торжеством ожидая, что в конечном итоге все образуется, законный брак вступит в силу и Ковалевские, поплакав, начнут радоваться счастью дочери, а холодно-непроницаемый фон Борделиус однажды улыбнется и скажет: «Знаете, юнкер, а вы, пожалуй, поступили правильно, хотя и не совсем по правилам». И тогда все офицеры полка будут наперебой жать ему руку, говорить, что он – отчаянная голова и, главное, надежный товарищ, на которого можно положиться. И Тая, вернувшись вместе с мужем после прощения, – а ее и фон Геллера не могут не простить, потому что люди всегда прощают влюбленных, – благодарно посмотрит в глаза и – поцелует. И сладкая горечь этого поцелуя будет ему наградой за все сегодняшние неприятности.
– Знаете, капитан, все будет замечательно, вот увидите, – весело сказал он, хотя ему было сейчас совсем не так уж весело, как он пытался изображать. – И тогда убедитесь, что я поступил правильно, что просто не мог, не имел права поступить иначе. Когда вас друзья просят помочь…
– Столичная шушера, – глухо, с ненавистью выдавил Гедулянов и выругался сочной казачьей матерщиной. – Привыкли над людьми измываться, барчуки проклятые. Старика, старуху, девчонку – всех готовы в грязь втоптать ради удовольствия. Ни чести, ни совести у вас нет, шаркуны.
– Как вы смеете… – возмущенно начал Олексин.
– Молчать! – гаркнул капитан. – Марш вперед, пока я тебя нагайкой не полоснул, дрянь!
Владимир съежился в седле и покорно тронул коня. Он не испугался ни окрика, ни угрозы, но в тоне Гедулянова было такое презрение, что юнкер вдруг понял легкомыслие собственных мальчишеских самообольщений и впервые ощутил леденящий позор бесчестия.
– Знать ничего не знаю и ведать не ведаю, – бойко говорил старенький попик, истово глядя безгрешными светлыми глазками. – Ночью спал без греха, как Богом заповедано, о чем у матушки справиться можете. А что до венчанья, то я законы блюду, господин офицер. И законы, и уложения, и честь свою пастырскую, не извольте сомнения иметь. Как же можно сие – без родительского благословения, без дозволения отца-командира? Да Господь с вами, молодые люди, не пугайте вы меня, ради Христа.
– Но ведь вы же венчали, вот здесь, на этом самом месте. Ведь это же было, было, не приснилось же мне все это! Батюшка, опомнитесь: вы честь мою, честь под сомнение ставите.
– Я грешен, грешен, могу и запамятовать, – суетливой скороговоркой отвечал старичок. – Но книги, книги суть истинная правда. Извольте, господа офицеры, извольте глянуть.
Не та была книга, не таким был попик, и даже церковь, весело просвеченная покойным осенним солнцем, сегодня казалась не той.
– Это не та книга, – тихо сказал Владимир. – Та новая была, я еще, помню, удивился, что новая.
– А поп тот?
– Тот самый, только трезвый. Ночью пьян был сильно: Геллер в него две бутылки шампанского влил, пока Тая готовилась.
– И церковь та? Не ошибаетесь?
– Не ошибаюсь.
– Значит, не венчали? – громко спросил Гедулянов.
– Да поразит меня гнев твой, Господи! – Священник широко перекрестился. – Да падет проклятье твое на весь род и племя мое…
– Хватит, отче, кощунствовать, – резко оборвал капитан. – В клятвах твоих наш полковой священник отец Андрей лучше меня разберется. Жди его к вечеру, не отлучайся. Поехали, Олексин.
– Это все ложь! – крикнул Владимир. – Это страшная ложь, клянусь вам всем святым! Честью своей клянусь!
Обратно ехали тоже молча, только теперь лошадь Гедулянова шла впереди. А Владимир тащился сзади, плакал от бессильного стыда и отчаяния и не замечал, что плачет. Капитан оглянулся, придержал коня; когда поравнялись, обнял вдруг Владимира за плечи, встряхнул:
– Перестань реветь. Ну?
– Я подлец, – дрожащими губами выговорил Олексин. – Я не могу больше жить.
– Ты дурак, а не подлец. Подлец там, в Тифлисе, с девчонкой. Слезь, умойся и не реви больше: к постам подъезжаем.
Ковалевского у заместителя командира полка не было. Владимир с облегчением отметил это и тут же яростно выругал себя за малодушие. Он теперь все понял и ничего не хотел больше утаивать. После краткого доклада Гедулянова, что венчание фиктивное, сам рассказал все, что знал. Рассказывал, не щадя себя, но всячески выгораживая Таю, будто это могло хоть как-то облегчить ее положение.
– Натешится – бросит, – вздохнул Гедулянов. – Хорошая девочка, господин полковник.
– Суд чести, – сказал фон Борделиус. – Я не потерплю такого пятна на чести полка.
– Он подаст рапорт об отставке.
– Рапорт мы отклоним. Суд чести, – сурово повторил полковник. – Завтра я уведомлю командира…
– Господин полковник, – с отчаянием перебил Олексин. – Разрешите мне доставить подпоручика фон Геллер-Ровенбурга в Крымскую.
– Подпоручика доставит Гедулянов.
– Господин полковник, позвольте мне. Я умоляю вас, я на колени встану, я… Я не смогу жить, если вы откажете!
– Позвольте юнкеру, – хмуро попросил Гедулянов. – Он тоже обманут, господин полковник.
– Хорошо, – подумав, сказал фон Борделиус. – Учитывая, что вы тоже в какой-то мере обмануты, я разрешаю вам это. По возвращении напишете рапорт.
– Какой рапорт? – тихо спросил Владимир.
– Рапорт о переводе в другой полк, – жестко пояснил полковник. – И это единственное, что я могу для вас сделать. В Тифлис выедете завтра, утром явитесь ко мне. Ступайте.
Владимир вышел. Фон Борделиус проводил его взглядом, нахмурился и сказал, глядя в стол и будучи очень недовольным тем, что говорит:
– Переночуйте сегодня у него, Гедулянов. Как бы этот мальчишка глупостей не наделал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































