Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
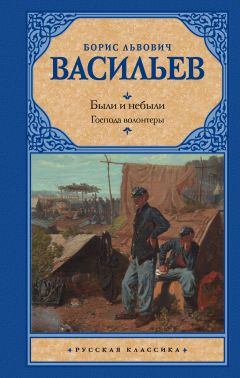
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 43 страниц)
Толстой шагал быстро, изредка останавливаясь у развилок: решал, на какую тропинку свернуть, и всегда выбирал самую глухую. Князь и Василий Иванович шли сзади; князь изредка поглядывал на спутника, точно собираясь заговорить, но Олексин упорно смотрел только перед собой, старательно выпрямляя и без того прямую спину, и разговор никак не начинался. Это выбивало гостя из накатанной годами колеи; он привык изрекать, удивлять и фраппировать, но здесь никто не поражался, и князь с легким раздражением поругивал себя за приезд в Ясную Поляну.
– У вас есть сестра? – неожиданно и даже резко спросил он, так и не придумав ни парадокса, ни каламбура.
– Целых три.
Олексин отметил этот факт с полным равнодушием, и это задело князя.
– Меня интересует, вероятно, средняя. Кажется, ее зовут Мари?
– Ее зовут Марией, – спокойно уточнил Василий Иванович. – Мать у меня простая крестьянка, и у нас не было в ходу искажения русских имен.
– Извините, не предполагал, что беседую со славянофилом.
– Уж что-что, а эта славянская дурь никогда не занимала меня.
– Славянская дурь? – откликнулся вдруг Толстой: до него донеслись последние слова. – Славянская дурь – это сказано точно.
Он остановился, достал папиросы, набитые Софьей Андреевной, закурил, с любопытством рассматривая синий дымок.
– А утверждали, что на прогулках курить неприятно, – ворчливо заметил Василий Иванович, подходя.
– Лесной воздух не принимает дым папиросы, – сказал Толстой. – Он чужд ему. Вот так и фимиам, который курим мы ложным идеям и ложным идолам, не растворяется в нас. Он лишь обволакивает и одурманивает наши души, заслоняя от них истину. А мы курим его веками, мы прокурили весь мир, надежно упрятав Бога за дымовой завесой. Неужели он приходил в мир для того лишь, чтобы ему воздвигали храмы?
– Бог есть вера, – пожал плечами князь. – А вера есть узда, с помощью которой сдерживают темные страсти и ведут народ в нужном правительству направлении. Разрушьте веру – и вместо церкви мужик пойдет в кабак.
– Бог есть мое стремление стать лучше, чем я есть, – сказал Лев Николаевич. – Это просто, и если каждый примет такого Бога в душу свою, кабаки придется закрыть. А заодно и церкви. Правда, у Василия Ивановича иная точка зрения на сей предмет.
– Мы расходимся в терминологии, – сказал Олексин. – Я принимаю вашу идею самоусовершенствования, но совершенствоваться надо через труд, а не через Бога. Бог создан человеком, Лев Николаевич, не более того.
– Верить, что Бог создал человека по своему образу и подобию, куда возвышеннее и нравственнее, чем знать, что человек выдумал Бога по своему образцу. Именно в этом, Василий Иванович, и заключается нравственность религии и безнравственность атеизма. Именно в этом!
– Вам ли бояться знаний, Лев Николаевич? – улыбнулся князь.
– Знания могут сделать человека умнее, расчетливее, полезнее для общества. Но они бессильны сделать его добрее. Душевнее, как говорят мужики. Душевнее… – задумчиво повторил Толстой. – Нет таких знаний, чтобы, уяснив их, человек стал душевнее. Разум принадлежит человеку, как сила, руки или ноги. А душа… Душа не принадлежит ему. Нет, не принадлежит, и в этом ее особливость. Душа принадлежит чему-то большему, чем сам человек, ее нельзя тренировать, как мускулы, или развивать, как мозг. Ее можно лишь постичь и, постигнув, поступать согласно ее велениям. Тогда и приходит счастье, о котором так тоскует человек. Счастье слитности с душой своей, конец борениям с нею, конец унижения и угнетения ее. И вот тогда, именно тогда, когда возникает эта слитность, эта гармония, человек и становится воистину свободным и воистину бесстрашным. Изнутри, только изнутри! Кто – я? Зачем – я? Почему – я? Какие науки могут ответить на эти вопросы? Какие?
10Легче стало не только Олексину, но и всем пленным: привезли котлы и офицерам стали разливать еду по мискам. Добродушный майор перестал потчевать Гавриила из собственной фуражки, тут же с удовольствием напялив ее на голову.
– Вот и дотерпелись, – говорил он. – Терпение, судари мои, великая сила. Благодать Божия – терпение наше!
На следующий день поручик сам пошел за едой. Он уже понемногу передвигался, верил, что выкарабкался, и считал, что должен больше двигаться. Юнкер на всякий случай шел рядом, готовый подхватить, если понадобится, да и майор поглядывал, но помощи не потребовалось.
– Вот ложечек мы еще не дотерпелись, – вздохнул майор. – Можно, конечно, и через край похлебать, а только, говорят, тут солдатик один ложки из дерева режет. Ловко режет, подлец, и продает недорого.
– У меня нет денег.
– Да он и так отдаст. Нет, право, отдаст: как же раненому офицеру не отдать? Юнкер, отнесите еду поручика к сараю.
Олексин согласился идти за ложкой только потому, что надеялся найти кого-нибудь из своей роты. Когда брел к котлу, вглядывался в изможденные, равнодушные, удивительно похожие друг на друга лица пленных, но знакомых не встречалось. А слова о солдате, что ловко режет ложки, напомнили Захара: тот тоже умел их резать, и в детстве они любили хлебать молоко с земляникой именно его ложками.
– Ну вот и добрались, – удовлетворенно сказал майор.
– Где же?..
Гавриил все же надеялся, очень надеялся и почти верил, что увидит Захара. Но Захара не было; на земле сидел рослый детина, краснорожий и рыжебородый. Заметив поручика, он сразу вскочил и вытянулся, радостно улыбаясь:
– Ваше благородие, неужто не узнаете? Валибеда я, Валибеда! Вы еще меня в батальон за подмогой посылали, да не дошел я, виноват. Лазутчики ихние перехватили, и вот… – Он виновато опустил голову и замолчал.
– Рад, что живой ты, Валибеда. Рад.
– Спасибо на добром слове, ваше благородие! – опять широко и радостно заулыбался Валибеда. – И я за вас рад, уж так рад, так рад! Вам ложечку надобно? Так я вам новую сделаю, тотчас же сделаю. Вы присядьте покуда, присядьте. – Валибеда обернулся к соседу, сказал повелительно: – Эй, борода, подстели-ка шинелку свою их благородию. Не видишь, раненые они, еле стоят.
– Так я пойду, пожалуй, – шепнул майор, пока солдаты бережно усаживали Олексина на вчетверо сложенную шинель. – Вот как славно получилось, что своего встретили.
– Славно, – улыбнулся Гавриил и еще раз сказал: – Я рад, что встретил тебя, Валибеда. Как ножик у тебя не отобрали?
– А я его, ваше благородие, в голенище пронес. Сапоги у меня старые, никто на них не позарился, вот и пронес.
Говоря, он уже ловко работал ножом, все время вертя в руках деревяшку, чтобы определить направление слоев. Определял он их безошибочно, стружка шла без сколов и заусенцев, той длины и толщины, какой хотел мастер.
– Из нашей роты никого не встречал? – помолчав, спросил Гавриил. – Захара моего или французов?
– Из нашей роты никого, как на грех, – вздохнул Валибеда. – Может, в другом каком лагере? Пленных много они набрали, ужас как много.
В лагере уже слышался шум и гогот турецких солдат, но никто на это не обращал внимания. Турки часто ходили смотреть на пленных и неизменно весело хохотали: что-то смешило их при виде покорного людского стада.
И сейчас между пленными брел низенький толстый турок с глуповатым, ухмыляющимся лицом. Люди такого стиля обычно исполняют роль шутов, привыкают к этой роли, и идиотическая усмешка точно прирастает к ним, выражая готовность потешать. Турок шел медленно, выбирая жертву для той шутки, которую от него ждали и не исполнить которую он уже не мог. И остановился перед Валибедой.
Увидев турка, Валибеда быстро сунул нож под шинель, на которой сидел поручик, и заулыбался тревожно и заискивающе. Турок неторопливо протянул руку, цепко ухватил Валибеду за косматую рыжую бороду и стал раскачивать его голову из стороны в сторону. Все примолкли, даже турецкие солдаты, что частью толпились на границе лагеря, а частью шли за шутом в ожидании потехи. И в тишине стало слышно, как часто и испуганно дышит Валибеда. Свободной рукой турок вдруг быстро приспустил шаровары, и тугая струя мочи ударила Валибеде в лицо. Он захрипел, забулькал, замотал головой, а струя била в бороду, в рот, в глаза, и громко, восторженно улюлюкая, хохотали турки.
У Гавриила потемнело в глазах, он слышал уже не стук, а клекот своего сердца где-то в гортани и поэтому не кричал, а только хватал воздух. Хотел встать и не мог, не мог, не было сил, и он шарил по земле руками, чтобы найти, на что опереться. И нашел, нащупал и сразу – даже не понял, нет! – всем существом ощутил, что это – нож. И тут же перестали дрожать колени, перестало клокотать сердце, точно окаменев. Он вскочил легко, одним прыжком, будто не было ни ранения, ни плена, ни голодовки. Рванул турка на себя, развернул и с размаху снизу вверх ударил ножом. Турок закричал тонким, пронзительным голосом, а поручик все бил и бил ножом, ощущая, как брызжет чужая кровь, и ничего не чувствуя, кроме яростного торжества.
Не чувствовал он и тогда, когда его оттащили от рухнувшего турка, повалили и начали бить – жестоко и злобно, насмерть. Он сопротивлялся и бил сам, пока не вырвали нож. Повязка соскочила, кровь лилась из открывшейся раны, но он не ощущал ни ее, ни боли, даже когда вдруг перестали убивать. Кровь заливала глаза, он ничего не видел; его тут же подхватили под руки и куда-то быстро поволокли. «Вот и все, – лихорадочно подумал он. – Но я уже ничего не боюсь. Ничего. Я перешагнул…» Он не успел додумать, что же именно он перешагнул и почему это так для него важно. Его грубо поставили на ноги; он качнулся, но устоял, когда вдруг отпустили.
– Кажется, мы знакомы? – на чистейшем французском языке спросил кто-то.
Гавриил отер лицо, успел глянуть, пока кровь снова не залила глаза. Перед ним стоял молодой турецкий офицер. Что-то знакомое мелькнуло в сознании, но Олексин не стал напрягать память.
– Вы мерзавцы! – громко сказал он, нимало не заботясь, поймут ли его. – Я ненавижу и презираю вас. Презираю!
Офицер что-то сказал, поручика опять подхватили под руки, опять поволокли. Теперь-то он точно знал, куда и зачем его волокут, и опять не боялся, с гордостью думая, что перешагнул. Но подтащили его не к стенке и не к заготовленной могиле, а вволокли в дом и усадили на стул. И кто-то – он не видел кто – стал осторожно и бережно обмывать его лицо и рану на голове. Он успел понять, что это доктор, что его перевязывают, и потерял сознание.
Очнулся на койке; он был раздет догола и накрыт простыней. Болела голова, болело жестоко избитое тело, но боль не мешала думать, и он сразу все вспомнил. Вспомнил спокойно: сейчас в нем не было той яростной ненависти. Сейчас он был не тем, кто бил ножом визжащего турка, но и не тем, каким он был утром. Он был иным, он чувствовал, что стал иным, но в чем именно иным, каким иным, он не знал, да и не хотел знать. Он вспомнил о том ослепительном открытии, которое объяснилось ему одним словом – перешагнул, знал, что он действительно перешагнул словно бы через самого себя, что уже никогда не будет таким, каким был прежде, и улыбнулся разбитыми губами, прощаясь с самим собой.
Потом пришел худой доктор с печальными глазами. Лопотал что-то, осуждающе качая головой. Санитар принес белье и одежду – не его, но тоже волонтерскую и чистую; все оказалось чуть великовато, и пришлось подвернуть рукава. Одевался он сам, хотя это было трудно: кружилась голова, все сильнее болело тело. Гавриил подумал, что поболеть всласть этому телу так и не удастся, и усмехнулся. Он был убежден, что его расстреляют, а то, что до этого им вздумалось перевязывать его, он объяснял для себя судом, перед которым он сейчас предстанет.
Когда он оделся, его повели под усиленным конвоем, которым командовал немолодой сумрачный унтер-офицер. Его вели по улицам села, и встречные турецкие аскеры что-то гневно и зло кричали ему вслед. Лагерь военнопленных был в стороне, за садами, – он догадался по шуму, – и вели его не к лагерю, а к отдельному домику на окраине. Начальник караула вошел в дом, быстро вернулся и проводил Олексина до дверей.
Поручик распахнул дверь, вошел и остановился у порога. Он ожидал увидеть суд, но в комнате был только изящный, улыбающийся и смутно знакомый турецкий офицер.
– Как чувствуете себя? – Вопрос был задан на безукоризненном французском языке.
– Благодарю. – Теперь Гавриил припомнил яблоневый сад, гнедого жеребца и ловкого насмешливого офицера, который прискакал тогда по его требованию.
– Поздравляю: вы спаслись чудом.
– Вы полагаете, я спасся?
Офицер улыбнулся, мягким жестом приглашая во вторую комнату. Там возле накрытого стола в почтительной позе стоял пожилой денщик. Офицер вежливо поклонился Гавриилу.
– Прошу.
– У меня отбили аппетит.
– Вы молоды и неукротимы, и рюмка коньяка воскресит все ваши желания.
Хозяин был учтив и приветлив, и Олексин, поколебавшись, сел к столу. Молча выпили коньяк, молча посидели, так по-разному глядя друг на друга: хозяин улыбался, но избитое, распухшее лицо гостя было сурово и непроницаемо.
– Кажется, вы нарушаете Коран? – спросил поручик, чтобы что-нибудь спросить.
– Я родился и вырос в Париже. Кстати, мои аскеры убили ваших парижан. Жаль, я бы с удовольствием поболтал с ними.
– Зачем вам эта встреча? – спросил Олексин. – Хотите подсластить пилюлю? В этом больше жестокости, чем в кулаках ваших солдат.
– Ешьте, вам пригодятся силы. Потом будем пить хороший кофе, курить хорошие сигары и ждать, когда стемнеет. Правда, сегодня полнолуние, но что же делать.
– Легче будет целиться, – буркнул поручик, принимаясь за еду.
Он вдруг ощутил волчий аппетит. Ел неторопливо, со вкусом, а хозяин прихлебывал вино, с интересом наблюдая за ним.
– Вы христианин, я мусульманин, и мы сидим за одним столом, – сказал он. – Сидим, не чувствуя никакой ненависти, во всяком случае, я ее не чувствую. И естественно возникает вопрос: а существует ли она вообще, эта ненависть к иноверцам, которую веками внушали нашим народам? А может быть, мы молимся одному Богу, только называя его по-разному? Вам не приходило это в голову?
– А вам не приходило в голову, что войны происходят тогда, когда Бог засыпает?
– Это мысль! – рассмеялся турок. – В таком случае он слишком часто спит.
– Естественно: он одряхлел и измучился, пытаясь хоть как-то организовать то, что натворил, не подумав о последствиях.
– О, вы атеист?
– Я не знаю, кто я, так что можете смело считать меня атеистом и бунтовщиком и распорядиться о расстреле. Благо полнолуние, как вы отметили.
– К сожалению, вы правы. – Хозяин перестал улыбаться. – Вы не просто бунтовщик, вы – убийца. Вы закололи того несчастного идиота. Закололи, как барана: на его теле оказалось двенадцать ран.
Олексин вдруг ощутил все эти раны. Ощутил физически, собственной рукой, наносящей удар за ударом в мягкий человеческий живот, услышал пронзительный визг толстого турка и судорожное клокотанье в горле Валибеды. Аккуратно и неторопливо вытер губы салфеткой, расправил ее, положил на стол.
– Я не жалею об этом.
– Вас расстреляют, как только прибудет начальство.
Сердце Гавриила сжалось, но он заставил себя улыбнуться и спросил почти спокойно:
– Надеюсь, мы успеем до этого выпить кофе?
Они выпили кофе, и турецкий офицер отпустил денщика. Вышел вместе с ним, долго отсутствовал, поручик курил в одиночестве, не чувствуя аромата дорогой сигары. Потом хозяин вернулся. Походил по комнате, размышляя, сказал, понизив голос:
– Я проведу вас через наши посты, дальше пойдете один. Возьмите фляжку – пригодится.
Олексин хотел спросить, но не мог подобрать слов. Он верил, хотел верить, что турок говорит правду, но вопрос, почему турок поступает именно так, однажды мелькнув, больше не приходил: его уже занимало другое. Молча сунул в карман фляжку, встал, выжидающе посмотрел на офицера.
– Готовы? Идемте.
Небо было почти сплошь затянуто тучами, луна появлялась редко, только в просветах. Они шли по пустынной улице, и турок негромко объяснял, где сейчас находится Олексин и куда ему следует идти, чтобы миновать турецкие гарнизоны. За последними садами села их окликнули, офицер что-то ответил, и часовой пропустил их беспрепятственно. Они миновали его, и местность вдруг осветилась холодным лунным сиянием.
– Подождем, пока скроется луна, – сказал турок. – Отсюда держите прямо на север, до Моравы. Берегом выйдете к своим.
– Зачем вы это делаете?
– Не знаю. – Турок пожал плечами. – Я поставил себя на ваше место и понял, что поступил бы так же. Следовательно, вы правы, вот и все.
Странный мокрый хрип раздался за спиной поручика. Он оглянулся: в трех шагах от него на дереве висело что-то распухшее, непонятное, еле шевелящееся.
– Что это?
– Болгарин. Смотрите-ка, еще жив!
Олексин шагнул ближе: к дереву за ногу был подвешен человек. Страшно разбухшая от прилива крови голова напоминала шар, распухший язык вывалился из раскрытого рта, из носа и ушей сочилась кровь. Свободная нога странно загибалась книзу, уже надрываясь в паху; человек с мучительным хрипом пытался шевельнуть ею, сдвинуть, но она задеревенела и уже не слушалась его.
– Карагеоргиев, – шепотом сказал Гавриил, вглядевшись в налитые кровью, выпученные глаза повешенного.
– Да, болгарин, – равнодушно повторил офицер. – Он подданный султана и, следовательно, изменник.
– Это бесчеловечно, – сдерживаясь, сказал поручик. – Это чудовищно и… Пристрелите же его!
– Да, это жестокая смерть, – согласился турок. – Как вы говорили? Война – это когда засыпает Бог? Вероятно, ему снятся кошмарные сны. – Он достал револьвер, протянул Гавриилу. – Пристрелите сами, если хотите.
Поручик взял револьвер, взвел курок, подошел вплотную к висевшему болгарину. От него уже дурно пахло: он разлагался, заживо пожираемый мухами.
– Прости меня, Карагеоргиев.
Карагеоргиев, напрягшись, выговорил что-то невнятное, из горла потекла кровь. Гавриил сунул ствол в распухшее ухо, нажал спуск. Треснул выстрел, тело вздрогнуло и замерло, чуть раскачиваясь от удара. Олексин вернулся к офицеру, протянул револьвер.
– Что он прохрипел?
– Он сказал одно слово, – нехотя пояснил поручик. – Самое последнее: «БОЛГАРИЯ!»
– Осталось четыре патрона. – Офицер покрутил барабан. – Три вы можете использовать по своему усмотрению, но последнюю пулю советую оставить для себя, если вам снова будет угрожать плен. – Он протянул револьвер Олексину. – И держите все время на север.
– Благодарю.
Турок молча поклонился, гибким жестом коснувшись лба и сердца.
Небо медленно очищалось от туч, луна все чаще освещала землю, но Гавриил благополучно миновал открытое место и успел углубиться в лес. Он держал путь, ориентируясь по Полярной звезде, которую когда-то, еще в детстве, ему показал Захар. И глядя на эту звезду, он вспоминал Захара, его неожиданное обращение «племянничек» и жалел, что сам никогда не давал ему повода так к себе обращаться. Голова его чуть кружилась, избитое тело начинало болеть все сильнее, но он шел легко и быстро, потому что был свободен и шел к свободе.
Начались густо поросшие лесом пригорки; спуски и подъемы были круты, но луна светила в полную силу, и Полярная звезда сияла ему, как маяк. Он не позволял себе отдыхать, торопясь добраться до Моравы, но, с ходу взяв крутой подъем, запыхался и остановился. Достал фляжку с коньяком, сделал глоток и, пряча фляжку в карман, ощутил вдруг сладковатый трупный запах. Оглянулся: в кустах ничком лежал труп в знакомой волонтерской форме.
Теперь он шел медленно, всматриваясь, боясь наступить на человеческие останки. Стойкий трупный запах усиливался, и вдруг по изломанным кустам, по разбросанным пожиткам, патронам и оружию он понял, что идет сейчас по собственной позиции.
«Пахнет только чужая смерть, – с горечью подумал он. – Только чужая…»
Левее должна была быть поляна, он взял левее и вышел на нее; даже навес на ней сохранился. Он остановился перед этим навесом, не решаясь приблизиться, но заставил себя сделать шаг и заглянуть. И вздрогнул: на окровавленных клочьях шинели лежал обрубок без рук, без ног и без головы. Все это валялось рядом: черная цыганская борода дико и нелепо торчала среди отрубленных конечностей.
«Расплата…»
Он ни о чем не подумал, пришло только это слово. Оторвав кусок шинели и завернув в него голову Совримовича, нашел на небе Полярную звезду.
Он шел и думал о том, что пахнет только чужая смерть и что эта чужая смерть и есть расплата за все. За ошибочные теории и фальшивые идеи, за просчеты политики и тупость правителей, за спровоцированную ненависть и фанатическую жестокость – за все, что есть преступного и подлого на земле, платят чужими жизнями и чужими смертями. За все – одна цена, потому что пахнет только чужая смерть и запах ее никогда не достигает кабинетов, в которых решаются судьбы людей.
К рассвету он вышел к Мораве. Мутная, разбухшая от дождей, она бежала перед ним, крутясь и пенясь. Он долго смотрел на темную воду, а потом стал на колени и бережно скатил в нее отрубленную голову Совримовича. Подхваченная быстрым течением, она не утонула – ее завертело, понесло, и он еще долго видел белое лицо и черную цыганскую бороду…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































