Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
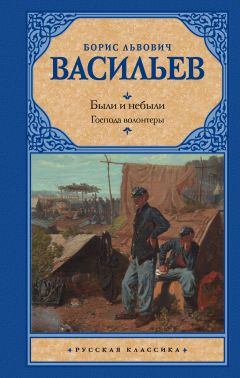
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 43 страниц)
За «прогулку» влетело, но, как всегда, одному Скобелеву.
– Ты что – поручик? Урядник вроде Цертелева? Почему сам в воду полез?
– Мгновения берег, ваше высочество.
– А если бы утоп? Русский генерал сам собой в Дунае утоп – то-то радости туркам было бы!
– Так ведь не утоп же.
– А мог! Мог! – Великий князь глядел строго, но строгость была напускной, и Скобелев это чувствовал. – За геройство прощаю, за самоуправство наказываю. Завтра государь прибывает в Плоешти, но ты его встречать не будешь. Ты в Журже будешь торчать безвылазно. Безвылазно, Скобелев!
– Слушаюсь, ваше высочество, – с облегчением сказал Скобелев, радуясь, что дешево отделался.
Для встречи царского поезда на перроне Плоешти были выстроены генералы и особо отличившиеся полковники, Александр II с чувством расцеловал Непокойчицкого, стоявшего первым согласно должности, обнял Шаховского:
– Тебя благодарю особо, князь, ты первых героев России подарил. Напомни имена.
– Полковник Струков, ваше величество. Барбошский мост – его заслуга.
– Подойди, полковник, – позвал следовавший за государем главнокомандующий.
– Знаю о тебе, – сказал Александр, когда Струков подошел. – Однако уже, кажется, награжден за это? А кого сам отличил?
– Урядник Евсеев и казак Тихонов достойны Георгия, ваше величество.
– Представь мне их сегодня же. Герои не должны ожидать наград.
– Слушаюсь, ваше величество.
От вокзала до дома плоештинского обывателя Николеску, выбранного под временную резиденцию императора за огромный сад, по обе стороны улицы были шпалерами выстроены болгарские дружины. Они стояли недвижимо, держа на караул тяжелые винтовки системы Крнка, и Александр время от времени поднимал руку и кричал:
– Молодцы! Молодцы, болгары!
За коляской следовал конвой и почетный эскорт офицеров гвардии. Гвардейцы ехали молча, учитывая торжественность момента, восторженные крики жителей, толпившихся за черными рядами ополченцев, и присутствие высших чинов армии и государства. Тюрберт, только что вернувшийся из Петербурга, не смотрел по сторонам, сдерживая нетерпеливого, то и дело сбивавшего аллюр и норовившего скакать боком кровного жеребца. Жеребец был свадебным подарком тестя, и подпоручик еще не привык к нему.
– Вот Самарское знамя, Тюрберт, – сказал скакавший рядом капитан Юматов.
Тюрберт равнодушно скользнул взглядом по знамени и рослому знаменосцу и вдруг невольно придержал коня, ломая ряд. Впереди следующей болгарской роты с обнаженной саблей стоял ее командир, и лицо этого командира показалось подпоручику удивительно знакомым.
– Что с вами, Тюрберт?
– Ничего, – сказал подпоручик, отпуская жеребца. – Показалось, что лицо знакомо еще по Сербии. Только чушь, этого не может быть…
Перед вечером Александр и главнокомандующий уединились в кабинете. Николай Николаевич расстелил знаменитую схему, показал расположение корпусов и дивизий, артиллерии, резервов и обоза.
– Как видишь, все изготовлено к прыжку.
– Никополь? – спросил государь.
Великий князь загадочно улыбнулся. Легким движением карандаша не без самодовольства очертил турецкие крепости правого берега.
– И Никополь, и Рущук, и Силистрия – все ждут. Я бомбардирую Никополь и держу в Турну-Магурели корпус Криденера. Веду усиленную разведку Рущука и возвожу возле Журжи осадные батареи. Мало того, через несколько дней я начну переправу в Галаце, и турки из всех крепостей двинут туда резервы. А это будет всего лишь демонстрация, и я запутаю турецкий штаб настолько, что они потеряют веру в собственных шпионов. – Он вдруг понизил голос: – Плоешти кишит турецкими шпионами. Там, где появляюсь я, все кишит шпионами!
– Значит, возле Галаца будет лишь демонстрация переправы? – спросил Александр, давно знакомый с болезненной подозрительностью брата.
– Да, но об этом знаем только мы с тобой да Непокойчицкий.
– Ты сознательно жертвуешь людьми?
– Жертвую малым, чтобы уберечь главное. Это стратегия.
– Это идея Непокойчицкого?
Идея принадлежала Н. Н. Обручеву. Главнокомандующий не любил этого свободно мыслящего генерала и поэтому ответил уклончиво:
– Я принял ее.
– А где же будет настоящая переправа?
– Позволь мне доложить об этом позже.
– Ты еще не принял решения?
– Окончательно я приму его завтра на месте. Если не возражаешь, я возьму твой поезд и сегодня же ночью с полным соблюдением тайны отбуду в… Разреши мне умолчать о конечном пункте последнего совещания, он очень близок к предполагаемому месту переправы. Дело ожидается серьезное, и я боюсь, что турки могут раньше времени узнать об этом. Сейчас они мечутся по всему берегу, перегоняя резервы из одного пункта в другой, завтра ринутся в Галац, куда я брошу Восемнадцатую дивизию, а когда узнают правду, будет уже поздно. Дорогой брат, кругом лазутчики, кругом шпионы, поэтому я вынужден молчать даже перед своим государем.
Александр долго смотрел на любовно и старательно раскрашенную схему. Его не обижало то, что главнокомандующий не сказал о своих планах ничего существенно важного даже ему, императору. Он думал сейчас не об этом и даже не о предстоящем форсировании Дуная – он думал о словах, которые обязан был сказать. Слова эти должны были стать историческими, но ничего исторического в голову, как на грех, не приходило.
– Береги патроны, – сказал он, так ничего и не придумав. – Эта современная мода на скорострельное оружие родилась от неверия в солдат. А солдат должен стрелять прицельно и точно и чаще ходить в штыки. И да благословит Бог все твои труды на благо отечества, как я благословляю тебя.
В огромном саду, со всех сторон окружавшем дом Николеску, в этот вечер был разбит походный бивак сводного конвоя его величества. Горели костры, сад был ярко иллюминирован, приглашенные офицеры гвардии, сопровождавшие Александра от вокзала, ждали выхода государя подле террасы.
Он появился в сопровождении великого князя главнокомандующего уже в сумерках. Офицеры воодушевленно крикнули «ура», но Александр поднял руку, призывая к молчанию.
– Сначала я хочу исполнить самый приятный долг государей и поблагодарить нижних чинов за геройскую службу, – сказал он. – Где твои герои, Струков?
В стороне от блестящей офицерской группы скромно стояли два бородатых казака. Струков махнул им рукой, и они, старательно топая, подошли к Александру и замерли, выпятив грудь.
– Что за дьявольщина? – удивленно прошептал Тюрберт. – Мне все время мерещатся знакомые лица.
– Перекрестись, – сквозь зубы сказал Юматов.
– Благодарю за геройскую службу, – говорил тем временем император, пристегивая к казачьим мундирам Георгиевские кресты, поданные дежурным флигель-адъютантом. – Ура в честь первых героев этой войны, ура!
– Ура! – коротко и дружно рявкнули гвардейцы.
– Надеюсь, что еще услышу о ваших доблестных делах во славу отечества, казаки.
– Благодарим покорно, ваше величество! – вразнобой ответили казаки и с топотом вышли из сада.
– Не стойте во фронте, господа, и подойдите поближе. – Александр подождал, пока гвардейцы окружат его со всех сторон. – Я душевно рад видеть всех вас, представителей моей доблестной гвардии, на театре военных действий. Бог благословил нашу справедливую войну доблестью и геройством сынов отечества всех званий и чинов. Вы видели сейчас героев казаков, а главнокомандующий доложил мне о геройском сражении, которое имела шлюпка лейтенанта…
– Скрыдлова, – подсказал великий князь: он любил демонстрировать свою поразительную память на фамилии.
– …Скрыдлова с двумя броненосцами противника. Бог отметил нас и в этом случае и уберег от гибели, пощадив всех нижних чинов, бывших в бою. Но в вашей доблести и чести я уверен особо. Я желаю дать вам возможность участвовать в делах и отличиться, но не хотел бы, чтобы все вы пошли в первое большое сражение. Поэтому я приказываю вам разделиться на две очереди согласно вашему добровольному желанию. Первая очередь пойдет на переправу, когда ей прикажет главнокомандующий, а вторая – в другое дело уже за Дунаем.
Офицеры молча поклонились, изъявляя свое полное согласие с монаршей волей.
– Доложите, когда установите очередь, мне это интересно. До свидания, господа. Да хранит вас Бог в предстоящих подвигах, как хранил он нижних чинов лейтенанта… Скрыдлова, – с напряжением припомнил император и обрадовался.
– С делами не задержу, гвардейцы, – пообещал главнокомандующий, уходя вслед за государем в дом. – От сего дня уже часы считайте.
– Жеребьевка, господа! – объявил полковник Озеров, когда офицеры остались одни. – Поручик Ильин, пишите имена – и в шапку.
Фамилии присутствующих были записаны тут же у террасы при свете иллюминации. Поручик Ильин аккуратно скатал жребии и опустил их в чью-то подставленную фуражку.
– Нас тридцать восемь, – сказал Озеров. – Следовательно, первые девятнадцать фамилий и есть счастливчики. Кто потащит?
– Полагалось бы душе безгрешной, – улыбнулся капитан Юматов. – Но поскольку безгрешные души давно уж спят сном праведников, предлагаю, господа, назначить ангелом подпоручика Тюрберта. Третьего дня у него закончилась медовая неделя, и с той поры он вряд ли успел много нагрешить.
– Господа, предупреждаю: у меня тяжелая и, главное, своенравная рука.
– Ладно, Тюрберт, тащите.
– Чур, не передергивать!
– И обратите очи горе, когда нащупаете жребий. А то я знавал одного фокусника, так он, господа, сквозь бумажку фамилии читал.
– Ну, Господи, благослови! – Тюрберт опустил руку в фуражку, задрал, как велено, лицо к небу и не глядя протянул первую записку поручику Ильину.
– Озеров! – громко прочитал Ильин. – Поздравляю вас, полковник.
– Вы подхалим, Тюрберт, – сказал Юматов. – Привыкли ублажать начальство.
– Случай, – пояснил Тюрберт. – Я щупал свою фамилию: она у меня колючая.
Одна за другой появлялись записки, звучали фамилии: капитан Мицкович, поручик Поливанов, капитан Косач, поручик Прескотт… Отзвучали восемнадцать жребиев, и Озеров предупредил:
– Последняя, Тюрберт. Достанете ее, а остальное вместе с фуражкой можете вручить флигель-адъютанту Эндену: это уже второй сорт.
На этот раз Тюрберт перебирал жребии особенно долго, точно и впрямь искал что-то на ощупь. Веснушчатое лицо его покрылось бисеринками пота от напряжения.
– Да скоро вы там, поручик?
– Не мешайте, он молится своей звезде, которую зовут Лора.
– Тюрберт, признайтесь, вы колдуете?
– Ну что вы, в самом-то деле?
Тюрберт вытащил записку, сунул Ильину:
– Ну, Павлик?
– Тюрберт! – крикнул удивленный Ильин. – Нащупал-таки себя, каналья!
– Ура! – заорал Тюрберт, вскакивая. – Шампанского, господа! Ставлю на каждого по паре бутылок, хоть упейтесь!
Офицеры гвардии еще пили шампанское под песни, хохот и соленые шутки, когда из черного хода дома господина Николеску одна за другой выскользнули четыре фигуры в длинных черных плащах с поднятыми воротниками. Старательно пряча лица, быстро направились к воротам.
– Стой! – закричал часовой, некстати оказавшийся поблизости. – Стой, кто такие? Отзовись, стреляю!
Один из четверки шагнул к нему, отогнул отворот плаща.
– Не узнал, морда? Я оборотень оборотеньевич, понятно? Так и доложи дежурному офицеру. Кругом марш!
Обалдевший часовой, мгновение помедлив, опрометью бросился исполнять приказание, а таинственная четверка без помех добралась до вокзала, где под парами ожидал царский поезд. Как только они сели в вагон, поезд без свистков тронулся в путь, быстро набирая скорость. Через час он остановился на глухом полустанке, где прибывших ожидали верховые лошади и очень небольшая охрана.
– Обманули мы все-таки турецких шпионов! – довольно отметил великий князь Николай Николаевич-старший, садясь в седло.
– Благодарите меня, батюшка, – сказал сын. – Если бы не моя находчивость, сидеть бы нам всем четверым под арестом в караулке.
Учитывая темень, Непокойчицкий позволил себе насмешливо улыбнуться.
Четверо всадников и конвой бешеным аллюром мчались по темным дорогам. Их часто останавливали многочисленные разъезды и часовые; тогда скакавший впереди начальник конвоя свешивался с седла и шепотом произносил одно слово:
– Зимница…
Глава пятая
1Брянов всегда был человеком ответственным и точным. Именно эти качества и спасали его до сей поры не только от отставки, но и от каземата, потому что при всей настороженности и недоверии к вольнодумствующему офицеру начальство не могло не ценить его служебного рвения и профессиональных достоинств. Его послужной список мог быть образцом для многих армейских офицеров.
Странное чувство полной внутренней гармонии, испытанное им на Скаковом поле Кишинева в день объявления войны, не исчезло в армейских буднях. Капитан уже не удивлялся и не умилялся вселившемуся в него твердому ощущению правоты, закономерности и необходимости того дела, которому он сейчас служил.
Путь до Зимницы был тяжелым. Тридцати-сорокаверстные переходы начались еще по весенней слякоти, по засасывающей грязи разъезженных и размытых дорог. На ночевки останавливались в чистом поле, и солдаты валились на мокрую землю, порою так и не сняв ранцев. Палаток не получили, обозы оторвались, негде было ни обогреться, ни обсушиться, но никто из его роты не заболел, а отставшие к полуночи подтягивались и на заре снова оказывались в строю. Солдаты в этом адском походе спали по шесть-семь часов, а Брянов и его субалтерн-офицеры довольствовались пятью, а то и четырьмя. Надо было разместить людей, напоить хотя бы чаем, как-то устроиться со сном и дождаться отставших. Еще в самом начале похода Брянов отказался от положенной ему лошади и шел вместе с солдатами; уже на второй день степенный и немногословный фельдфебель Литовченко раздобыл где-то легкие дрожки, в которые и запрягали теперь смирную бряновскую лошаденку. Дрожки тащились сзади, слабосильным разрешалось сгружать на них ранцы, а то и проехать пять-десять верст. Это было нарушением порядков, но командир полка помалкивал, и бряновская 12-я рота, на удивление многим, оказывалась на утренних перекличках в полном составе.
– Самоуправствуете, Брянов? – спросил как-то командир 3-й стрелковой роты капитан Фок. – Изнежите нижних чинов, разбалуете – не боитесь последствий?
– Сбитых ног боюсь больше.
– А гнева генеральского? – не унимался Фок, славившийся в полку особой въедливостью. – Его превосходительство генерал-майор Михаил Иванович Драгомиров человек академический.
– Полагаю, что и генералу солдат дороже буквы устава.
– Знаете, Брянов, есть солдатофилы по призванию, а есть по самоистязанию. Сдается мне, что вы из второй половины.
– А вы, Фок?
– А я старого закала, и для меня любой из моих стрелков есть лишь инструмент, при оружии состоящий. – Фок удобно покачивался в седле, сверху вниз глядя на месившего грязь Брянова. – Насморк еще не схватили?
– Я здоров.
– Ну помогай вам Бог. – Фок тронул коня, нагоняя свою роту, но тут же придержал его. – Между прочим, мои стрелки волокут для меня палатку. Заходите обогреться.
– Благодарю, Фок, я еще в Сербии привык спать под открытым небом.
– Ох уж эта мне волонтерская гордость!
Брянов жалел и щадил своих солдат, хотя если бы эти марши были учебными, он бы покачивался в седле впереди своей роты с тем же спокойствием, что и Фок. Но роте предстояли бои, и рота была чужой: ее прежний командир, заболев еще в Кишиневе, освободил капитану всего лишь должность, а не место в ротных рядах, слитых долгой совместной службой. И, шагая впереди, Брянов думал не только об отставших, но и о себе самом, о своем месте в роте.
Место это не определялось ни уставом, ни опытом, ни офицерским званием. Солдаты были дисциплинированны и старательны, делали все, что полагалось делать, но ровно настолько, чтобы не вызывать гнева командира. Он оставался для них по-прежнему чужим; они преданно таращили глаза и вытягивались, но немедленно замолкали, стоило командиру приблизиться к вечернему костру. Брянов был опытным офицером и прекрасно ощущал эту солдатскую настороженность, это постоянное наблюдение. Его изучали не менее пристально и досконально, чем он сам изучал своих солдат, и никто не торопился с дружескими улыбками. И даже то, что он отдал своего коня для слабосильных и месил грязь наравне со всеми, нисколько не уменьшило солдатской настороженности, а может быть, в какой-то степени и усилило ее.
– Чудит господин ротный.
– Мягко стелет, братцы, каково-то выспимся?
– И крест у него какой-то чудной.
– Ненашенский. А за что дали, поди вон да погадай.
– Тихо, братцы, идет…
– Вот, стало быть, и говорю я куме: здорово, говорю, кума… Встать! Смирно!
– Вольно. Садись.
Ветер дул в сторону Брянова, и он слышал каждое слово. Но не обижался на солдат, скорее наоборот, ему нравилась в них этакая неторопливая основательная приглядка к тому, кто в скором времени поведет их в огонь, от хладнокровия, выдержки, самообладания и опыта которого будет зависеть их жизнь. Легко сходясь с людьми своего круга, Брянов испытывал огромные затруднения в разговорах с солдатами. Он был человеком чутким и легко чувствовал ту бодряческую фальшь, к которой привычно прибегали солдаты в разговорах с офицерами; она угнетала и оскорбляла его. Он не принадлежал к числу тех «отцов-командиров», которые кокетничали простецкими словами, присаживаясь к солдатским кострам и ведя беседы на выдуманном, грубом и пошлом языке, который сами же именовали хамским. Это была чудовищная смесь сальных шуток, матерщины и простонародных словечек, произнести которые он не смог бы при всем своем желании. Таким, например, был командир 1-й стрелковой роты капитан Остапов – квадратный увалень с оловянными глазами. Он сыпал у костров грязными прибаутками, провоцируя солдатский гогот, очень хвастался этим, а встав поутру в дурном настроении, не знал иных слов, кроме «харя» да «рожа», ругался и сквернословил, а то и хлестал солдат по щекам, как истеричная барынька сенных девок.
– Солдат – дитя неразумное, но испорченное, – говорил он. – У них все помыслы о бабах, господа, дальше фантазия не работает. Коль распустишь – завтра же первой встречной юбки задерут, и карьерка ваша тю-тю. А передо мною они – как перед отцом родным. Боготворят, трепещут и любят, господа, да, любят!
– Как они вас любят, Остапов, это мы после боя оценим, – усмехался Фок.
Фок откровенно сторонился солдат, но зато и не занимался рукоприкладством, чем грешили, по правде говоря, многие офицеры. Он был неутомимо требовательным, быстро и беспощадно взыскивал за любое упущение и никогда не хвалил. В его речи не было даже знаменитого русского «братцы», с которым к солдатам обращались все, начиная с седовласых генералов и кончая безусыми прапорщиками.
– Какие они мне, к дьяволу, братцы? Они механические человеки, при винтовке состоящие. И как механизму им положено масло и щелочь, остальное – излишество. Фельдфебель, рота смазана?
– Так точно, вашбродь, накормил!
– Выдай на привале по банке щелочи, чтоб ржавчину смыло.
– Слушаюсь!
Под щелочью в роте понималась винная порция, под смазкой – еда. И как бы там они ни назывались, а стрелки капитана Фока всегда были своевременно «смазаны» и «выщелочены»: за этими двумя процедурами презиравший не только нижних чинов, но и все человечество капитан Фок следил с неусыпным вниманием.
Стремясь сблизиться, стать своим, а значит, понятным для солдат, Брянов не спешил подружиться с офицерами. И потому что на это почти не было времени, и потому что попал он в одну из лучших дивизий «по случаю», и это тоже налагало определенную печать на его положение в полку. Правда, о подробностях его назначения знал только командир волынцев полковник Родионов, но Брянов не мог забыть их первого и пока единственного разговора и понимающей, хорошо спрятанной в усах усмешки полковника.
– Мне приказано дать вам роту, капитан.
– Благодарю.
– Меня-то не за что. Мы, армейцы, далеки от столицы и ко многому не привыкли. Служба у нас скучная, капитан.
– Я не ищу веселья, господин полковник.
– Какое уж тут веселье. Признаться, удивлен весьма. Поэтому уж не посетуйте, буду посматривать. Помилуй бог, а вдруг спросят: ну как там наш протеже?
– Надеюсь, что не спросят, господин полковник.
– А я, знаете, на себя все больше привык надеяться, так-то оно спокойнее. Ну что же, приступайте.
На этом и кончился разговор. Разговор кончился, а осадок от него остался и точил душу капитана недосказанными словами и замаскированными усмешками.
Ближе всех офицеров, с которыми Брянов старался поддерживать спокойные товарищеские отношения, как-то вдруг стал штабс-капитан Ящинский. Молчаливый, скорее замкнутый, никогда, даже в походе, не расстававшийся с книгой. Рота его славилась песнями, до которых сам штабс-капитан был большой любитель. Солдаты пели при первой возможности, будь то в пути или на привале, причем пели действительно хорошие песни, а не ту несусветную полупохабщину, что перекочевала из старой бессрочной николаевской армии. К этой поющей роте на привалах тянулись офицеры: замкнутый Ящинский был неизменно молчаливо любезен.
– Не удивляйтесь, если он с вами за весь вечер и слова не скажет, – предупредил прапорщик Лукьянов, уговорив Брянова подойти к офицерскому костру соседней роты: давно стояли биваком близ Беи. – Он у нас молчун, а вот солдатики его любят.
Штабс-капитан сидел у костра с неизменной книгой. Улыбался подходившим офицерам, жестом приглашал к чаю и молчал. Это никого не смущало, но говорить, когда так вольно и покойно пели солдаты, тоже никому не хотелось; полковые врали, болтуны и ругатели здесь, как правило, не появлялись.
– Как поют! – восторгался склонный к элегической грусти поручик Григоришвили. – Во всех ротах слова кричат, а у вас – песню поют. Отчего так, Ящинский?
Ящинский молча улыбался. Выпив два стакана густого, пахнувшего дымом чая, Брянов уже собирался идти к себе, как Ящинский неожиданно отложил книжку и с обычной благожелательной своей улыбкой заглянул ему в лицо.
– Я слышал о вас, Брянов.
У костра никого, кроме денщика, не было: грустный Григоришвили увел Лукьянова ближе к поющим. Слова сказаны были тихо, но – со значением.
– Что же именно?
– Я слышал о вас от Василия Фомича Кондратовича.
Брянов промолчал: Кондратович был членом пропагандистского кружка, за участие в котором Брянову в свое время грозили нешуточные неприятности. Он давно ничего не слышал о прежних друзьях – и потому что потерял связи, и потому что многое пересмотрел заново, во многом разуверился и от многого отказался. Пока он обдумывал ответ, Ящинский не выдержал первым:
– Я бы не напомнил, если бы вы не отдали солдатам свою лошадь. Тем более что Василий Фомич в тюрьме.
– В двадцать лет человек жаждет переделать мир, – сказал Брянов. – В тридцать он думает уже о том, что переделка мира хороша только в том случае, если миру от этого станет хоть чуточку лучше. В сорок он служит, стараясь добиться этого улучшения хотя бы на своем крохотном участочке. А в пятьдесят он уже нянчит внуков и испуганно вздрагивает от выстрелов в Южной Америке. Вот так он живет до самой смерти, а потом его внуки открывают заново те же идеалы и идут точно тем же путем.
– А к какому возрасту мне отнести вас, Брянов? – тихо спросил штабс-капитан.
– Пока война – к строевому. Я верю в нее, Ящинский, и давайте отложим все, пока она не кончится.
– Что вы предлагаете отложить? Извините, я не понял вас.
Брянов долго молчал, вороша палкой костер. Красиво и слаженно пели солдаты, и это мешало сосредоточиться. Ящинский терпеливо ждал.
– Всем нам дорого отечество, – сказал наконец капитан. – Мы не выбираем его, как не выбираем мать и отца, которые дарят нам жизнь. Нам досталось больное отечество, мы чувствуем его болезни, мы пытаемся изыскать средства к лечению его и… и этим служим ему. Хирург, который отпиливает гангренозную ногу, спасает жизнь, хотя и доставляет мучения. Все это правильно, и я приветствую необходимость радикальных изменений, направленных на оздоровление всего организма.
– Но при этом относите себя к возрасту строевому?
– Больной, которого мы полагали безнадежным, встал, чтобы помочь соседу выгнать из дома разбойников. Имеем ли мы в этом случае нравственное право напоминать ему о болезни?
– Да, но ведь самый главный-то симптом его болезни – социальная несправедливость, Брянов.
– История иногда преподносит парадоксы, Ящинский. Самое несправедливое общество сегодня несет высокую справедливость. И во имя этой справедливости мы обязаны забыть несправедливость внутреннюю. Существует тактика, и существует стратегия, и стратегия диктует сейчас иные формы.
– Что ж, я понимаю вашу позицию, капитан, – подумав, сказал Ящинский. – Как знать, какие песни зазвучат после этой войны?
Он улыбнулся привычной улыбкой и уткнулся в книгу. Брянов молча откланялся и ушел в свою роту. Ночью ему приснились качели, и он проснулся от собственного крика. К счастью, никто не слыхал: рота спала, занавесившись мощным храпом, денщик прикорнул возле потухшего костра. Ночь выдалась теплой и тихой, но вблизи реки было туманно и сыро.
Брянов не выспался, заря еще только занималась, но он так и не решился прилечь снова. Он до ужаса боялся этого сна, бывшего когда-то явью…
Это было в последний юнкерский отпуск; он приехал в именье к матери и сестре счастливый, молодой, веселый, влюбленный в дочь начальника училища, старого друга отца. Отец к тому времени уже погиб, мать тяжело переживала утрату и часто болела, но крепостное право отменили совсем недавно, выкупные деньги пока не растратились, и бедность не нависла еще над маленьким барским домом сельца Копытово Рязанской губернии. Ни бедность, ни несчастья: все было впереди.
Он качал на качелях десятилетнюю сестренку – звонкое, стремительное и ясноглазое существо. «Выше! – кричала она, смеясь. – Еще выше! Еще!..» И на самом большом махе, когда качели встали почти параллельно земле, оборвалась веревка. Брянов до сих пор слышал тупой стук: сестренка головой ударилась об угол сарая. Пять дней она не приходила в себя, пять дней лежала неподвижно и отрешенно, а потом оправилась, стала разговаривать, шевелиться, даже ходить, но уже ощупью, навеки оставшись слепой. Вскоре умерла мать, не перенесшая второго удара, и слепая, беспомощная девочка с той поры стала крестом Брянова. И он безропотно нес этот крест всю жизнь, раз и навсегда отказавшись от собственной любви. Нес со спокойным достоинством, никогда не жаловался, ничего не рассказывал, но до холодного пота боялся снов со взлетающими качелями. «Выше! Еще выше! Еще!..»
– Это кто там? Вы, Брянов? – Из тумана выросла длинная фигура дежурного по полку капитана Фока. – Будите своих офицеров: через полчаса выступаем.
– Куда?
– Кажется, к Зимнице. – Фок был непривычно сдержан и серьезен. – Кажется, мы и есть те самые пешки, которых приказано провести в дамки во что бы то ни стало.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































