Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
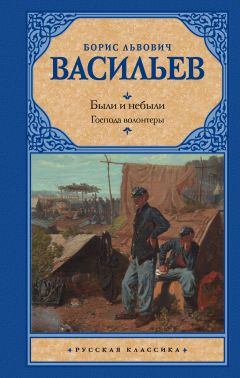
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 43 страниц)
Казалось – внешне, для всех, но не для Маши, – что ничего не изменилось ни в старшем Олексине, ни в самом московском доме, по-прежнему жившем размеренной, неторопливой жизнью. Этой жизни не помешали ни приезд барышень, ни внезапное, как обвал, появление Федора: как всегда, отец завтракал один, обедал с теми, кто находился дома, отдыхал после обеда, пил чай за общим столом и рано уходил к себе. А спал мало и тревожно, и Маша, за полночь подкрадываясь к дверям, слышала его тяжелые шаги, чирканье серных спичек и – редко, правда, – неясное бормотание. Отец разговаривал то ли сам с собой, то ли с теми, кто уже ушел из его жизни, нанеся ему этим новые горькие обиды.
– Здоровы ли вы, батюшка? – осторожно спрашивала она.
– Я здоров, здоров совершенно, – всякий раз с неудовольствием отвечал он. – А ты учись, учись… Идите с Таей на курсы, в пансион – куда желаете. Только не хороните себя со мной. Вам жить надо. Жить.
На курсы Маша и Тая уже опоздали, прием был закончен, но вольнослушательницами их зачислили. Каждое утро они бегали на лекции и возвращались потрясенные: мир открывался со стороны неожиданной. По вечерам, перебивая друг друга, пересказывали Федору, что прослушали днем, невольно дополняя сухие факты личным отношением. Федор держался как старший – с покровительственной иронией.
– Девичья психология – самая неустойчивая из всех мыслимых психологий, – говорил он, очень заботясь о впечатлении, которое производит на малознакомую рыжую девушку. – Слишком отчетливый примат эмоционального над рациональным мешает вам охватить предмет в целом. Вы цепляетесь за частности, как за булавки, пытаясь каждую пристроить на место, да так, чтобы общий вид при этом был вполне элегантным. А наука – материя беспощадная, барышни, ей чужды внешние приличия.
– Нам сказали, что скоро всех поведут в анатомический театр, – округляя глаза, сказала Маша. – Я обязательно шлепнусь в обморок. Обязательно!
Тая молчала, улыбаясь. Но чем чаще они встречались с Федором, тем все более эта улыбка теряла грусть. Опущенные уголки губ уже выравнивались, а порой и загибались кверху, придавая улыбке задорную загадочность. И тогда Федор начинал хмуриться и опускать глаза, а Тая – чаще улыбаться.
– Глупости все, глупости, – сердито бормотал он, не решаясь оторвать глаз от стола. – Еще неизвестно, чему и как вас учат на этих курсах.
О себе он ничего не рассказывал и даже не потрудился объяснить, зачем приехал в Москву. Исчезал с утра, но возвращался хмуро-озабоченным и в откровенности не пускался. Дела, по всей вероятности, не очень-то ладились, но обнадеживали – Маша судила об этом по отсутствию отчаяния, в которое с легкостью впадал Федор при малейшей неудаче. Она хорошо знала его, но знала того, прежнего, а о том, что он стал иным, об этом не догадывалась. И даже не заметила, что известие о гибели брата он воспринял совсем по-новому, не так, как воспринял бы его до ухода из Высокого. Он просто промолчал, когда она рассказала ему о дуэли. Молчал, странно, непривычно потемнев. Посидел, сдвинув брови, покивал и ушел тут же, при первой возможности. Два дня избегал разговоров, молча ел, молча слушал, а на третий день сказал неожиданно:
– Не добежал наш Володька.
– Куда не добежал? – не поняла Маша.
– До хомута. Понимаешь, мы все необъезженные какие-то. Наверное, большинство людей с детства объезжены, и хомут свой – тот, в котором им всю жизнь пахать, – хомут тот они спокойно надевают. А мы спокойно не можем, мы мечемся, крутимся, бесимся, ищем – до той поры, пока жизнь нас не объездит. Ваську она в Америке объездила, меня – в чистом поле, Гавриила в Сербии объезжают. Потом, когда нас объездят, и мы впряжемся. И воз свой тащить будем, и ниву пахать до гробовой доски. А юнкер наш не добежал. Горяч оказался.
– Как ты можешь? – с тихим упреком спросила Маша. – Как ты можешь так холодно философствовать? Ты… ты черствый человек, ты ужасный человек, Федор. Ты – циник.
– Я циник, – согласился Федор, – но все-таки я добежал. Чудом, но добежал. А Володька…
– Прекрати! – Маша топнула ногой.
– Больше ни слова не скажу, извини. Только, знаешь, грош цена тому, кого даже смерть ближнего ничему не учит. Грош цена, сестра, так-то. – Федор покосился на нее, сказал, отвернувшись: – А что полагаешь меня человеком черствым, то… приходи в воскресенье утром к университету. Только не одна, а с Таисией Леонтьевной.
Больше он ничего объяснять не стал. Маша посоветовалась с Таей, и обе, повздыхав, решили пойти. В следующее воскресенье, чуть светать начало, спустились вниз. В прихожей был Игнат. Он только что принял от разносчика пачку газет и теперь раскладывал их, готовясь идти к барину.
– Что это, газеты? – Маша очень удивилась: отец никогда не читал их, уверяя, что они навязывают волю. – Зачем столько? Откуда?
– Приказано все получать, – с достоинством пояснил Игнат. – Батюшка ваш теперь без них и к столу не выходят, а сегодня воскресенье, и разносчик опоздал.
– Читает? – с недоверчивым удивлением спросила Маша.
– Аккуратно читают-с, – подтвердил камердинер. – Все читают, что про Сербию пишут. Вот новые несу, серчают уже, поди.
– Это он о Гаврииле беспокоится, – озабоченно сказала Маша, когда они спешили к университету. – Он же всегда смеялся над газетами, всегда! А теперь, видишь, читает. Со страхом читает, известие боится встретить. Ах, какой он, какой! В любви к детям стесняется признаться, в беспокойстве за них. А ведь любит, любит, Таечка!
– Любит, – подтвердила Тая. – И тоскует, наверно.
Она думала о своих родителях в далекой Крымской. Она решилась написать им, получила ответ, полное прощение и слезную просьбу вернуться. Проплакала ночь и ответила отказом. И не потому, что нынешняя жизнь ее сложилась интересно и обещающе, но и потому, что много переплакала, передумала и давным-давно, еще в Тифлисе, свернула на ту дорогу, по которой домой не возвращаются.
Были еще обстоятельства, которые держали ее в Москве сильнее, чем дружба Маши, – ученье и будущее место в жизни – то, что переполняло ее уже сейчас торжественным ощущением долга. Было, крепло с каждым вечером, радовало и ужасало, но в этом Тая боялась признаться даже самой себе.
Барышни вышли очень рано, но чем ближе подходили к Кремлю, тем все люднее становилось на воскресных московских улицах. И потому что прихожане тянулись в церкви и соборы на призывный перезвон колоколов; и потому что лабазники и приказчики открывали лавки, и первые покупательницы уже судачили у дверей; и потому, наконец, что молодежь явно спешила туда же, куда торопились и барышни. Эта часть публики была настроена шумно и бесцеремонно: громко переговаривались, окликали друг друга, пели, смеялись и с особым вниманием разглядывали девушек.
– Не спеши, – сквозь зубы сказала Маша. – Пусть пройдут: я не могу, когда на меня пялят глаза, как в балагане.
Они остановились, разглядывая носки собственных башмаков, и пошли дальше, когда схлынул основной поток студенческой молодежи. И опоздали: в конце Волхонки бородатый, со сверкающей бляхой на могучей груди дворник растопырил руки:
– Нельзя, барышни! Не велено!
У Маши было лишь две реакции на запрещения: гордое молчание или надменная отповедь. Ни то ни другое здесь не подходило, и Маша растерялась. Но Тая не в пример подруге умела разговаривать и с такого рода людьми. Проворковав что-то жалобное и дважды назвав бородача дедушкой, она сокрушила дворницкое «не велено» и, схватив Машу за руку, кинулась вперед.
– Дальше все одно не пустят! – прокричал вдогонку дворник. – Раз не велено, так напрасно так-то!
Их задержали снова, но они все же пробрались на Моховую. Здесь стояла цепь из городовых и дворников, а за цепью виднелось множество студентов, заполнивших улицу перед университетом.
– …требуем воскресных лекций! – высоким голосом кричал кто-то, возвышаясь над толпой. – Дайте всем возможность учиться! Это наше право, и мы требуем…
– Федор Иванович! – ахнула Тая.
Маша сразу узнала брата, но молчала от страха: ей казалось, что стоит признаться, что они знают оратора, как вся эта мундирная свора тотчас же бросится на них и на него. Но полиция никаких акций пока не предпринимала, и Федор продолжал кричать:
– …позор, что женщин не допускают в наши университеты! Во всей Европе допускают, и только мы продолжаем ставить им преграды! Это произвол и надругательство над свободой личности! Мы требуем отмены позорных решений…
– На тебя какой-то господин смотрит! – вдруг испуганно зашептала Тая. – Улыбается и сюда идет. Ой, ей-богу, сюда!
– Идем отсюда скорее, – не повернув головы, скомандовала Маша.
Сердито уставясь в землю, они пошли назад, изо всех сил стараясь никуда более не смотреть.
– Мария Ивановна? – тихо спросили сзади. – Машенька?
Даже если бы вдруг прогремел выстрел, сердце Маши не забилось бы сильнее, чем забилось сейчас. Она узнала этот голос, как узнала бы его из тысячи других голосов. И обернулась сразу, на ходу, точно ей скомандовали обернуться именно так, с ноги.
– Аверьян Леонидович?
Протянула руку, стала вдруг краснеть и, как всегда, зная, что краснеет, начала сердиться и от этого краснеть еще больше. Беневоленский, зажав шляпу под мышкой, улыбался, держал ее руку в ладонях и с такой откровенной радостью сиял глазами, что Тая сразу все поняла.
– Вот и нашел вас, вот и нашел, – торопливо говорил он, все еще не отпуская ее руки. – Помните, обещал, что непременно найду, – там, в Смоленске? И – нашел. Знал, что придете сюда, право, уверен был, что рано или поздно, а придете. Я же не мог ошибиться, правда? Не мог, потому что вы – такая, вы мимо любого храма пройдете, а этого не минуете, не можете миновать. С тех пор как узнал, что в Москве вы, с тех самых пор и хожу сюда как на службу воскресную.
– Вы знали, что я в Москве? Откуда же знали?
– А у меня есть добрый человек. Вы мне писать запретили, так я Дуняшу попросил. Ей упражнение, а мне сюрприз. Получил ее каракули и сразу сюда кинулся.
Разговаривая, они совершенно забыли про Таю, глядели только друг на друга и улыбались только друг другу. Но сейчас Беневоленский отпустил Машину руку и поклонился Тае.
– Хоть и не представлен, а знаком. По каракулям Дуняшиным знаком.
– Федя выступает, – сказала Маша, не зная, о чем еще говорить, и пугаясь, что может наступить молчание.
– Да пусть его.
– Это опасно? – строго спросила Тая. – Его могут арестовать?
– Вряд ли. Ну, может, продержат до вечера в холодной.
Разговаривая, Аверьян Леонидович смотрел только на Машу. Тая отметила это, сжала подруге локоть, шепнула:
– Это же он. Он, понимаешь? Я так счастлива за тебя!
Маша понимала, что это он, что это ее судьба, и тоже была счастлива.
Впереди раздались свистки, цепь городовых заколыхалась. Беневоленский схватил барышень за руки, увлек подальше, к Арбату.
– Здесь становится душно. Может быть, немного погуляем?
Он повел барышень гулять, а потом в студенческую столовую, где им очень понравилось. Там за длинными столами весело хлебали щи и кашу из простых оловянных мисок. И у кого не было денег, тот уходил, не расплатившись, а у кого были, те клали сколько могли в такие же оловянные миски, стоявшие на каждом столе. Все это было удивительно ново, просто и прекрасно.
– У меня к вам просьба, – понизив голос, сказал Аверьян Леонидович во время этого обеда. – Дело в том, что я теперь не Беневоленский и не Аверьян Леонидович. Нет, нет, не пугайтесь, я никого не убил и ничего не украл, но так уж случилось, что зовут меня Аркадием Петровичем Прохоровым. Так, на всякий случай для посторонних.
И это они если и не очень поняли, то приняли без вопросов, потому что и эта таинственность тоже была по-своему прекрасна и нисколько им не мешала. После обеда они опять много гуляли, договорились встречаться, назначили где и когда, и Беневоленский, а ныне господин Прохоров, уже к вечеру проводил их до дома.
У подъезда стояла коляска, запряженная парой. Кучер привычно дремал на козлах.
– У вас, кажется, гости, – сказал Беневоленский, останавливаясь. – Нам лучше расстаться здесь.
– Какие же у нас могут быть гости? – удивилась Маша. – Но все равно, вы правы. До завтра?
Он осторожно пожал ее руку и задержал.
– Я счастлив, Машенька. Я очень счастлив сегодня.
– Правда? – Маша радостно закраснелась. – Я рада.
В доме барышень встретил толстый Петр. Вопреки обыкновению равнодушное, ленивое лицо его выражало сегодня испуганную озабоченность.
– Чья это коляска? – спросила Маша. – У нас гости?
– Доктор приехали, – сказал Петр шепотом. – У барина они. Худо барину.
Подхватив платье, Маша через три ступеньки влетела наверх. Без стука распахнула дверь в спальню.
Отец лежал в постели; рядом стоял пожилой доктор в золотых очках. Он старательно капал в рюмку капли, считал их и поэтому сердито посмотрел на вбежавшую Машу.
– Что с батюшкой?
– Шум вреден больному, – с отчетливым немецким акцентом сказал доктор, аккуратно досчитав сначала капли. – Нужен покой.
– Упали они, – тихо сказал Игнат; он сидел на стуле возле дверей и сейчас тяжело поднимался. – В кабинете упали.
– Как упал? Почему? Доктор, что с ним?
– Газета, – невнятно и с трудом сказал отец.
– Газету они читали, – пояснил Игнат, горестно вздохнув.
Газета валялась на полу в кабинете. Маша подняла ее, пробежала глазами и как-то сразу нашла то, что имел в виду отец.
По сообщению австрийского Красного Креста, среди пропавших без вести русских волонтеров в Сербии числился поручик Гавриил Олексин.
7– Стюарт Милль считал оскорблением человеческого достоинства самую мысль о необходимости доказывать безнравственность войны. Самую мысль, граф!
Князь Насекин говорил непривычно длинно, непривычно ссылаясь на чужой опыт и непривычно горячась. Он чувствовал эту непривычность, как чувствуют одежду с чужого плеча, заметно нервничал и от этого все больше терял спасительную насмешливость. Он привык поражать собеседников ленивыми парадоксами, но на сей раз собеседник не поражался, слушал с вежливым равнодушием, и князь позабыл о парадоксах.
– Признаться, я не был поклонником вашего знаменитого романа именно по этой причине. Вы доказываете в нем безнравственность безнравственности.
– Не перечитывали? – осведомился Толстой.
– Намереваюсь.
– Чтобы утвердиться в этом мнении?
– Чтобы понять вас, граф. Состояние войны есть состояние перекошенной народной нравственности; вы сами подчеркиваете мысль, что война есть болезнь народа. Возможно, я ошибаюсь?
– Цели войны вы исключаете. – Толстой не спрашивал, а утверждал, подводя итог. – В этом состоит ошибка.
– Цели! – Князь неприятно улыбнулся одними губами. – В Сербии сотнями мрут русские волонтеры. Вы беретесь объяснить, с какой целью они там мрут?
– Сербское безумие не имеет цели, – вздохнул Толстой. – Аксаков наивно уверен, что самодержавие и православие – это идеалы народа. А суть славянофильства в том, что оно ищет врага, которого нет, – это мысль Герцена, князь.
– Может быть, всякая война есть лишь печальный итог поисков врага, которого нет? Вы не допускаете такой мысли?
Толстой остро глянул из-под насупленных бровей. До этого он не смотрел на князя, а если и смотрел, то вскользь, не встречаясь глазами. А сейчас искал взгляда и, встретив его, глядел долго и пристально. Потом сказал:
– Когда обывателю кричат «бей!», он идет и бьет. Полагаете, с ненавистью? Нет, без злобы бьет, даже с радостью. Значит, не врага он видит, а лишь разрешение. Разрешено бить, он и бьет, а бить с позволения начальства – в этом вроде бы и греха нет. Солдат тоже с дозволения убивает и потому тоже злобы никакой не чувствует. До поры, пока его самого убивать не начинают. Вот тогда он стервенеет, тогда он и о дозволении убийства как бы забывает, тогда он уж не приказ исполняет – он жизнь свою защищает. Тогда и цель появляется. Простая цель: убей, пока тебя не убили. На войну такой цели, конечно, не хватит, и войны она никакой оправдать не может. Ну а если народ убивают, тогда как? Если весь народ под картечь подвели и фитиль запалили, если жизни его, существованию самому угрожают, тогда прав он в злобе своей или не прав? Я считаю, что прав совершенно и что ваше соображение необщо, хотя и парадоксально. Отечественная война такой и была, а вот Крымская кампания такой не стала, хотя и там кровь лилась, и там солдатики себя защищали с остервенением. Но – себя, а не народ. Себя самих! А Милль что ж. Путаник ваш Милль. На бастион бы его.
– И все же, граф, согласитесь, что вы некоторым образом допускаете софистику. Народ прост и глуп, а вы любуетесь им, и… сочиняете вы его, граф, сочиняете! Перо ваше великолепно, в сочинительства ваши верят, а к чему приведут они?
– Дождь пошел, – сказал Толстой. – Я погулять хотел, а вы как? Со мной или здесь, в тепле, под крышей? – Он посмотрел в окно, приоткрыл, высунулся. – Василий Иванович, кончили с Сережей? Может быть, в Засеку со мной? Ну так наденьте плащ да сапоги, обожду! – Прикрыл окно, оборотился к гостю: – Так как же, князь? Решайтесь, и для вас сапоги сыщем. Простые, правда, и грубые, зато сырости не пропускают.
Князь опять улыбнулся одними губами. Он не впервые виделся с Толстым, знал его по Москве, но знал иного – холодно-аристократичного, холодно-корректного, холодно-замкнутого. А сейчас с ним разговаривал человек, который, слушая его и отвечая ему, все время напряженно думал о чем-то далеком от этого разговора и оживлялся тогда лишь, когда в беседе их возникало что-то ведущее туда, в его мысли. Князь чувствовал это, но никак не мог определить тех точек, которые соединили бы его с Толстым не хлипкими мостками сдержанной вежливости, а единым потоком общих размышлений. А ему хотелось влиться в этот поток, ощутить его глубину и холод, и потому он сказал:
– Что ж, я с удовольствием. Если сапоги сыщете.
Сапоги отыскались быстро, гость и хозяин оделись и вышли на крыльцо. Дождь припустил сильнее, и они задержались под навесом, ожидая, когда появится Василий Иванович.
– Вы не рассматривали мысли, что война есть нечто, изначально присущее человеческой натуре? – спросил князь, зябко кутаясь. – Если переплести это с теорией естественного отбора…
Он замолчал, увидев, что Толстой смотрит мимо него, и смотрит с живым интересом. Оглянулся и увидел крепкую, рослую девку, которая бежала через двор, накинув на голову подол юбки и с детской радостью шлепая по лужам босыми ногами. Бежала она, наверно, издалека, раскраснелась, пылала жаром молодого тела, и не только юбка, но и белая рубаха ее промокла насквозь. А ветер бил ей навстречу, и мокрая рубаха липла к телу, обрисовывая не только сильные ноги, но кругло выпяченный живот. И этот круглый живот, и бедра, и крупные груди – все упруго вздрагивало при беге, невольно притягивая любой, даже самый равнодушный мужской взгляд.
– Вот вам ответ, – сказал Толстой, глянув на князя засиявшими глазами. – Сколько искренности, открытости в женском теле, недаром его так любят рисовать. Поэтому в любви женщина отдает свое тело целиком, до кончиков пальцев, а мужчина и в любви себя бережет. Зачем, а? Полагаете, для войны, для изначального предназначения своего?
Князь не успел ответить: через двор прямо по лужам шел высокий, худой, очень прямой даже при ходьбе человек.
– Рекомендую, – сказал Толстой, спускаясь с крыльца. – Учитель сына Сергея и мой друг Василий Иванович Олексин.
– Олексин? – точно прислушиваясь к звучанию, повторил князь. – Да, да, конечно. Редкая фамилия.
8Вторые сутки шел нескончаемый дождь, крупный и холодный. Пленные кутались в мокрые шинели, жались друг к другу: турки запрещали разводить костры.
Но, правда, начали кормить, и люди с жадностью пили горячее варево, стоя на коленях перед большими долблеными колодами для скотины. Турки хохотали и специально прибегали смотреть, как жрут из общих корыт русские волонтеры, руками выгребая плохо проваренную кукурузу.
Гавриил не ходил к этим общим корытам. От ноющей боли разламывалась кое-как перебинтованная голова; он лежал возле стены сарая, под выступом крыши, пряча от дождя раненую голову. С крыши непрерывно лило, но вода попадала на грудь, и к этому он притерпелся. Боялся только намочить повязку: ему казалось, что тогда непременно начнется горячка и он умрет.
Еду приносил полный немолодой майор в собственной фуражке. Аккуратно нес ее через всю площадь полусожженного села, на которую согнали их, из рук в руки передавал поручику. Бережно, будто чашу с водой.
– Ешьте, голубчик. Нет, нет, непременно ешьте, непременно-с! Вам силы нужны, а где же их взять, как не в пище? Каждое даяние от Господа, сударь мой, даже если оно и басурманское.
Майор был из пехотной глухомани, старателен, темен и добр. Маленькие жалостливые глазки его щурились, источая искреннее сострадание. Он бродил по лагерю, перевязывал раненых, сочувствовал потерянным, мягким голосом успокаивал отчаявшихся:
– Обойдется, голубчик, видит Бог, обойдется все. Главное, целы, руки-ноги при вас, а прочее перетерпим. Мы же русские, голубчик, а терпеливее русского Господь никого не создал. В какой народ грубость вложил, в какой – спесь несусветную, в какой – манеры и обхождение, а в нас, сударь мой, терпение свое. И все-то мы стерпим-перетерпим, и все-то будет славно, вот увидите еще, как славно, да и меня вспомните.
В тот первый день сразу после разгрома турки, прочесав лес и кого добив, а кого и подобрав, согнали плененные остатки его роты к подножию горы, но ни этого места, ни пути к нему Олексин не помнил. Шел качаясь, еле переставляя ноги, куда гнали, садился при первой возможности, а потом опять вставал, торопясь подняться, пока не ударили прикладом. Казалось ему только, что со своими пробыл он очень недолго, но кто именно были эти свои, он припомнить не мог, да и не старался.
Вскоре его и других волонтеров отделили и погнали дальше и в одном месте даже подвезли на повозке, учтя ранение. А потом снова делили, снова сортировали, снова куда-то вели, пока не привели в это брошенное жителями село. Пленных было много: смят и разгромлен был весь корпус Хорватовича.
– Они не имеют права так с нами обращаться! – горячо говорил сосед, мальчишка-юнкер. – Я читал, я знаю: это бесчестно. Бесчестно!
По юношески круглому лицу юнкера текли слезы. Текли они от страха и отчаяния, и поэтому юнкер все время возмущался, тщетно пытаясь выдать их за слезы оскорбленной гордости.
– Они считают нас за скотов! За скотов!
Гавриил ни с кем не заговаривал, отвечал односложно, а чаще молчал. Он лежал, заботясь лишь о том, чтобы не намочить повязку, отрешенный от всего остального; лежал, вслушиваясь в собственную боль, и боль эта и была сейчас его существом. Он ощущал ее не только головой, с которой сабля снесла лоскут кожи вместе с половиной уха, – он ощущал ее всем телом, всеми мышцами, суставами, костями, нервами и – сердцем. Именно там гнездилась самая мучительная из его болей, и именно ее он слушал наиболее напряженно и сосредоточенно.
А мыслей не было, и он ни о чем не думал и не хотел думать. В памяти возникали лица, отдельные фразы или ни с чем не связанные слова. Возникали, как бы просачиваясь сквозь боль, и оттого были искажены; он понимал, что они искажены, но не пытался исправить их, прояснить. Все это текло своим порядком, вмешиваться в который не было сил.
Чаще всего он видел Совримовича и слышал его тоненький, жалобный стон: «Не на-а…» А потом неизменно возникал Отвиновский, холодный и бледный, как северное небо. Они появлялись как два полюса чего-то единого, общего; он однажды с усилием подумал, что они – два полюса, но тут же забыл об этом. Брат наклонялся над ним, широко раскрыв глаза: «Больно, когда убивают? Больно?» Захар кивал издалека кудлатой головой: «Прощай, племянничек. Так ни разу дядей и не назвал, ну да Бог тебе судья». Мадемуазель Лора, улыбаясь ему, льнула к Тюрберту, а Тюрберт самодовольно кричал: «Стрелять надо хорошо, стрелять, все остальное – гниль!..» – «В кого стрелять-то, сынок?» – улыбался Миллье, не умирающий, а веселый, со вкусом куривший трубку и смаковавший вино. И сразу же появлялся неправдоподобный турок с неправдоподобным ружьем. Он целился штыком в живот Олексину, и Олексин стрелял, и из лица турка брызгала кровь. Густая и теплая. «А была ли идея, была ли, была ли?» – с горечью спрашивал Совримович, и все начиналось сначала.
– Этак они нас и в рабство продадут! – горячился юнкер, и по лицу его текли слезы. – А что, с них станется. Думаете, я от страха плачу? Я от унижения гордости плачу, вот отчего, вот.
– Унижены уж, куда ниже-то, – улыбался майор. – Не о том, господа, думать надо. Такие думы терпенье точат, а в терпении сейчас спасение наше. Так что смиряйте гордыню, судари мои, смиряйте, а терпение крепите.
«Унижение, – отрывочно подумал Гавриил; он не слушал разговоров, но голоса порой сами лезли в уши. – Я тоже говорил об унижении. Унижение, уничижение. Зачем все это? Брызнет кровь – и кончатся все слова. Все!.. Сразу кончится то, что приносило боль, тревогу, беспокойство. Все кончится. Все любили толковать о справедливости, а все – ложь. Мы плаваем во лжи, как рыбы в море. А где же человек? Он ведь не может долго плавать, он либо на дно, либо его сожрут, либо он сам станет рыбой и начнет жрать других. И кровь будет брызгать с лица…»
Он и сам не заметил, что начал думать, что бессвязные голоса замолкли в нем, а лица ушли. Голова еще болела, но боль эта уже менялась, и он чувствовал, что она меняется.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































