Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
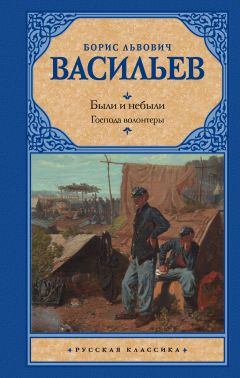
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 43 страниц)
– Восторгаетесь? – неприязненно спросил Иван. – То-то славно было бы вам до такого счастья дорваться. Столбовых дворянок заставить ретирады мужицкие чистить – вот уж всем победам победа, вот уж исполнение мечтаний, не правда ли, господин Сизов?
– Превратно, превратно понять изволили, – заторопился, заерзал на скамье конторщик. – Превосходно, мсье Олексин, совсем, совсем и окончательно не то я в соображении имел. Я просто сказать хотел, что от человека все исходит, от человека единственно. Вот сестра моя Дашенька, что в вертепе, в разврате, господи прости, вынуждена хлеб свой насущный снискивать, гордостью ни на йоту не поступилась. Ни на гран един! Так и пышет гордостью-то, как вулкан Везувий, что город Помпею испепелил.
Сознательно ли Сизов помянул о Дашеньке или случайно, тут же испугавшись, что проговорился, а только Иван вмиг забыл о неприязненном чувстве. Не зная, как коснуться интересующего его предмета, страдал и мучился и сказал неуклюже, покраснев при этом:
– Вы так хорошо о сестре своей говорите, что я, право, заинтригован и хотел бы… Хотел бы восхищение свое ей выразить.
– За честь почтем, за честь! – поспешно подхватил Гурий Терентьевич, и глазки его на мгновение остренько блеснули. – Мы по-простому живем, мсье Олексин, без всяких особых. А Дашенька аккурат у нас остановилась – из экономии и к маменьке поближе. По четвергам свободна она, так что ежели изволите, то счастливы принять будем. Ведь обязаны вам, столь семейству вашему обязаны!
Сизов был обязан Олексиным лишь дополнительным приработком, но говорил об этом часто и бестактно. Иван вновь ощутил неприятный укол самолюбию и промолчал: обещанное свидание в четверг делало его непривычно терпеливым и покладистым.
Дашенька Сизова совсем не походила на ту «мамзель Жужу», имя которой склоняли по всему городу. Лицо ее было бледно и невыразительно, худые щеки поблекли от скверного и неумелого грима, под серыми глазами лежали густые, усталые тени. Глаза эти поразили Ивана пустотой.
– Рада, очень рада, – с привычной жеманностью сказала она, свободно протянув руку. – Брат столько говорил о вас.
– Обо мне? – Иван осторожно пожал холодные пальчики. – Помилуйте, что же обо мне можно говорить?
– Мы не бесчувственные какие, – торопливо сказала маменька Сизовых. – Мы чувствуем благодеяния и благородство души.
– Ступайте, маменька, ступайте, – сквозь улыбку процедила Дашенька.
Все это было неприятно и фальшиво; к счастью, маменька тут же вышла, а вслед за ней исчез и Гурий Терентьевич. Иван совсем смешался, но Дашенька спокойно вела разговор, все так же влажно улыбаясь и играя глазами.
– Нет, право же, я особо вам благодарна, господин Олексин. Вы не мамзель Жужу увидеть спешили, а несчастную женщину. О, если бы вы только знали, что значат для меня эти четверги дома! Как надоели мне аплодисменты, цветы, подношения…
Иван украдкой оглядел комнату, но никаких цветов не обнаружил. Обстановка была как в дешевой гостинице: диван, круглый столик, два венских стула да платяной шкаф. И на самой Дашеньке, которую, правда, он оглядывать не решался, тоже все было скромным – и домашнее платье, и платок, в который она кутала худенькие плечи, и дешевенький перстенек, и такие же дешевые сережки в розовых ушах.
– Я устала от пошлости, – продолжала она. – От всех этих захламленных уборных, пыльной мебели, вульгарных одежд, в которых вынуждена каждый вечер появляться перед сотнями мужских глаз. О, как я все это ненавижу!
Дашенька играла сейчас привычную роль соблазненной и покинутой, но Иван не был знаком с этим женским амплуа. Он верил каждому слову, каждому взмаху ресниц, каждой слезинке, что слишком уж часто посверкивала на этих ресницах. Верил, и сердце его переполнялось горячим и мучительным состраданием к этой несчастной, обманутой и преданной обольстителем юной женщине.
– Это ужасно, ужасно, я понимаю вас! – взволнованно сказал он. – Вам нужно бежать оттуда, бежать, бежать!
– Куда бежать? – обреченно улыбнулась она. – Куда и с кем бежать? Нет, нет, милый Иван Иванович, это моя судьба. Я обречена жить жизнью чуждой мне и оскорбительной.
На том тогда и закончился их разговор, потому что вошел Гурий Терентьевич и попросил к чаю. А после чая говорили уже о другом, уединиться не удалось, и Иван уносил с собой не столько слова Дашеньки, сколько ее грустные взгляды, почему и не мог думать и анализировать, а мог лишь чувствовать да мечтать.
Через неделю он пришел снова. Дашенька встретила его очень сердечно, но была печальна, а Гурий Терентьевич уходить никуда не торопился. Сидел, закинув ногу на ногу, курил дешевые сигареты и разглагольствовал о предстоящей войне. Иван с трудом поддерживал разговор, почти с ненавистью глядя, как покачивает Сизов острым носком штиблета.
– Нет, что ни говорите, мсье Олексин, а нам дорого достанутся эти разногласия. Дорого, очень дорого, вот помянете еще мое слово. Я видел карту в книжной лавке: по турецкому берегу Дуная идут сплошные крепости.
– Дашенька, душа моя! – почти пропела из соседней комнаты госпожа Сизова. – Не поможешь ли мне, ангел мой?
– Ах, маменька, оставьте! – громко и очень недовольно сказала Дашенька. – Пусть братец помогает, а у меня голова болит.
– Гурий, дружочек! – тем же тоном запела маменька.
– Я всем помощник, – сказал Сизов, вставая. – Займи нашего дорогого гостя, сестрица.
Дашенька ничего не ответила, но впервые за вечер улыбнулась, вновь ослепив Ивана влажной белизной зубов. Он смущенно улыбнулся в ответ и тут же отвел глаза. Некоторое время они молчали, и для Ивана это время было сплошным мучением: он силился начать разговор, физически ощущая, как впустую уходят драгоценные минуты, но в голове не было ни одной связной мысли, и приходилось только вздыхать.
– Я так ждала этого дня, – тихо сказала Дашенька. – Мне совестно это говорить, потому что вы можете усомниться в моей искренности и посчитать все пустым кокетством. Знаете, вы напоминаете мне зиму. Да, да, яркую, морозную и чистую-чистую зиму, когда сама делаешься чище и лучше… Простите меня за это признание, Иван Иванович, но я так много думала о вас, что, право, выстрадала его.
– Не знаю, чем заслужил ваше доверие, Дарья Терентьевна, но, верьте мне, я счастлив, – конфузливо пробормотал Иван, чувствуя, что краснеет, и смущаясь от этого все больше. – Я тоже думал о вас, все время думал – и дома, и в гимназии. Я знаю, что мой долг помочь вам, но я никак не могу додуматься, как это сделать. Я даже хотел посоветоваться с Варей – знаете, она очень, очень умна и добра, – но именно сейчас у нее в душе какой-то разлад, и я… Нет, сейчас с нею невозможно, она точно вдруг оглохла, а больше мне посоветоваться не с кем. Только вот с вами разве, Дарья Терентьевна.
– Да, да, разумеется, – задумчиво и как-то холодно пробормотала Дашенька. – Мне так отрадно говорить с вами.
Разговор, начавшийся тепло, стал приобретать оттенок обычной светской беседы. Иван не понимал причин, но чувствовал, как исчезает доверительная интонация, как рушатся те шаткие мостки, что наметились между ними.
– Я думаю о месте, – с отчаянием сказал он. – Ведь вам же нужно какое-то место, не правда ли?
– Место? – Дашенька вздохнула. – Господи, Иван Иванович, о чем вы, право. Кому нужна я, актерка, порченая и порочная для всех этих… Нет, нет, мне нужно уехать из этого города. Уехать туда, где не знают мадемуазель Жужу, где я смогу честно заработать кусок хлеба и честно смотреть в глаза людям.
– Тула. – Иван и сам не знал, как выскочила эта «Тула». – Под Тулой в имении Толстого живет мой брат Василий Иванович. Дарья Терентьевна, Дашенька, это же прекрасно, что пришло мне в голову, это же воистину перст божий! Вы будете жить у Васи: я уверен, что он найдет вам достойное занятие. А как только я закончу в гимназии, я тут же приеду к вам, тут же, слышите?
– Приедете, – понизив голос, как-то очень значительно сказала она, – и я по-царски награжу вас. По-царски, Иван Иванович, милый, запомните мои слова!
Но Иван уже ехал в Ясную Поляну, его уже встречала сияющая, счастливая, преображенная Дашенька, и он уже был в восторге от этой встречи. Дашенька поняла этот странный олексинский восторг перед собственными мечтами, опять заулыбалась молодой, доверчивой, белоснежной улыбкой.
– Это счастье, Иван Иванович. Боже, какое счастье! – В порыве искреннего восторга она схватила его руку, сжала; подняла к груди (Иван обмер, но руку остановили на волосок от туго натянутого ситца). – Но нет, оно недостижимо. Оно недостижимо, Иван Иванович, недостижимо!
Словно в великом затмении чувств, она уронила руку Ивана на плотно обтянутые платьем колени, закусила пухлую нижнюю губку, и серые глаза ее тут же до краев наполнились слезами. Иван сидел как истукан, боясь шелохнуться, ужасаясь, что его могут превратно понять, а руку гневно и презрительно сбросить с божественных колен; сердце то замирало, то начинало биться с такой силой, что стук его мог быть услышан за дверью, где тихо брякали посудой.
– Недостижимо, – шепотом повторила она. – Увы, увы.
– Мсье Олексин, Дашенька, пожалуйте к чаю! – бодро и так некстати пропел в соседней комнате Гурий Терентьевич.
– О боже! – горестно вздохнула Дашенька. – Нам не дадут сейчас поговорить, нет, не дадут. Приходите завтра к одиннадцати: я как раз вернусь из театра. Наши будут спать, но вы стукните мне в окошко. Вот в это, не перепутайте.
– Мсье Олексин! Дашенька!
– Да идем же, идем, господи! – с заметным раздражением сказала Дашенька, встав и тем самым сбросив руку Ивана с колен.
4Тонущий в мартовской слякоти Кишинев был до отказа забит войсками. Кроме 53-го Волынского и 54-го Минского пехотных полков, кроме штабных офицеров и военных чиновников, кроме свиты и конвоя главнокомандующего – его императорского высочества Николая Николаевича-старшего, здесь располагались терцы и кубанцы, донские казачьи сотни, гвардейские саперы, понтонные части, 14-я артбригада и уже развернутые по-походному, но пока пустующие военно-временные госпитали. В городе и окрестных селах не осталось дома, хозяева которого не потеснились бы, отдав лучшие комнаты для постоя офицеров и солдат; не было двора, не забитого лошадьми и повозками, площади, не занятой артиллерией или обозами, колодца, к которому не было бы расписанной заранее очереди. Каждое утро город будили трубные призывы сигналов и хриплые, сорванные голоса унтеров:
– Четвертое капральство, выходи на улицу строиться!
Строились солдаты, раздували большие хозяйские или скромные походные самовары денщики, артельщики выдавали дневную порцию, на задах и огородах разгорались костры, горьковатые дымы сползали в город и уже не выветривались до глубокой ночи.
Офицеры завтракали булкой с чаем на квартирах, но обедали, как правило, в городском клубе, где обед из трех блюд стоил пятьдесят копеек серебром – деньги немалые. Но жили здесь скромно, о кутежах и попойках с шампанским и женщинами и слыхом не слыхивали, изредка позволяя себе лишь купить в складчину местного вина и распить его за тем же столом в городском клубе.
– За победу русского оружия, господа! – кричал восторженный безусый прапорщик.
– Да какая вам победа, прапорщик? – подсмеивался степенный немолодой майор. – Того и гляди с помощью Англии до мира договоримся и распустят нас всех по домам.
– Нет, господа, это невозможно.
– Почему же невозможно? На то и политика.
– Я… тогда застрелюсь, господа! – со слезами кричал прапорщик.
– Браво, прапор, – хмуро сказал молчавший доселе коренастый капитан. – А мы в складчину поставим вам памятник: «Единственной жертве несостоявшейся войны за освобождение славян».
– Перестаньте дразнить его, Брянов, – сказал майор. – Он же вот-вот расплачется.
– Лучше пореветь сейчас от обиды, чем потом от горя. Ладно, прапор, считайте, что я неуклюже пошутил. Мне надоело торчать в резерве, господа, вот почему у меня портится характер. Чтобы не отравлять вам вечер, прошу разрешения удалиться. – Брянов встал, коротко поклонился. – А рассказ о Сербии прибережем для другого раза. Благодарю за приглашение, вино отменное.
Небо над сумрачным Кишиневом было тяжелым и низким, шел мокрый снег, изредка порывами налетал ледяной ветер, поднимая рябь в многочисленных лужах. Стоя на крыльце, Брянов поднял воротник шинели, подобрал полы и затолкал их под ремень. Подхватив саблю, спустился со ступенек, вглядываясь, куда бы поставить ногу. Наметив путь, запрыгал через лужи, скользя заляпанными доверху сапогами по раскисшей глине. Так он выбрался на улицу и остановился, потому что навстречу неспешно двигалась артиллерийская батарея. От гнедых шел пар, колеса по ступицы зарывались в ухабы, ездовые привычно покачивались в седлах. Впереди ехал офицер в плаще с поднятым воротником и низко надвинутой мокрой фуражке.
– Эй, артиллеристы, нельзя ли полегче? – ворчливо сказал Брянов, отряхивая с шинели брызги глинистой воды, ударившей из-под колеса. – Тут особо сушиться негде, давайте уж беречь платье друг друга.
– Виноват, вашбродь, – отозвался ездовой, одерживая битюга.
– Когда по улице движется основной инструмент грядущей симфонии, рекомендую госпоже пехоте держаться обочины, – с ленцой сказал офицер и придержал коня, намереваясь, как видно, не давать в обиду своего солдата. – Позволю заметить, что моим артиллеристам несколько труднее управляться со своим оружием, чем вам с вашей саблей.
– Это вы, Тюрберт? – Брянов невольно улыбнулся. – Буду весьма удивлен, если ошибся: во всей артиллерии не сыщешь большего ворчуна.
– Стой! – на весь Кишинев заорал гвардеец, спрыгивая с коня прямо в лужу. – Ей-богу, я знаю этого обидчивого господина. Ей-богу, это же… это вы, Брянов, черт вас побери?
Он радостно затопал напрямик через лужу, разбрызгивая жидкую грязь во все стороны. Брянов попятился, но Тюрберт шел прямо на него, вытянув длинные руки то ли для равновесия, то ли для дружеских объятий. Капитан явно не желал этого и демонстративно отстранился.
– Оставьте лобызания, Тюрберт. Вам для начала предстоит кое-что объяснить, а уж там решим, стоит ли нам протягивать друг другу руки.
– Господи, я все время с кем-то объясняюсь, – без особого огорчения вздохнул подпоручик. – Странная какая-то судьба, вы не находите? Гусев!
– Я, ваше благородие!
– Веди батарею. Накормишь, уложишь, дождешься, доложишь.
– Слушаюсь!
– Исполняй.
– Батарея, слушай команду! – басом прокричал рослый унтер. – На квартеры шагом…
Фырканье лошадей, грохот ошинованных колес, скрип осей и тяжкое, засасывающее чавканье невылазных грязей Кишинева замирали вдали. Оба офицера стояли на обочине, прижавшись спинами к палисаднику.
– Ну и что прикажете объяснять? – спросил Тюрберт. – Почему я топчу грязи Кишинева, а не паркет петербургских гостиных, что делает сейчас вся гвардия? Ответ прост: числюсь в приятелях у одной особы, а ее принесло сюда за крестами.
– Я узнал вашего унтер-офицера, Тюрберт, – перебил Брянов. – Кажется, его фамилия Гусев? Значит, вы вывели своих людей из Сербии?
– Конечно, вывел. – Подпоручик недоуменно пожал плечами. – Странно было бы, если бы не вывел. Я не бросаю боевых товарищей на произвол судьбы.
– А я не вывел, – с горечью сказал капитан. – Мой батальон разбежался, а рота Олексина приказала долго жить.
– Да, я слышал, будто поручик в плену?
– Был, – пояснил Брянов. – Был, а потом куда-то делся. Его не оказалось в числе пленных, я специально наводил справки. А это значит, что он погиб.
– Жаль Олексина, – вздохнул Тюрберт. – Знаете, Брянов, у нас с ним были сложные отношения. И вот он погиб, а я в мае женюсь. Я уже получил все разрешения, в мае возьму двухнедельный отпуск, обвенчаюсь – и назад. Вот как все смешно получилось… – Подпоручик еще раз глубоко вздохнул и сокрушенно покачал головой. – Он победил, и я на весь мир готов признать, что по сравнению с ним я трус. Трус, заявляю об этом официально.
– Оставьте вы мальчишничать, Тюрберт, – поморщился Брянов. – Нужны не признания, а объяснения, почему вы предали моих людей.
– Я? Предал?.. – Тюрберт помолчал, точно осознавая сказанное. Добавил уже иным – официальным, холодным, оскорбительным тоном: – За такие слова в гвардии бьют по сопатке, капитан. Из уважения к вашему волонтерскому прошлому без битья прошу к барьеру.
– Сначала потрудитесь объяснить.
– Но не здесь же! Не на улице!
– А где? – Брянов зябко поежился в намокшей шинели. – Я стою в переполненном доме.
– Пошли ко мне, – проворчал Тюрберт, подумав. – Тут, кстати, недалеко.
И, сунув руки в карманы плаща, широко зашагал прямо по лужам, мало заботясь, отстает капитан или поспевает следом.
Подпоручик нанимал комнатку в чистенькой мазанке. Расторопный денщик тут же раздул складной походный самовар, поставил на стол заварной чайник английского металла, холщовый мешочек с колотым сахаром, ломти белого рассыпчатого хлеба, масло, колбасу, банку сардин и дульчесы – местные сладости, вываренные в меду и сахарном сиропе. Пока он неслышно двигался из кухни в комнату и обратно, изредка тихо переговариваясь с хозяйкой, офицеры молчали. Брянов делал вид, что просматривает старые газеты, а Тюрберт хмурился. Когда все было накрыто и кипящий самовар запел в центре стола, подпоручик молча указал на дверь, и денщик беззвучно исчез.
– Рому хотите?
– Нет. – Капитан сел к столу, не ожидая приглашения. – Вот чаю – с удовольствием.
– Какая-то чепуха, – сказал Тюрберт, наливая капитану чай, а себе ром в одинаковые граненые стаканы. – Вы в чем-то обвиняете меня, не зная что, как и почему… Интересно, мы когда-нибудь поумнеем?
– Почему вы не поддержали огнем Олексина, Тюрберт? У него был шанс пробиться, если бы вы прикрыли его отход. Опять пожалели снарядов?
– А откуда мне было знать, куда вы запихали Олексина? – огрызнулся подпоручик. – Ко мне пришел какой-то недотепа и потребовал, чтобы я послал с ним своих артиллеристов. Я послал подальше его самого, утром, когда турки поперли на штурм, открыл пальбу, но от вас заявился очередной недотепа и сказал, что вы отходите и мне не стоит даром тратить порох.
– Какой второй посыльный? – поразился капитан. – Значит, был второй посыльный, говорите?
– А вы не помните?!
– А я не знаю! Меня вызвал к себе Черняев, а батальоном временно командовал штабс-капитан Истомин.
Брянов замолчал, только сейчас поняв, в какое положение тогда попала рота Олексина. Тюрберт тоже молчал, хмуро прихлебывая ром.
– Понятно, – проворчал он. – Дай мне Бог встретить Истомина, уж я вытрясу из него объяснение, почему он бросил Олексина. А я своих не бросаю, Брянов, и не выношу, когда меня в этом подозревают. В последний раз спрашиваю, налить вам рому?
– Нет.
– Ну и черт с вами, хлебайте чай. Жаль Олексина, ей-богу, жаль. Вы в каком полку?
– Я в резерве. – Брянов помолчал. – От меня ждут, когда я подам рапорт об отставке. Я вернулся в Россию не только с Таковским крестом, но и с вот таким перечнем грехов: зачем дружил с болгарами, зачем гнал в шею русских пьяниц-патриотов, зачем то, зачем это. Я стал неугоден, но рапорт я все-таки не подам: на моем иждивении сестра, и у меня нет иных доходов, кроме офицерского жалованья.
– А что же вы получаете, числясь в резерве?
– Ничего, но есть надежда, и под эту надежду я делаю долги. Может быть, и у вас к утру попрошу что-нибудь взаймы.
– Я не дам, – отрезал подпоручик. – Долги разрушают дружбу. Лучше я попытаюсь достать вам место, Брянов.
– Я персона нон грата, Тюрберт.
– Нам предстоит один нелегкий визит, – вслух размышлял Тюрберт. – Только уж, пожалуйста, Брянов, настройтесь вполне верноподданнически. В ваших же интересах.
– А что за визит?
– Завтра узнаете. Кстати, где ваш Таковский крест?
– В кармане.
– Утром не забудьте нацепить. А сейчас спать. Ложитесь на мою койку и не спорьте: я все равно должен идти в батарею.
На следующий день он разбудил капитана ни свет ни заря, был озабочен и оделся с особой тщательностью. Когда выходили, сказал, куда направляются. Брянов опешил:
– К великому князю? К младшему? Тюрберт, вы сошли с ума.
– Он вообще-то сговорчив при хорошем настроении, почему я и тороплюсь попасть к нему раньше всех дневных неприятностей.
В небольшом особняке, который занимал адъютант и сын главнокомандующего великий князь Николай Николаевич-младший, им пришлось немного обождать. Лощеный офицер, которому Тюрберт как старому знакомому пожал руку, проводил их в маленькую гостиную и молча удалился.
– Признаюсь, это не по мне, Тюрберт, – вздохнул Брянов.
– Нарушает ваши демократические принципы? Самый главный принцип на свете – хорошо и вовремя поесть, и во имя него стоит поступиться остальными, – отшутился подпоручик.
Часы пробили семь, и с последним ударом в гостиную вошел молодой человек с длинным лицом, над которым нависал мощный, как несгораемый ящик, лоб. Большие, по-романовски бесцветные глаза его смотрели тяжело и пытливо; взгляд точно сверлил насквозь, и Брянов почувствовал неприятный холодок. Великий князь молча кивнул в ответ на их уставные приветствия и сел, жестом указав, что они могут последовать его примеру. Однако Тюрберт остался стоять, знаком предупредив Брянова, что пользоваться великокняжеской любезностью не следует.
– Всю ночь читал Тацита, господа, – сказал великий князь. – Увлекательней романа. Рекомендую перечитать. Чему обязан, Тюрберт? Опять кого-нибудь обидели эти пройдохи интенданты?
– Нет, ваше высочество, долг дружбы, не более. Капитан Брянов, которого я имею счастье представить вам, не только проявил в Сербии редкую отвагу, о чем свидетельствует крест на его груди, но и лично спас мне жизнь.
Капитан Брянов от неожиданности кашлянул, но промолчал.
– Вот как? – Николай Николаевич еще раз и столь же холодно глянул на Брянова. – Кстати, Тюрберт, ты был не прав: Варенька Никитина отказала всем женихам и решительно избрала высокое искусство. Представьте, господа, дитя, еще ученица, а уже выступает в сольных партиях на сцене Мариинки. Какая легкость, какое изящество, какая итальянская виртуозность и законченность в ее движениях! Ты не бывал в Петербурге, капитан?
– Нет, ваше высочество, – вздрогнув, сказал Брянов. – Я провинциальный служака.
– Капитан Брянов больше привык к театру военных действий, ваше высочество, – сказал Тюрберт, упрямо возвращаясь к цели визита. – И на этом театре он солист не хуже Вареньки Никитиной.
– Остроумно. – Великий князь улыбнулся, обнажив на редкость крупные зубы. – Чем командовал в Сербии?
– Батальоном, ваше высочество.
– Лучшим батальоном в корпусе самого Хорватовича, – вставил Тюрберт.
– У тебя задатки коммивояжера, Тюрберт, – с неудовольствием отметил великий князь. – Предоставь капитану самому докладывать о своих талантах.
– Он застенчив. Кроме того, он впервые видит ваше высочество и побаивается, как и все простые смертные.
– Побаивается? – Великий князь не смог скрыть мальчишеского самодовольства. – А ты говорил о его отваге.
– Так вы же не враг, – ворчливо пояснил Тюрберт.
– Ты обаятельнейший из нахалов, Тюрберт.
Николай Николаевич осуждающе покачал массивной головой.
– Догадываюсь, что у тебя неприятности, капитан.
– Я в резерве, ваше высочество. Давно в резерве и, признаться…
Брянов запнулся, не зная, следует ли говорить о своих финансовых затруднениях человеку, который не понимал, что такое деньги. Но великий князь по-своему истолковал его заминку.
– Надоело? Понимаю тебя, капитан. – Адъютант главнокомандующего для пущей важности помолчал и похмурил густые белесые брови. – Только на батальон не рассчитывай, это тебе не Сербия. А вот роту… – Он опять задумался. – Кажется, в Волынском полку есть вакансия.
– Благодарю, ваше высочество.
– Я решу это сам, но вынужден по долгу службы поставить в известность главнокомандующего. Предупреждаю, капитан, у моего отца феноменальная память, и он, безусловно, запомнит тебя. Не подведи меня в деле.
– Слово дворянина, ваше высочество.
– Прекрасно. – Великий князь встал, показывая тем самым, что аудиенция закончена. – Если у вас больше нет вопросов, господа, можете быть свободны. У меня дела, как, впрочем, и у всех нас. В час пополудни я увижу командира волынцев Родионова и скажу ему о тебе, Брянов. Сегодня же.
– Слушаюсь, ваше высочество. И еще раз благодарю.
– До свидания, господа. – Николай Николаевич пошел к дверям, но остановился. – А ведь мне когда-нибудь надоест твое нахальство, Тюрберт.
– Надеюсь, что это случится не так уж скоро, ваше высочество, – весело улыбнулся подпоручик.
Великий князь погрозил ему пальцем и вышел из гостиной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































