Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
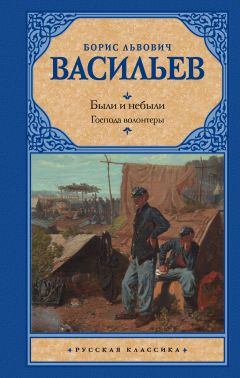
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 43 страниц)
А Иван Гаврилович Олексин, немного оправившись от удара, встал на исходе этой ночи и медленно, шаркая ногами, побрел к лестнице. Зачем, почему – об этом уже никто никогда не узнал. Он рухнул на ступенях, рухнул прямо, как рушится подпиленный дуб. Рухнул мертвым.
Олексины не умирали в постелях.
Эпилог
Самое спокойное время года – осень – на этот раз выдалось хлопотливым, переполненным новостями, а более того – слухами. Обычно такая степенная, сытая и довольная собой, Москва ныне изнемогала под гнетом событий, отзвуки которых будоражили ее почти ежедневно. И хотя события эти происходили где-то далеко – настолько далеко, что большинство москвичей и не знали, где именно все случалось, в каких землях и народах, – Москва страдала ими искренне, заинтересованно и затяжно.
– Что в Сербии, не слыхали?
– Бои, батенька, сражения!
Крестились москвичи, о своих думая. Брови хмурили, рассуждать начинали.
– Говорят, у турок генерал объявился, из молодых. Осман-паша, что ли.
– Оставьте, что вы!
– Нет, право…
– Ну откуда, скажите на милость, откуда у них полководцы? Англичане у них полководцы, если вам угодно знать. Англичане!
Как ни обидно было москвичам, но в далекой (и такой близкой, как выяснилось!) Сербии генерала Черняева били не англичане, а самые что ни на есть природные турки. И в этих боях тогда впервые прозвучало имя дивизионного турецкого генерала Османа Нури-паши. Войска его отличались дисциплиной, упорством, гибкостью маневра, быстротой и решимостью; аскеры Османа-паши не боялись знаменитых штыковых атак, в которые с отчаянной бесшабашностью бросались измотанные боями русские волонтеры.
– Нет, не может того быть! – протестовал против очевидности рядовой москвич, три месяца назад проводивший в Сербию собственного сына. – Разве ж турки могут нас бить?
Но втайне, про себя, любой москвич, любой ура-патриот из Охотного ряда знал, что нет в Сербии никаких англичан, что бьют плохо организованную, плохо вооруженную и растянутую по Мораве армию Черняева те самые турецкие генералы, о которых в России не было принято говорить всерьез еще со времен Румянцева-Задунайского.
29 октября принесло турецкой армии решительную победу при Кружеваце. Отдельные волонтерские соединения и конная группа Медведовского были рассеяны, сербской армии более не существовало, и путь на Белград был открыт. Через четыре, много – шесть дней передовые турецкие части намеревались вступить в столицу Сербии, сломив в пригородах последние заслоны повстанцев и народного ополчения. Ни легендарная отвага черногорцев, ни упорство сербов, ни кровавые жертвы боснийцев и герцеговинцев, ни энтузиазм волонтеров не смогли поколебать могущества Блистательной Порты. Первый штурм османской твердыни немногочисленными и не объединенными единым знаменем славянскими силами был отбит. В Константинополе готовились к параду.
Однако преждевременно. 31 октября русский посол граф Игнатьев ультимативно заявил правительству Блистательной Порты:
– Если в течение двух суток не будет заключено безусловное, распространяющееся на всех воюющих перемирие сроком от шести недель до двух месяцев и если начальникам турецких войск не будет отдано решительных приказаний немедленно прекратить все военные операции, то дипломатические отношения будут прерваны.
И отправился демонстративно укладывать чемоданы. Турки остановили победоносный марш на Белград, Сербия была спасена, но Александр II уже не мог остановиться. Через две недели был отдан приказ о мобилизации шести армейских корпусов: Россия бросала меч на славянскую чашу весов.
Зашевелились полки, артиллерийские и инженерные парки, санитарные и обозные части. Снимаясь с насиженных мест, пополнялись на ходу, уже торопясь, уже поспешая куда-то. Заскрипели по дорогам армейские фуры, подскочила цена на овес, и – еще до войны, еще лишь возвещая и предчувствуя ее, – зарыдали бабы на Руси. Привычно, отчаянно и безысходно:
– Прощайте, соколы!
Уходили полки. Надрывались оркестры. Улыбались сквозь слезы женщины. Изо всех сил улыбались, потому что нельзя было, недопустимо и жестоко было огорчать тех, кто уходил, печатая шаг под полковой оркестр.
– Куда, братцы, путь держите? – спрашивали с обочин украшенные медалями крымские инвалиды.
– Турку бить, отцы!
– Посчитайтесь, братцы! Дай вам Бог!
В общем потоке снялся с зимних квартир и 74-й Ставропольский пехотный полк. Четырьмя колоннами (четвертую, хозяйственную, вел подполковник Ковалевский) стягивался к Тифлису по скверным и страшным кавказским дорогам.
– Дай вам Бог, братцы!
А Москва странно встречала события. В Охотном ряду толковали о проливах, Константинополе, поруганной вере и скорой победе.
Студенчество шумело на сходках (косились жандармы, вслушиваясь напряженно), едва ли не впервые искренне и восторженно приветствуя грядущую войну. Здесь громко пели песни и громко требовали свободы. Не для себя, правда, – для всех славян разом.
Москва бульваров, Садовых, Поварской и Арбата негромко печалилась о неготовности армии, о запущенности управления, о плохом вооружении. Пророки в генеральских мундирах грозно предрекали тяжкие бои и неблизкую победу.
На Рогожской считали, неторопливо ворочая миллионами. Убытки на Сербию списали сразу: тут не мелочились, думали крупно и решали крупно. Война требовала денег, но обещала прибыль.
В Тверских переулках…
Да, Москва хоть и говорила о разном, но думала об одном. Уж везде решили, что войны не миновать, что война та будет славной и гордой, что не себя спасаем, а братьев своих, и оттого восторг и нетерпение выплескивались через край. И войной, этой грядущей войной дышало сейчас все.
1876 год неторопливо отступал в историю.
Часть вторая
Глава первая
1Новый, 1877 год огорошил известием, на время заслонившим все – и предвоенный ажиотаж, и велеречивые заседания, и искренние восторги, и женские слезы: в Киеве лопнул частный коммерческий банк. Газеты взахлеб писали о систематическом воровстве, о фальшивых книгах, что велись еще с 1872 года, о ложных балансах и дутых счетах. Основными виновными задолго до суда были повсеместно объявлены кассир, бухгалтер да контролер.
– Дурной знак, – торжественно изрекла Софья Гавриловна. – Год крахов. Вот увидите, грядет год крахов.
Пророчество имело под собой некоторые личные основания. Каким бы ни был Иван Гаврилович скверным отцом, а столпом семьи он все же являлся – не сердцем, не осью, а именно столпом, подпиравшим весь семейный бюджет. И стоило этому столпу рухнуть, как Софья Гавриловна с удивлением обнаружила, что Олексины совсем не так богаты, как это представлялось со стороны. Псковское имение оказалось заложенным под чудовищные проценты, рязанское и тверское – разорены до крайности. Требовалось что-то предпринимать, что-то немедленно делать, но свободных денег было немного, и Софья Гавриловна начала с того, что быстро продала богатому мануфактурщику московский дом.
– А ты – вон, – сказала она Петру.
Петр заплакал. Ни о чем не просил, только размазывал слезы по толстым щекам. Игнат забеспокоился, заморгал, засуетился:
– Барыня, Софья Гавриловна, пожалей дурака!
– Молчи! – оборвала тетушка. – Ты покой заслужил, а с его шеей пахать надобно. Вот пусть и пашет. И письма не дам, и не отрекомендую. Вон!
Игнат промолчал. Голова его теперь тряслась безостановочно, да и ноги слушались плохо. После продажи дома перебрался в Высокое, жил тихо, целыми днями пропадая на кладбище возле двух мраморных крестов. Перед Рождеством не вышел к ужину, позвать забыли, а утром нашли уже холодного.
Продав московский дом и заткнув вырученными деньгами дыры в хозяйстве, Софья Гавриловна уверовала в собственную деловую хватку и заметно повеселела. Очень сдружившись с Варей, безропотно помогавшей во всех ее начинаниях, вечерами заходила в ее комнату помечтать.
– Ну, проценты мы уплатим. Хорошо бы, конечно, лес продать. Но побережем, побережем! Нам, голубушка, еще три свадьбы поднимать.
– Какие три свадьбы?
– Машину, Таисьи и вашу, барышня, вашу!
– Маша с Таей и без вас женихов сыщут – курсистки. А я… Ах, оставьте вы меня, тетушка милая, оставьте!
– И не подумаю, – строго говорила Софья Гавриловна. – Видела, сколько красавцев в Смоленск пожаловало? Да все при мундирах, при усах и саблях!
Но Варя только вздыхала. Дни шли, а знакомств не прибавлялось, хотя в Смоленске и вправду появилось много офицеров.
И, вздыхая, Варя все же ждала и верила.
Незадолго до Крещенья ливрейный лакей доставил надушенное письмо: Александра Андреевна Левашева приглашала на благотворительный базар, предлагая Варе взять на себя продажу оранжерейных роз («Уж у вас-то, душенька моя, все непременно за золото скупят, а золото сие на организацию госпитальных отрядов пойдет, на святое общеславянское дело»). Варя по-детски обрадовалась, до счастливых слез. У лучших мастериц заказали платье по парижским фасонам, подобрали шляпку с лентой из белого шелка, и в назначенный час Варя заняла место в украшенном цветами киоске, проведенная туда лично самой хозяйкой.
– Вы прелестны сегодня, душенька, и шляпка вам очень к лицу, – сказала Левашева, милостиво потрепав Варю по щеке надушенной рукой. – Уверена, что среди покупателей найдутся истинные ценители живой красоты.
Варя поняла намек, покраснела и потупилась. Александра Андреевна ласково улыбнулась ей и вышла, и Варя наконец-то могла прийти в себя, успокоиться и оглядеться.
Весь просторный зал Благородного собрания, где обычно давались парадные балы, которые по традиции открывал сам предводитель дворянства, в этот день был тесно уставлен легкими, изящно убранными киосками. В них уже заняли места барышни, нарядные и взволнованные, готовящиеся продавать ленты и игрушки, брелоки и платочки, собственное рукоделие и прочую мелочь, за которую приглашенные должны были расплачиваться, не спрашивая ни цен, ни сдачи. Варя быстро окинула зал, улыбнулась знакомым, с ликованием отметив, что ее киоск и больше и наряднее других и что только она торгует сегодня розами из оранжерей самой Левашевой. Вокруг нее на полу и на прилавке стояли большие вазы с живыми цветами, но голова ее сладко кружилась не только от аромата, что источали свежие, обрызганные водой розы. Пришел ее час, ее выход на сцену, и великое значение этих мгновений Варя ощущала всем существом своим, и сердце ее билось отчаянно и весело. Сегодня, именно сегодня должно было нечто произойти, нечто очень важное, огромное, чему должна была подчиниться ее жизнь отныне и до самой кончины.
Все восемь двустворчатых дверей распахнулись одновременно, оркестр на хорах заиграл марш, и в зал торжественно вступили гости. Впереди шла Левашева под руку с губернатором.
– Хочу представить вам, ваше превосходительство, нашу очаровательную цветочницу, – сказала она, подводя сановного старика к киоску. – Это Варенька Олексина, дочь, увы, покойного ныне Ивана Гавриловича и моя протеже.
– Весьма рад, весьма. – Губернатор ласково улыбнулся. – Цветы из таких ручек стоят золота, господа, не так ли? – Он положил на тарелку империал, выбрал розу и протянул ее Левашевой. – И помните, господа, что ваша сегодняшняя щедрость завтра обернется спасением сотен и тысяч русских страдальцев.
Сказав это, губернатор предложил руку Александре Андреевне и торжественно прошествовал к другим барышням, не задерживаясь, однако, нигде и ничего более не покупая. Совершив круг и открыв тем самым благотворительный базар, его превосходительство покинул зал, дабы не смущать никого своим присутствием. Левашева вышла вместе с ним, в зале сразу возник шум и веселый говор, а возле киоска Вари образовалась целая очередь желающих истратить золотой. Золотые эти то и дело тяжко падали в тарелку, разрумянившаяся и похорошевшая Варя еле поспевала сгребать их в ящичек и подавать розы и опомнилась только тогда, когда кончилось это волнующее звяканье золота и перед нею остался один-единственный покупатель, не спешивший ни покупать, ни отходить от киоска.
– Добрый день, Варвара Ивановна. Я был представлен вам, если припомните.
Варя едва ли не впервые с начала торговли подняла глаза. Перед нею, привычно улыбаясь ничего не выражающей улыбкой, стоял князь Насекин.
– Здравствуйте, князь. Какую розу вы желаете?
– Прошу извинить, я не любитель оранжерейных цветов.
– А…
Варя смешалась и, чтобы скрыть смущение, принялась с преувеличенным усердием наполнять цветами опустевшие вазы. Она доставала розы из ведер, спрятанных за прилавком, отряхивала и ставила в букеты, ожидая, что князь либо затеет разговор, либо уйдет. Но князь продолжал молча смотреть на нее, с грустью, как ей показалось, следя за каждым ее движением, и это было неприятно.
– Вы надолго в Смоленск? – спросила она, чтобы хоть как-то нарушить это странное молчание.
– Нет. А что же вы одна? Ваша сестра…
– Сестра в Москве, – поспешно и неучтиво перебила Варя. – Она стала курсисткой.
– Жаль, – сказал князь. – А я, представьте, еду в Кишинев и далее, куда двинется армия. Как там у Лермонтова? Кажется, «даст Бог, может, сдохну где по дороге».
– Ну зачем же столько горечи, князь.
– Может быть, это вследствие того, что я не люблю оранжерейных цветов?
– Право, это странно…
– Прошу прощения! – громко и резко сказал коренастый господин, подходя к киоску.
Князь посторонился. Незнакомец коротко поклонился Варе, высыпал на тарелку несколько зазвеневших полуимпериалов:
– Из ваших рук, мадемуазель.
– Здесь… здесь слишком много, сударь, – растерянно сказала Варя, собирая по прилавку рассыпавшиеся золотые.
Князь неприятно растянул тонкие губы, изображая улыбку:
– Оранжерейные цветы стоят дорого, Варвара Ивановна.
И, поклонившись, неторопливо пошел к выходу. Варя проводила его глазами, вновь глянула на щедрого господина.
– Вы заплатили за всю вазу?
– Ровно за один цветок. – Господин улыбнулся, показав крупные белые зубы. – Один, но из ваших рук.
– Благодарю, – сухо ответила Варя: ей не понравились развязные нотки. – Какую желаете?
– На ваш вкус.
Варя выбрала розу, протянула. Незнакомец взял цветок, неожиданно задержал ее руку.
– И тур вальса. У вас не будет отбоя от кавалеров, но тур вальса – за мной.
– Вы слишком… – Варя вырвала руку, – слишком вольны, сударь.
– Тур вальса! – Он вновь сверкнул улыбкой. – Думайте об этом туре.
Поклонившись, неизвестный ушел. Варя злорадно отметила мужицкую тяжеловесность его походки, усиленно занялась цветами, но не думать о танцах уже не могла. Сердилась на себя, на развязного, самоуверенного наглеца, старалась думать о другом и не могла.
Через час белозубый мужиковатый господин вновь появился подле ее киоска в сопровождении самой Софьи Гавриловны и был тут же ею представлен, правда, несколько путано и невразумительно. Сверкнул улыбкой, высыпал несчитанную пригоршню золота, преподнес Софье Гавриловне розу, поклонился и ушел, демонстрируя увесистую походку и тяжелую, несокрушимую спину.
– Миллионщик, – с легкой завистью сказала тетушка. – Но не то, не то. Женат. А ты молодцом, Левашева от тебя в очаровании.
– Он потребовал вальс, – пожаловалась Варя.
– Кто потребовал, этот… Хомяков? – Софья Гавриловна с усилием припомнила фамилию только что представленного ею господина. – Наглец, а придется. Много пожертвовал.
– Он мне антипатичен, тетя.
– Что делать, душечка, что делать! Они теперь персоны.
От кавалеров и вправду отбоя не было, и Варя танцевала без отдыха. Однако Хомяков не появлялся, танцы подходили к концу, и Варя невольно начала искать его глазами в группах офицеров. Но Хомякова нигде не было, и в душе Вари росла непонятная досада.
Она уехала домой, обласканная Левашевой и отмеченная в благодарственной речи самим губернатором. Тетушка была в восторге, всю дорогу то растроганно всхлипывала, то принималась целовать Варю, то строила грандиозные планы. Но сама Варя была угнетена и молчалива.
– Решительно не понимаю тебя, Варвара, – озабоченно объявила Софья Гавриловна по прибытии домой. – Феерический успех, покорение губернатора – и такое уныние. Отчего же уныние, поясни.
– Ах, оставьте меня, оставьте! – вдруг со слезами сказала Варя. – Я устала, я просто устала.
А у самой было чувство, что пообещали и пренебрегли. Причем и пообещали с расчетом, и пренебрегли рассчитано и демонстративно. И чувство это никак не проходило, заслоняя собой весь тот зримый, несомненный успех, который выпал ей на этом благотворительном базаре.
На следующий день поутру немолодой степенный мужик привез огромную корзину роз. Записки не оказалось, мужик на все вопросы поспешно отвечал: «Не могу знать», но у Вари сразу улучшилось настроение. Розы в корзине были точно такие же, как та, которую выбрала она вчера для Хомякова. «Какой странный, – подумала Варя, расставляя розы по дому. – Вероятно, это от застенчивости. Вчера был развязен, сегодня понял, устыдился и замаливает, а все от застенчивости, и это мило… Господи, что это я?»
На третий день Хомяков явился лично. Варя была наверху, в Машиной комнате, увидела из окна, как он вылезал из саней, запряженных парой серых в яблоках рысаков, но спряталась, как когда-то пряталась от князя Маша. И – ждала, слушая, как замирает сердце.
– Кататься зовет, – с неудовольствием сообщила тетушка, входя. – Вот наглец! Поди откажи.
– Зачем же? – Варя не смогла сдержать улыбку. – Пусть обождет, сейчас оденусь.
– Варенька, это не он. Не он, ты понимаешь?
– Я хочу прокатиться.
– Это компрометантно. Тебе не кажется?
– Так поедем вместе. Тетушка, милая, право, поедем. Такие лошади!
– Да, лошади, – сказала Софья Гавриловна, помолчав. – Заманул. А меня не заманул, и я не поеду.
– Так пошлите с нами кого-нибудь. – Варя отвернулась, чтобы скрыть радость. – Это же ни к чему не обязывает, тетя. Это же так, просто так. Прогулка.
– Именно что просто так, – вздохнула Софья Гавриловна. – Ах, Варвара, Варвара! Не погуби. Только не погуби никого.
– Какие лошади! – с восторгом вздохнула Варя.
Тетушка расценила вздох по-своему и более не противилась. Показаться на таких рысаках после недавнего триумфа было даже полезно: возрастал не только престиж, но и кредит. Однако из гордости она не поехала с мужланом-миллионщиком, послав в качестве соглядатая шуструю, глазастую и ушастую Ксению Николаевну. Варя и укутанная в шали старушка сели в сани, и тысячные рысаки помчались по Смоленску, яростно кося налитыми глазами.
Через час Хомяков осадил разгоряченных коней у кондитерской Христиади, кинул вожжи невесть откуда выскочившему городовому и пригласил дам на чашечку шоколада.
Шоколад пили в отдельном кабинете, прислуживал сам хозяин. Напиток был густым и ароматным, пирожные таяли во рту, за окном, где городовой держал нетерпеливых лошадей, медленно падал снег, что обещало совсем уже сказочное продолжение поездки, и Варя была на седьмом небе.
– Я человек простой, Варвара Ивановна, – сказал Хомяков, испросив разрешения курить и усыпив бдительность Ксении Николаевны большой рюмкой шартреза. – Из мужиков, пробился хребтом и нахальством. Манерам не обучен, да, признаться, и не люблю их: жизнь надо брать за рога. Имею собственное дело, собственный капитал и жену, плоскую, как икона.
– Извините, сударь, я не желаю слышать о…
– Так ведь я не жалуюсь, Варвара Ивановна, – грубовато перебил Хомяков. – Дело говорю, так уж извольте дослушать сперва, а там решайте, как оно для вас повыгоднее. А в том дело, что от супруги моей детей я не имею, а иметь бы надобно очень, поскольку капиталы большие и все по рукам разойдется да растащится, коли наследников себе не обеспечу. Да, не дала она мне детей, без соков оказалась, яловая, зато богомольная.
– Сударь! – громко сказала Варя в надежде разбудить задремавшую в уголке Ксению Николаевну. – Вы о жене, о женщине, как о скотине! Это возмутительно и неприлично, и я прошу вас…
– Да погодите вы, – поморщился Хомяков. – Война – это прибыль бешеная, недаром я в дело влез. Так мыслю, что утрою капитал, ежели хоть годочек протянется. А кому миллионы пойдут? То-то же и есть, Варвара Ивановна, то-то же и есть. А вы – благородная, красивая, хозяйственная – чего же мне еще-то искать? Так что, считайте, нашел, я-то сам так считаю.
– Я… я не понимаю. – Варя очень растерялась. – Это все странно весьма, согласитесь же, что…
– Виноват, не все сказал еще. Сперва все как на духу скажу, а потом вы решать будете. Завтра я на юг уезжаю – склады мои туда двинулись, – так что либо сразу порешим, либо сутки думать вам да советоваться. До завтрашнего дня, до отъезда моего.
– Что же, что решать? – Варю вдруг кинуло в жар, лицо ее заполыхало, и Хомяков откровенно любовался им; она кожей чувствовала это и цвела, хорошела под этим уверенным мужским взглядом. – Позвольте, я не понимаю ничего. Какие-то намеки… Извольте же объясниться.
– Это верно, – Хомяков улыбнулся белоснежной молодой улыбкой, – правда ваша, Варвара Ивановна, намеками да экивоками дела не делаются. – Он вдруг резко подался вперед, перестав улыбаться. – Я про ваше положение все знаю, справки наводил. Именьица-то вот-вот с молотка пойдут. А дальше что? Один брат без вести сгинул, второй у графа учительствует, невелик барыш, третий без царя в голове, как говорится, а детей поднимать надо, учить, в люди выводить. А на какие капиталы, Варвара Ивановна? А?
– Позвольте, сударь, нам самим управляться со своими заботами.
– Сами не управитесь, тут деньга нужна. Большая деньга, Варвара Ивановна, увесистая. – Хомяков расчетливо помолчал, ожидая возражений, но их не последовало. – Ну так вот, я деньгу эту даю. Сам векселя скуплю, расписки, обязательства, сам и сожгу на ваших глазах… в Кишиневе.
Он опять выждал, и опять Варя ничего не сказала. Не потому, что сказать было нечего, а потому, что хорошо знала долговые обязательства, скупить которые угрожал – то, что угрожал, не сомневалась, – этот уверенный в своей силе мужчина.
– Я человек практический, Варвара Ивановна, – продолжал Хомяков. – Не купчина, не барышник, дело у меня крупное, и решаю я крупно: миллион для меня не убыток. Но языкам не обучен, вот какая история, а в Румынии по-русски не говорят. Ну, письма там, бумаги тоже на языке иностранном. И желаю я иметь при себе особу, и по-французски знающую, и не за жалование мне обязанную, почему сразу миллион в обеспечение и предлагаю. Хотите – на булавки, хотите – семье отдайте, ваша на то воля полная. А на остальное моя воля, тоже полная, Варвара Ивановна. А там, глядишь, и жена помрет…
– Как… как вы смеете? – Варя вскочила, ногами резко двинув стул; он упал, зацепившись за ковер, Ксения Николаевна тут же проснулась. – В содержанки? В содержанки – меня, Олексину? Вы… вы негодяй, сударь. Негодяй!..
Хомяков, ничуть не испугавшись ни этого крика, ни сверкающих гневом глаз, с явным удовольствием наблюдал за Варей, удобно откинувшись к спинке стула. Обезоруживающая улыбка вновь появилась на его лице, а всегда настороженные глаза смотрели сейчас почти восторженно.
– Ух, хороша! – сказал он весело. – Чудо! Всю войну ждать тебя буду, так и знай. Так что сама меня ищи, как надумаешь. Мы с тобой куда как добрая пара: полный воз ребят в жизнь вывезем.
– Негодяй, – еле сдерживая слезы, сказала Варя. – Боже, какой негодяй! Идемте же, Ксения Николаевна, идемте отсюда!
На улице Варя дала волю слезам, благо народу почти не было. Бежала, скользя по звонкому снегу, и Ксения Николаевна с трудом поспевала за ней. А рядом с затоптанным тротуаром, не отставая и не обгоняя, рысила серая в яблоках пара, и городовой на козлах не отрывал от Вари глаз, готовый тут же откинуть медвежью полость по первому ее знаку. И эта готовность была сейчас особенно, до боли оскорбительна, будто обещанный миллион уже лежал в ее муфточке.
На подходе к дому сани тактично отстали. Варя сумела успокоиться, взять себя в руки и войти в дом хотя и в смятении, но уже без слез и отчаяния. Она ни словом не обмолвилась о разговоре в кондитерской Софье Гавриловне, а шустрая приспешница сообщить могла немногое, поскольку сладко продремала все это время. Тетушка несколько раз приступала к Варе с расспросами, но Варя отмолчалась, и Софья Гавриловна вскоре оставила эти попытки.
Хомяков больше не появился, прислав на следующий день очередной букет и прощальную записку. В записке, весьма вежливо, но запутанно составленной, содержалось указание, где именно следует теперь его искать. Варя прочитала послание, хотела немедленно порвать и сжечь – и не сожгла. Спрятала в шкатулку, где хранились ее личные письма, драгоценности и старые, еще пансионные дневники.
Жизнь потекла по-прежнему, но Варю не оставляло тревожное чувство, что она невольно чего-то ждет. Чувство это беспокоило ее, выбивало из привычной колеи, мешало с прежним прилежанием помогать тетушке во всех хозяйских делах. Варя плохо спала ночами, начинала читать и вновь бросала книгу, бродила в потемках по дому и – думала.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































