Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
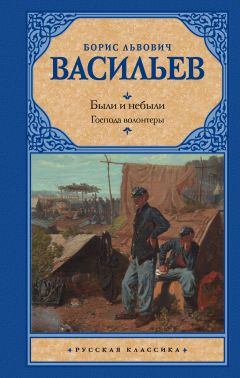
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 43 страниц)
Серые, бесшумные, как мыши, фигуры богомолок скапливались во внутреннем дворе Соборного холма. Центральный храм Успения Божьей Матери был еще закрыт, и женщины скромно жались к стенам, ожидая начала службы, солнца, тепла и света.
Сегодня был как бы женский день или, во всяком случае, – женское утро: высокочтимая чудотворная икона Божьей Матери Смоленской особо пеклась о нескладных женских судьбах, спасая от бесплодия, обещая легкие роды, излечивая женские болезни и поставляя женихов засидевшимся в девках невестам. И потоком шли неудачливые, скорбные, некрасивые, отчаявшиеся, но по-женски упрямо верящие в чудо.
– Боженька душу вкладывает, а Матерь Божья – жизнь, – с привычной приторно-ласковой напевностью говорила аккуратная маленькая старушка из породы вечных странниц, кочующих по святым местам. – А жизнь днями отмерена, како сосуд каплями: канул денек – упала капелька, еще денек – еще капелька: ан и сосуд пуст, помирать пора. И все-то капельки на небесах сосчитаны, а людям грешным знать счет их не дадено. Только замечено, милые вы мои, что там, где у бабы две слезинки, у мужика – одна: стало быть, и дни наши не равны. У мужиков день капельке равен, а у нашей сестрицы – двум капелькам. Оттого и век бабий короче мужеского.
Варя – тоже в темном и тоже в ожидании – стояла поодаль, не прислушиваясь, о чем толкует странница. Но последние слова упали в смятенную душу, как зерна на пахоту, и, еще ничего не осознав, не пытаясь даже понять, Варя качнулась и пошла к воротам, все убыстряя и убыстряя шаги.
«Две капельки, – разорванно и бессвязно думала она. – Каждый день – две капельки, а они идут и идут, идут и идут, а я теряю капельки свои, и никто мне не поможет, никто, никто…»
Думая так, она пробиралась сквозь спешивших к началу богослужения, и прихожанки сторонились, потому что Варя шагала энергично и напористо, никого не замечая и не желая замечать. Тот покой, та гармония, которые она так долго искала в сумеречных ликах икон и торжественной тишине церквей, с предельной ясностью представились ей недостижимыми. Нет, не вне ее существа была эта гармония, а внутри, в ней самой, в равновесии ее личного «я» с той объективной реальностью, которая называется жизнью. И равновесие это могло быть достигнуто только действием, только поступками, а не покорностью, не постом и молитвою. Безграмотная старуха сказала то, что Варя чувствовала каждое утро и каждый вечер: жизнь уходит по капелькам, тратится на бесплодные борения, на попытки примирения совести и желания, долга и чести. И сколько ни молись, сколько ни размышляй, сколько ни терзай себя – каждые две слезы равны прожитому дню, и если не сделать что-то немедленно, срочно, тотчас же, то сосуд оскудеет, и не для чего тогда будет ни спорить, ни ждать, ни молиться, ни жить. Капельки падают – вот и вся истина, и пока есть хоть какой-то запас, пока есть чему капать, надо устраивать самой свою судьбу.
Сказать, что Варя только сейчас трезво оценила свой возраст, было бы неверно. Она уже давно ощущала его, но ощущение это, рождая тревогу, все же оставляло упрямую надежду, что судьба ее образуется сама собой, что все уладится, что появится некто, ради кого она родилась на свет, и тогда жизнь вновь обретет и смысл, и цель, и надежду. Но в их опустевшем доме давно уже никто не появлялся, запутавшаяся в хозяйственных неурядицах Софья Гавриловна с гибелью Владимира, отъездом Маши и Таи, а в особенности с внезапным и непонятным уходом Ивана сдала духом и телом, оставив столь занимавшую ее когда-то идею Вариного сватовства. Все в доме отныне утихло и опустело, Олексины никого не принимали и никуда не выезжали, и тот феерический успех, которого добилась Варя на благотворительном базаре, так и остался случайным, постепенно отходя в воспоминания. Беспардонное и оскорбительное предложение разбогатевшего мужлана, повергнувшее Варю сперва во гнев, а затем в смятение, тоже стало прошлым, а дни шли и шли, пока не превратились в капельки в устах певучей богомолки, и капельки эти Варя ощутила физически до отчаяния и тоскливой, безнадежной боли. Капельки падали, а ее жизнь, ее молодость, силы, здоровье, вся ее нерастраченная страсть никому более были не нужны: ни семье, ни младшим, ни даже бесцеремонному миллионщику.
«Боже мой, Боже мой, но за что же, за что? – сбивчиво продолжала думать она, торопливо поднимаясь по Дворянской. – Я же не уродка, я умна, недурно сложена, у меня белая кожа, красивые волосы, легкая походка. Почему же судьба обходит меня, почему? Я отмолила ту, старую вину, тот невольный грех свой, отмолила, отплакала, покаялась – так за что же лишена того, чем хвастается любая дворовая девка? Судьба? Нет, я сама загубила себя. Сама, сама!..»
Задыхаясь, она уже почти бежала в гору, но не смирение перед судьбой, не горечь оттого, что в мыслях она признавала себя виноватой, а гнев, слепой, безадресный отцовский гнев мутной волной поднимался в ней с каждым шагом. И если бы у нее нашлись силы остановиться, успокоиться, отдышаться, если бы ее встретил кто-либо из знакомых, заговорил бы, отвлек, тогда бы Варя сумела справиться с собой, сумела понять, что, признавая себя виновной в собственной несложившейся судьбе, она в то же самое время под этими смиренными мыслями уже искала иные причины, иных виновных. Искала и нашла, и знала, что нашла, но и зная, не признавалась самой себе, а лишь распаляла гнев, подходивший на этих тайных мыслях, как на дрожжах.
Она буквально ворвалась в гостиную, где тетушка еще допивала утренний кофе и исполнительный Гурий Терентьевич раскладывал свои счета и бумаги, начиная что-то монотонно и длинно объяснять Софье Гавриловне. Увидев Варю, он запнулся на полуслове и поклонился.
– Ступай отсюда, – с трудом сдерживаясь, но все же недопустимо резко сказала Варя. – Вы слышали?
Сизов испуганно посмотрел на невозмутимую Софью Гавриловну, еще раз поклонился и, чуть помедлив, бесшумно вышел, аккуратно прикрыв за собой тяжелые двери. Эта покорность как-то пригасила Варину вспышку, первая волна отхлынула; тетушка по-прежнему спокойно пила кофе, и только чашечка в ее располневшей руке задрожала чуть приметнее. Но Варя не смотрела на Софью Гавриловну, а, нервно потирая пальцы, металась по гостиной. Чуть звякнув, тетушка опустила чашечку на блюдце, поднесла салфетку к губам.
– Он проворовался?
– Кто?
– Гурий Терентьевич. Обманывает?
– Не знаю, – Варя неопределенно пожала плечами. – О чем вы, не понимаю. Это же вы обманываете. Да, вы! Со дня приезда своего в Высокое вы уже начали обманывать меня, меня, которая все силы, молодость, счастье свое положила во имя семьи. Так где же она, судьба моя, тетя? Вы же обещали мне ее, обещали, так дайте, не обманывайте более, не… – Варя неожиданно замолчала, потому что Софья Гавриловна слушала спокойно, не шевелясь и не останавливая ее. – Кажется, я горячусь. Господи, какое мне дело до пропавшего Ивана, до ваших расчетов, до успехов Наденьки или шалостей Георгия, когда я так безмерно устала. Я устала ждать, тетя, надеюсь, вы не осудите меня за это?
– Да, – Софья Гавриловна важно кивнула. – Не продолжай. В перечнях нет истерики, и я окончательно запутаюсь.
– Ваша манера разговаривать, милая тетушка, порой так похожа на издевательство, что я… – Варя не закончила фразы и отошла к окну. Потом сказала: – Мне следует принести извинения, я не в меру резка.
– Я не знаю, что такое проценты, – вздохнув, объявила тетушка. – Это то, чего на самом деле нет. И вот мы живем на то, чего на самом деле нет, и от этого все наши несчастья.
– Если бы только от этого, – Варя невесело усмехнулась. – Если бы только от этого, я бы нашла возможность…
И опять оборвала себя, словно очень хотела и очень боялась проговориться. Софья Гавриловна внимательно посмотрела на нее поверх очков – они до сей поры так огорчали ее! – и медленно покачала седой головой.
– Когда-то твой батюшка сказал, что смена века означает смену знамен. Тогда я была полна надежд, и мне некогда было понимать его. Но я слегка зажилась на этом свете и кое-что научилась вспоминать. И я вспоминаю то, что ушло навсегда.
– Боюсь, что я тоже вскоре начну вспоминать то, что ушло.
– К примеру, слово «боюсь», – все так же размеренно продолжала тетушка. – Оно появилось совсем недавно, ты не находишь? Во всяком случае, мы пользовались им очень редко и в ином смысле. Мы боялись чего-то определенного, а теперь боимся неопределенного. Значит, надо определиться. Определить себя, так будет яснее. Разве я неправа?
Варя молча смотрела на старую даму. За тяжелой дверью осторожно покашливал Сизов.
– Да, да, тебе следует определить себя, – повторила Софья Гавриловна. – Я полагаю, что в нерешенности корни. Я многое хотела сделать и не сделала ничего, и потому у меня осталась одна привилегия. Привилегия старости: давать советы.
– И что же вы советуете?
– Возобновить отношения с Левашевой. Она только что воротилась в Смоленск: прекрасный повод для визита.
– И это все? – грустно улыбнулась Варя.
– Нет. Надо позвать Гурия Терентьевича. Пусть он занимается своим делом, а ты будешь заниматься своим.
– Но каким же своим, каким, тетушка, милая? – почти выкрикнула Варя.
– Наносить визиты Левашевой, – строго сказала Софья Гавриловна. – С той же верой и надеждой, с какой ходила по церквам. Бог жениха не даст, сударыня, а Левашева – даст. Если очень захочет. Поди поплачь да по дороге господина Сизова позови. Ну, что же ты? Поцелуй меня и ступай.
Варя без размышления восприняла прямой совет тетушки, как-то не оценив косвенного, хотя в том, иносказательном, вскользь, как воспоминание, подброшенном совете и заключалось главное. Нет, Софья Гавриловна отнюдь не приветствовала грядущую смену знамен, и лишь одна Ксения Николаевна знала, сколько бессонных ночей и раздумий стояло за этой подсказкой. Но дела Олексиных лихо неслись под гору, деньги таяли, как мартовские снега, и ответственность за семью в конечном итоге победила дворянскую гордость старой дамы. Ничего не узнавая специально, тетушка знала все и, утвердившись в своем знании, утвердилась и в мысли, что во имя спасения целого следует жертвовать частностью. И, направляя Варю к Левашевой, Софья Гавриловна втайне надеялась, что знающая истинную стоимость современных ценностей Александра Андреевна не преминет подсказать Варваре, что нынешние женихи не столько звенят шпорами, сколько золотом.
Тщательно готовясь к визиту, Варя сначала с удивлением, а затем с радостью обнаружила, что волнуется. Что сердце ее, в последнее тягостное время склонное к нытью, сейчас стучит с прежним нетерпеливым ожиданием, что щеки еще способны пылать, что нетерпение делает ее легкой, стремительной и грациозной. Она вновь поверила в свою молодость и неотразимость, в собственное счастье и удачу, тем паче что принята была без промедления и сама хозяйка с приветливой улыбкой поспешила навстречу.
– Вы изумительно хороши сегодня, прелесть моя!
Но в тот самый миг, как только Варя переступила порог гостиной, настроение победной легкости, вера в себя и в чудо тотчас же покинули ее. У окна вполуоборот к ней стояла молодая дама в визитном платье со шлейфом, что само по себе было совершенно невероятным для закоснелых мод провинциального Смоленска. И этот шлейф, и гордая осанка дамы, которую Варя сразу же узнала, и понимание несвоевременности своего появления в этом доме – все разом вернуло Варю на землю с тех облаков, на которые вознеслась она, еще раз рискнув поверить в саму себя.
– Кажется, вы знакомы с Варенькой Олексиной, дорогая Елизавета Антоновна?
– Да, мы встречались, – Лизонька слегка склонила голову, мельком глянув на Варю и с женской цепкостью оценив ее скромное и, увы, безнадежно отставшее от моды платье. – Очень рада.
Варя деревянным истуканчиком присела на стул, стоявший поодаль, в надежде, что Левашева обратит на это внимание и пригласит пересесть поближе. Но Лизонька трещала как сорока, продолжая прерванный разговор, и хозяйке было уже не до новой гостьи.
– Нет, нет, не говорите, подушечки под турнюр – вчерашний день, дорогая. В моде легкий каркас, этакая легкая корзиночка из проволочек, но высший шик – тугой крахмал! Да, да, туго накрахмаленная жесткая ткань создает шикарный силуэт, шикарный. А нижние юбки, господи, вы не поверите, стали важнее верхних! Их принято подбирать – разумеется, я говорю о верхних юбках, – подбирать особо изящными складками с напуском, и это очень, очень украшает фигуру. Женщина выглядит как бутон, настоящий шик, изумительно! Я уж не говорю о кружевной накидке – она называется «иллюзион», не правда ли, чрезвычайно мило? Нет, нет, шик – вот что определяет сейчас дам нашего круга, шик!..
Варя сидела не шевелясь, скованная стремительной болтовней о модах, сплетнях, слухах, драгоценностях, адюльтерах, туалетах, прическах, рысаках, особах, и словечко «шик», которым Лизонька определяла все необыкновенно модное, казалось Варе сказанным специально для нее, навсегда лишенной этого самого шика. С трудом высидев приличное для визита время, Варя пролепетала стертые фразы о здоровье и погоде и поспешила уйти, неуклюже, с каким-то постыдным заискиванием поклонившись в дверях звонко победоносной Елизавете Антоновне. Хозяйка не удерживала, однако проводила, еще раз восторженно отозвавшись о том, как хороша сегодня Варя, но этот прощальный комплимент прозвучал нестерпимо фальшиво.
Дома Варя ничего не стала рассказывать и сразу же прошла к себе. Заперла дверь и, не переодевшись, долго ходила по тесной, заставленной старой мебелью комнате вдоль кушетки, на которой спала, когда мама приезжала из Высокого. Она хотела о чем-то думать, искала эти думы, пыталась собрать мысли в единое целое, в какое-то подобие цепочки, придерживаясь которой, можно было бы куда-то выйти из этой комнатки, из глухого Смоленска, из опостылевшего одиночества, из самой себя. Но никакой цепочки не выстраивалось, логика не помогала, и Варя, так ни о чем и не подумав, достала шкатулку, где хранились ее личные вещицы и пансионные девичьи дневники, открыла ее и медленно, неуверенно, пересиливая себя, взяла надорванное до половины последнее и единственное письмо Романа Трифоновича Хомякова.
4Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич-старший вставал в пять утра: как многие из Романовых, он мнил себя прямым последователем Петра Великого. В шесть – после туалета и завтрака – начальник штаба Артур Адамович Непокойчицкий уже докладывал ему о перемещениях войск, турецких контрмерах, действиях речных флотилий и – особо – о состоянии Дуная.
– За истекшие сутки уровень воды понизился еще на три фута, ваше высочество. Старожилы из местных уверяют, что через неделю, много – десять дней, Дунай войдет в берега.
Николай Николаевич аккуратно заносил новые данные на огромную, лично им исполненную и любовно раскрашенную цветными карандашами схему. И по этой схеме получалось, что турки все еще не потеряли возможности помешать будущим русским переправам сверху: в нижнем течении реки их флот был уже частично уничтожен, частично отнесен к морю.
– Последняя дыра. – Карандаш скользнул по схеме. – Заткни ее, и, помолясь, будем готовиться перепрыгнуть.
– Я уже отдал распоряжение капитану первого ранга Новикову об установке минных заграждений, ваше высочество.
– Отряди ему в помощь Струкова, – подумав, сказал главнокомандующий.
– Слушаюсь.
В соответствии с этим решением 7 июня в одиннадцать часов вечера от деревни Малу-ди-Жос отошла флотилия из десяти паровых катеров и шести весельных шлюпок, нагруженных минами. Подойдя к местечку Парапан, моряки приступили к минированию Дуная, заняв предварительно остров Мечку отрядом спешенных казаков и пехотинцев. Башибузуки, охранявшие турецкий берег напротив Парапана, открыли было огонь по минерам, но дружные залпы казаков и пехотинцев быстро сбили их с береговых позиций, заставив отступить вглубь.
Через несколько часов, уже на рассвете, турки выслали паровой фрегат, вооруженный пятью орудиями. За ним в кильватере шел бронированный монитор с двухбашенным пушечным вооружением, намереваясь огнем с близкого расстояния потопить и разогнать суда заградительного минного отряда. Одновременно с этими мерами противник отправил из Рущука берегом конную батарею: турки всерьез были обеспокоены разворотом минных работ на Дунае.
Паровая шлюпка «Шутка» под командованием лейтенанта Скрыдлова, назначенная в охранение минному отряду, стояла за мысом заросшего лозой и камышом острова Мечки. Лейтенант Скрыдлов и его механик прапорщик Болеславский, сидя на надстройке, безмятежно болтали с увязавшимся за ними в качестве охотника Василием Васильевичем Верещагиным, к тому времени не только известным художником, но и георгиевским кавалером, получившим орден за личную храбрость в боях под Самаркандом. Василий Васильевич угощал офицеров испанским хересом и рассказывал о Париже, откуда только что прибыл.
– Бог мой, живут же люди! – восторгался наивный прапорщик, не бывавший нигде далее Бухареста.
– Вижу дым, ваше благородие! – крикнул матрос. – Сверху пароход!
– По местам! – Скрыдлов вскочил. – Василий Васильевич, прошу немедленно покинуть «Шутку».
– Давай команду, – улыбнулся Верещагин. – С шуткой и помирать не страшно.
– Василий Васильевич, я требую…
– Вижу фрегат! – прокричал Болеславский. – Здоровенный фрегатище, господа, с пушками!
– Отваливай! – скомандовал лейтенант. – Полный вперед, на сближение! Минеры, не зевать! Ну, Василий Васильевич, у меня ведь и спрятаться негде.
– Хлебни. – Верещагин протянул бутылку. – Хороший херес, правда?
Шлюпку уже трясло и било на волнах: на полных оборотах она шла навстречу темной громаде фрегата, все увеличивая скорость. Оттуда грохнул залп, снаряды разорвались позади шлюпки, а пароход вдруг стал резко сбавлять ход, отваливая к турецкому берегу.
– А, не нравится тебе, мусульманская душа! – радостно кричал Скрыдлов. – Давай обороты, Болеславский, давай!
– Вали к нему вплотную, чтоб из пушек не накрыл, – посоветовал Верещагин.
Он аккуратно допил херес, бросил бутылку за борт и поежился: в лицо бил ветер, с волн срывало водяную пыль; на «Шутке» все были уже мокрыми.
Шлюпка вырвалась вперед так стремительно, что турки не успели со вторым залпом: Скрыдлов уже проскочил в мертвую зону, куда не могли лечь турецкие снаряды. Но из-за отвалившего борта фрегата вынырнул монитор: пушка носовой башни медленно двигалась, нащупывая цель. Лейтенант круто заложил руль.
– Держитесь, Верещагин!
Снаряд с монитора разорвался у правого борта, окатив шлюпку водой. И почти одновременно с фрегата раздался оружейный залп, пули с треском кромсали обшивку. Скрыдлов судорожно вздрогнул.
– Ранен? – спросил Верещагин.
– Готовьсь! – крикнул лейтенант минеру, стоявшему на носу. – Спокойно, Виноградов, не спеши только!
– Есть не спешить!
С минера залпом сбило фуражку, но сам он остался невредим. По команде Скрыдлова он подключил контакты к шесту, на конце которого была закреплена мина, и изготовился.
Лейтенант вел шлюпку прямо на фрегат, застопоривший машины и жавшийся к берегу. Расстояние уменьшалось с каждым оборотом винта, и Верещагин видел ужас на лицах турецких моряков. Они уже не стреляли, а повалили к противоположному борту, и даже капитан бросился с мостика вниз, на палубу.
Второй ружейный залп раздался с монитора. Брызнули разбитые в щепы ручки штурвала, еще раз болезненно скривился Скрыдлов, а Верещагин ощутил сильный удар в зад.
– Ну, нашла место, – проворчал он. – Ни сесть, ни лечь.
Из плеча лейтенанта торчала, как стрела, большая щепа, кровь заливала китель, но он ни на что не обращал внимания. Его целью, его задачей, всем смыслом его жизни был сейчас турецкий фрегат. Он подвел «Шутку» почти вплотную, круто развернул, чтобы разойтись бортами.
– Рви!..
Минер ткнул миной в борт парохода рядом с колесом, замкнул контакты, нырнул за бронированную блинду, но взрыва так и не последовало.
– Нету! – крикнул он. – Провод перебило!
– Черт!.. – выругался Скрыдлов. – Рви «по желанию», еще раз подведу! – Повернул к Верещагину мокрое, побелевшее от боли и напряжения лицо. – Чего стоишь? Готовь крылатую!
Василий Васильевич, припадая на правую ногу и громко ругаясь, выбрался к борту, где за броневыми блиндами хранились плавучие крылатые мины. С монитора вновь грохнул орудийный выстрел, картечь с визгом пронеслась над водой, корпус шлюпки дрогнул.
– Все провода перебило! – прокричал минер с носа. – Взрывать нечем!
– Черт! Черт! Черт!.. – в отчаянии кричал Скрыдлов, колотя кулаком по штурвалу.
– В машинном вода! – донесся крик Болеславского.
– Задний ход!
«Шутка» медленно пятилась назад. Лейтенант развернул ее носом к своему берегу: провода электрозапалов были оборваны, вести бой стало невозможно. Фрегат молчал, напуганный опасной близостью миноноски и невероятной дерзостью ее экипажа, но монитор медленно наползал сверху по течению, продолжая стрелять и отрезая шлюпке путь к спасению.
– Не проскочим, – сказал Верещагин, кое-как втащившись в рубку. – А мне, пардон, задницу продырявило.
– Сколько продержимся? – не слушая его, крикнул Скрыдлов прапорщику.
– С полчаса! – глухо отозвался Болеславский. – Фуражками вычерпываем…
– Атакую монитор! – крикнул лейтенант. – Виноградов, подсоединяй батарею напрямую! Как столкнемся, рви руками!
– Есть рвать руками!
– Полный вперед! Не унывай, ребята, второй смерти не будет!.. Ну, Василий Васильевич, прыгайте за борт, «Шутка» кончилась. Берите второй пробковый пояс, и дай вам бог удачи. Может, картину про нас напишете.
– Картину про вас уж кто-нибудь другой напишет, – проворчал Верещагин, неприятно ощущая текущую по ногам кровь. – Жалко, хереса больше нет. Хороший был херес…
Дрожа всем корпусом, «Шутка» отчаянно спешила навстречу бронированному монитору. С него раздался еще один, по счастью, совсем уж неприцельный выстрел, и броненосец, заметно сбавив ход, стал отваливать влево, уступая фарватер.
– Уходят! – восторженно кричал минер Виноградов. – Струсили, нехристи окаянные!.. Жми, ваше благородие, у меня все готово! Жми, я рвану! Я их к аллаху ихнему с полным удовольствием доставлю!
Видя, что монитор разворачивается вверх по течению, фрегат тут же дал задний ход. Оба турецких судна, вооруженные артиллерией, бесславно отступали вверх перед отчаянным натиском практически безоружной русской миноноски.
– Все, – с облегчением вздохнул лейтенант, закладывая шлюпку к своему берегу. – Еле стою, пятка у меня оторвана. Только не говорите никому.
– Давай я поведу.
– Я моряк, Василий Васильевич. Я штурвал и мертвым не отдам. Сзади вас в нише фляжка. Там, правда, не херес, а наша родимая, но все равно дайте глоток.
– Что же ты раньше молчал, чертушка? – недовольно сказал Верещагин, доставая фляжку. – Из меня, понимаешь, кровища хлещет, как из кладеного кабана, а ты жадничаешь.
– Раньше никак нельзя было. Раньше бой был.
Вскоре полузатопленная шлюпка ошвартовалась у пристани, и с берега грянуло «ура» в честь моряков. Отсюда внимательно следили за всем ходом боя, и санитарные экипажи уже ожидали раненых. Но раньше врачей и санитаров на «Шутке» оказался Скобелев.
– Все видел, герои! – восторженно крикнул он, обнимая болезненно охнувшего Скрыдлова. – Молодцы! Молодцы, моряки, спасибо и поклон вам!
– Поосторожней, Миша, – хмуро сказал побледневший от потери крови Верещагин. – У него три ранения да заноза в плече, а ты как медведь, право.
– Вася, друг ты мой милый, герой Самарканда и Дуная! – Генерал ценил храбрость превыше всех человеческих качеств. – Дай я тебя поцелую!
– И меня не надо, – непримиримо ворчал художник. – У меня пуля там же, где была у Мушкетона, если ты не позабыл еще «Трех мушкетеров».
– Нашел, что подставить! – расхохотался Скобелев. – Санитары, бегом!
Он дождался, когда раненых – а среди них оказался и прапорщик Болеславский – отправят в госпиталь, вскочил на коня и, не разбирая дороги, помчался к Парапану. В Парапане оказался только что прибывший адъютант главнокомандующего полковник Струков, награжденный за Барбошский мост золотым оружием. Скобелев хмуро выслушал его представление, спешился, отозвал в сторону. Спросил обиженно с глазу на глаз:
– Стало быть, опять тебя вместо меня?
– Михаил Дмитриевич, ну помилуйте, ну я-то тут при чем?
– Вырвал ты у меня золотое оружие из рук, Шурка, – горестно вздохнул Скобелев. – Обидно.
– Война только начинается, – улыбнулся Струков. – Все еще впереди, потерпите.
– Это у тебя все впереди, а у меня, кажется, все уже позади. Ну скажи, чего он на меня взъелся? Из Журжи приказал не выезжать. Вот в Парапан прискакал – и то поджилки трясутся: как бы опять нагоняй не получить.
– Но это же ваш участок.
– Участок мой, а послали тебя. Не доверяют. Хоть ты тресни, не доверяют более Скобелеву.
– Ваше превосходительство! – донесся крик с берега.
– Сахаров бежит, – сказал Струков. – Что там еще?
– Ваше превосходительство! – кричал на бегу капитан Генерального штаба Сахаров. – Казаки говорят, турки возле наших минеров батарею к бою разворачивают!
– В шлюпки! – гаркнул Скобелев, мгновенно забыв все обиды и первым бросаясь к пристани.
В шлюпки садились наспех, не разбирая, кто и откуда. Кроме матросов-весельных в них набились казаки, капитан Сахаров, командир 54-го Минского полка полковник Мольский, прискакавший доложить, что его полк на подходе, и Скобелев со Струковым. Понимая, как дорога каждая секунда, матросы гребли изо всех сил, весла выгибались дугой. Двухверстное расстояние было пройдено за кратчайший срок, когда турки только снимали орудия с передков и растаскивали их по номерам. Но Скобелеву было недостаточно, он понимал, что минная флотилия будет сожжена и разгромлена, если капитан Новиков не прикажет вовремя отходить. А моряки не видели и не могли видеть с воды турецкую батарею, закрытую скатом берега, потому-то турки разворачивали ее неторопливо и тщательно, чтобы стрелять в упор и наверняка.
До острова оставалось саженей около ста, а катера стояли еще дальше и выше по Дунаю. Тяжелые шлюпки сносило течением, они с трудом выдерживали направление на остров Мечку, где в бездействии, поскольку башибузуки отошли, толпилось полторы сотни людей, а их шлюпки оказались отведенными за песчаную косу, на мелководье. На то, чтобы сообщить Новикову об опасности, предупредить стрелков об отходе и перетащить их шлюпки из-за косы на глубокую воду, требовалось время, и Скобелев, каждое мгновение ожидавший прицельного артиллерийского залпа по катерам, уже не мог тратить его впустую.
– Тащите шлюпки на руках через косу! – крикнул он, ни к кому, в сущности, не обращаясь, так как в этой ситуации не было ни начальников, ни заместителей. – Стрелки пусть немедленно открывают огонь хоть в воздух, только бы турок отвлечь!
Прокричав это, он вскочил и головой вниз бросился в воду. Вынырнул и, забыв об уплывающей по течению генеральской фуражке, быстро поплыл наперерез к катерам капитана Новикова.
– Куда вы, генерал? – растерялся полковник Мольский.
– Полковник Мольский, вы старший! – крикнул Струков. – Тащите шлюпки, спасайте людей!
И вслед за Скобелевым полетел в воду. То ли плавал он лучше, то ли просто был сильнее, а только вскоре нагнал генерала и плыл рядом, громко отфыркиваясь.
– А ты зачем? – сердито спросил Скобелев.
– С вами вместе, – улыбнулся Струков, – роскошные усы сосульками свисали к подбородку. – А то опять обиды разведете, почему мне одно, а вам другое. Теперь либо вдвоем потонем, либо двоих ругать будут.
– Понятно, – хмыкнул генерал. – Для придворного лизоблюда ты неплохо держишься на волне.
– Благодарю, ваше превосходительство. – Полковник по пояс выпрыгнул из воды, крикнул: – Новиков! Новиков, уводи катера!.. О, да тут мелко, Михаил Дмитриевич. Становитесь на ноги, не тратьте силы.
Со стороны острова раздался дружный ружейный залп. Оттуда не могли видеть турецких артиллеристов, но, как было приказано, стреляли, отвлекая внимание. Этот огонь, а также вид бредущих по отмели мокрых и грязных полковника и генерала еще издали заинтересовал моряков. Предчувствуя недоброе, опытный Новиков тут же начал свертывать минные работы.
– Отваливай! – кричали Скобелев и Струков. – Турки батарею разворачивают! Отваливай!
– Понял! – донесся далекий отклик. – Ухожу! Ждите ялик!
На острове продолжалась азартная пальба. Привлеченные ею, турки первый залп дали не по катерам, а по острову, опасаясь возможного десанта. Стреляли они с закрытых позиций, снаряды падали в воду, частью рвались в камышах. В грохоте, сумятице и неразберихе капитан Новиков хладнокровно свернул работы и теперь уводил катера из зоны возможного обстрела.
– Ну, одно дело сделано, – сказал Скобелев с облегчением.
Он стоял по грудь в воде и ждал, когда подойдет легкий ялик. Струков достал из кармана кителя портсигар, открыл: там была каша из размокших папирос.
– А продавали за непромокаемый.
На ялике подошел черноглазый ловкий матрос. Помог взобраться в лодку.
– Куда прикажете?
– К острову!
Когда добрались до острова, казаки и матросы уже перетащили почти все шлюпки на глубокую воду. Оставались еще две, но турецкие артиллеристы, упустив катера, обрушили на остров беглый огонь. Было убито двое, семеро ранено, и вдребезги разнесло одну шлюпку.
– Отходить немедля, – сказал Скобелев. – Кто не поместится в шлюпках, тащить за собой на ружейных ремнях.
Перегруженные сверх всякой меры шлюпки медленно отваливали от острова среди сплошных снарядных разрывов. Струков и Скобелев на ялике замыкали караван.
– Дай-ка погреюсь, – сказал Струков, садясь на весла. – Ох, давненько я фрейлин не катал по царскосельским прудам!
Скобелев оценил выпад, весело улыбнулся:
– А ты ничего, Шурка. Ладно уж, владей золотым оружием, дарю!
– Благодарю вас, Михаил Дмитриевич, – усмехнулся полковник. – Эй, матрос, махорка у тебя есть? Дай закурить его превосходительству, чтоб он зубами дробь не выбивал.
– С нашим удовольствием, – заторопился матрос. – Только ведь трубка у меня. Не побрезгуете?
– Был бы табачок хорош.
– Тютюн добрый, из Крыма. – Матрос быстренько набил трубку, раскурил, протянул генералу. – Пожалуйте флотского, ваше превосходительство.
– Спасибо, братец. – Скобелев, попыхивая трубкой, развалился на корме в позе Стеньки Разина. – Плавнее, плавнее подгребай, недотепа. И не брызгай!
– Р-рады стар-раться! – улыбался Струков, налегая на весла. – Ох и влетит же нам с вами за эту прогулочку, Михаил Дмитриевич. По первое число влетит!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































