Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
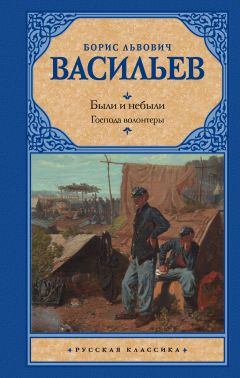
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 43 страниц)
Маша и Тая вместе с присланной из Смоленска для ведения хозяйства и надзора Дуняшей снимали квартиру на Остоженке, с прежним рвением бегая каждое утро на курсы. Жили скромно, принимая только подруг по ученью да Беневоленского; Федор имел свою комнату в квартире, но пользовался ею редко, предпочитая ночевать вне дома.
– За мной следят! – страшным шепотом сообщал он. – Девятый вал арестов!
Беневоленский, по-прежнему живший по паспорту мещанина Прохорова, скептически улыбался. Аресты действительно случались, а в связи с подготовкой к войне и усилились, но за что было арестовывать Федора Олексина, Аверьян Леонидович решительно не мог себе представить и считал, что Федор упоенно играет и в подрывную деятельность, и в слежку, и в опасности. Кроме того, он вообще не любил его еще со времен знакомства в Высоком.
– У них нет никакой организации, никакой программы или хотя бы цели в действиях, – говорил он за чаем, имея в виду новых друзей Федора. – Витийствуют, кричат, шумят, но даже полиция смотрит на них с насмешкой. И кто знает, может быть, даже поощряет: самодержавию они не опасны.
Когда он говорил вот так спокойно и рассудительно, барышни безоговорочно верили ему и вместе с ним смеялись и над Федором, и над собственными страхами. Но Беневоленский уходил, а Федор сыпал ужасными подробностями об арестах, тревогах и преследованиях, и Маша с Таей снова начинали пугаться. Федор наслаждался их волнениями, пугал еще пуще, исчезал куда-то и появлялся неожиданно и странно, как всегда.
– Машенька, я так боюсь за него! – вздыхала Тая, когда Федор исчезал. – Он такой безрассудно отважный!
Как-то само собой случилось, что Тая приобрела право совершенно по-особому тревожиться за Федора, гордилась этим правом, дорожила им и поверяла свои тайны только Маше, да и то шепотом, в темноте, в девичьих беседах перед сном. Маша все понимала, догадываясь, впрочем, что это пока еще не любовь. Просто Тае необходимо было о ком-то заботиться, кого-то ждать, и ждала она Федора. А Федор вспоминал о ней только тогда, когда видел ее, а если не видел, так и не вспоминал, увлеченный собственной деятельностью и собственными волнениями. Отношения их казались Маше не очень глубокими. Серьезная любовь, та, что нашла ее, представлялась ей спокойной и уравновешенной, которой не страшны никакие осложнения, разрывы, ссоры и разлуки. Маша сразу же согласилась ждать и не страдала, а, наоборот, очень ценила это ожидание счастья. Для нее все было еще впереди, когда она и Аверьян Леонидович, закончив ученье, уедут в глухую дальнюю деревню учить и лечить. Вот тогда и начнется то, что Маша считала счастьем, и в ожидании этого счастья жила ровно, радостно и терпеливо. До того вечера, когда Беневоленский пришел без обычной своей улыбки. Хмурился, озабоченно потирая лоб, а когда Дуняша ушла на кухню, сказал приглушенно:
– Большая неприятность, барышни. Убит надзиратель Бутырского тюремного замка. Зверь был надзиратель, студентов бил, издевался над политическими – и вот, пожалуйста. Кто-то не выдержал или… Теперь уж сыскное за нас возьмется вкупе с жандармами и полицией… – Он помолчал. – Словом, мне придется уехать. Пока не решено еще куда, но думаю, что проще всего вольноопределяющимся.
– Уехать?.. – еле слышно обронила Маша.
– На войну? – ахнула Тая.
– Ну какая для меня война – я медик. Где-нибудь пристроят в военно-временном госпитале, подальше от любезного отечества. А сейчас, извините, бежать надо. Я ведь и вас могу подвести, слежка не исключена. – Он встал. – Прощайте, Машенька. Ждите меня, умоляю, ждите. Повоюем, постреляем, людей покалечим – и все забудется. Тогда и вернусь и увезу вас.
Маша встала, словно вдруг сделавшись меньше ростом, а глаза точно выросли, занимая теперь пол-лица, жадно ловя взгляды Беневоленского. Она хотела сказать что-то, но губы дрожали, и она так ничего и не сказала. Аверьян Леонидович бережно обнял ее, привлек к себе, поцеловал в лоб.
– Помните, что люблю вас, что жизни своей не мыслю…
– Не уходите… – Маша запнулась. – Нет, нет, что я! Уходите, немедленно уходите. Бегите от них, дорогой мой, любимый мой. Бегите! Я… я сама найду вас, слышите? Найду, найду!..
Уйти Аверьян Леонидович не успел: вошел Федор. Он был чем-то до крайности взбудоражен, нервно потирал руки и дергал уголком рта.
– Хотя бы темноты дождались, – буркнул он, увидев одетого Беневоленского.
Прошел умыться. Заметив растерянность барышень, Аверьян Леонидович снял пальто. Все молчали, невольно прислушиваясь, не идет ли Федор. Наконец он вернулся, сел к столу, спросил водки. Выпил рюмку, поданную Таей, глянул на Беневоленского, усмехнулся:
– Не от меня надо бегать.
Аверьян Леонидович смотрел на его дергающийся рот, на пальцы, что не могли остановиться, успокоиться. Спросил вдруг:
– Вам известно, что убит надзиратель…
– Не убит, а казнен, – поправил Федор. – Приговор приведен в исполнение.
– Чей приговор?
– Наш.
Федор словно обрушил это слово – так увесисто оно прозвучало. Аверьян Леонидович чуть сдвинул брови.
– По какому же праву…
– Право завоевывают, господин Беневоленский, а не ждут.
– Но это же убийство! – вскрикнула вдруг Маша. – Это убийство!
– Убийство? – Федор впервые отвел глаза от Аверьяна Леонидовича и посмотрел на сестру. – А держать в казематах людей, вся вина которых заключается в том, что они власти не приемлют, не убийство? А вешать их под оркестры – не убийство? А ссылать в рудники тоже не убийство? В тебе кричит сейчас гнилая мораль прошлого, сестра, мы отметаем ее.
– Но с какой же целью, Федор Иванович? – тихо спросил Беневоленский, стремясь снять ту истерическую экзальтацию, в которой пребывал Федор. – С целью борьбы за право вершить суд и расправу? Но при чем тогда этот надзиратель, от которого ровно ничего не зависит? Ради мщения? Мелко, опять не тот объект. Что же он, объект этот, случайно под руку вам подвернулся или все же есть хоть какая-то цель, программа какая-то?
– Вы развращаете народ, господа пропагаторы, да, развращаете! – покраснев, закричал вдруг Федор. – Правительство развращает сверху, а вы снизу, обещая журавля в небе после дождичка в четверг. Вы гасите стихийные порывы толпы, льете масло на бушующее море, мужик уповает уже не на топор, а на вашу социальную сказку о земном рае. Удивляюсь, за что вас преследуют: на месте правительства я бы ордена вам жаловал.
– Почему ты повторяешь чужие слова, Федор? – строго спросила Маша. – У тебя нет своей правды?
– Федор Иванович объясняет, – тихо сказала Тая. – Зачем же кричать?
Федор быстро глянул на нее. Тая смущенно улыбнулась и опустила глаза. Маша сердито дернула плечом, перебросив косу на грудь, и стала привычно теребить ее, по-прежнему гневно сверкая глазами.
– Вы не отвечаете на вопрос, – сказал Беневоленский. – Вопрос мой касался цели.
– Я помню. – Федор закурил. – Как ни странно, цель у нас общая: разрушить этот порядок вещей. Цель общая, а средства противоположные. Там, где вы убаюкиваете, мы возмущаем, где обещаете, мы потрясаем, где уговариваете, мы взрываем. Ваша программа основывается на долготерпении русского мужика, наша – на его бунтарском инстинкте. Вы хотите разбудить Россию шепотком, мы – взрывом. Да, взрывом! – Федор с вызовом оглядел всех, вновь чуть задержавшись на рыжей барышне напротив. – Сотни лет Россию гнули к земле страхом – мы хотим обратить его против тех, кто им пользуется с помощью правительства, церкви и той подленькой рабской морали, что копошится во всех вас, господа радикалы, социалисты, либералы и прочие так называемые носители общественной совести. Вы говорите, что надзиратель не объект? Какой рационализм! Дело не в объекте, дело в вызове! Мы хотим посеять страх во всех звеньях государственного аппарата от законодателя до исполнителя, и мы посеем этот страх. Да, посеем! И если для этого понадобится храм взорвать, мы и храм взорвем. И тогда…
– И тогда площади уставят виселицами, а тысячи безвинных пойдут на каторгу, – резко перебил Беневоленский. – Это не программа, это кошмарный план охранки. Вами руководят провокаторы, Олексин, опомнитесь.
– Как вы смеете! – Федор, краснея, медленно вставал, опираясь о стол руками. – Как смеете оскорблять моих друзей, героев, благороднее и честнее которых… Убирайтесь вон отсюда!
– Сидите, Аверьян Леонидович.
Маша тоже встала. Брат и сестра в упор глядели друг на друга, разделенные столом, и молчали.
– Аверьян Леонидович – мой жених. – Маша чеканила каждое слово, а глаза ее приобрели сейчас холодноватый отцовский блеск. – Либо ты сейчас же попросишь извинения, либо… либо уйдешь навсегда.
– Ты сейчас выбираешь, Мария, – тихо сказал Федор.
– Я выбрала.
Федор опустил глаза. Долго смотрел в стол, машинально разглаживая скатерть, потом аккуратно задвинул на место стул и, ни на кого не глядя, пошел в прихожую. Тая растерянно посмотрела на Беневоленского, на Машу и быстро вышла следом.
– Ужасно! Вероятно, мы все неправы, – сказал Аверьян Леонидович.
– Я выбрала, – повторила Маша, по-детски упрямо тряхнув головой. – И это не сгоряча.
Вошла Тая. Закрыла дверь, обвела всех расширенными глазами.
– Он ушел.
Маша промолчала.
– И мне пора. – Беневоленский встал. – Прощайте, Тая.
Тая молча кивнула. Аверьян Леонидович грустно усмехнулся. Маша вышла проводить его, вскоре вернулась.
– Я уеду, – сказала Тая. – Может быть, завтра-послезавтра, не знаю. На днях.
– Куда?
Тая неопределенно пожала плечами. Она говорила отрывисто, глядя в темное ночное окно.
– Выгнать брата, у которого нет ни угла, ни денег. Ты из страшной породы, Мария. Федор сказал, что ты в отца.
– Отец никогда бы не подал руки тому, кто хотя бы на словах восхваляет террор. Я тоже.
– Федор несчастный человек! – почти выкрикнула Тая. – Загнанный, загнанный в угол!
Судорожно всхлипнув, она выбежала из комнаты. Маша убрала со стола, подумала. Потом подошла к комнате Таи, приоткрыла дверь. Тая лежала на кровати, спрятав лицо в подушки.
– Он вернется, Тая, – тихо сказала Маша. – Я лучше тебя знаю своего брата. Он вернется.
Федор вернулся на третью ночь. Поскреб в дверь так тихо, что услыхала одна Тая.
– Господи, Федор Иванович, наконец-то!
Федор был весь в снегу, мокрый и озябший, точно пролежал день в сугробе. Глаза лихорадочно блестели. Тая видела, как колеблется в них свет лампы, которую она держала в руках.
– Не приходили? – спросил он. – Никто не приходил? Меня не спрашивали?
– Нет, – удивленно сказала Тая. – Вы озябли, Федор Иванович, я чай поставлю.
– Нет, нет, не надо. Дайте водки. У нас есть водка?
Тая достала графин, налила рюмку. Он выпил, попросил хлеба. Съел целую французскую булку с большим куском колбасы. Ел жадно, глотал, не прожевывая. Потом дико посмотрел на Таю.
– Виселица ждет.
– Что? – испугалась Тая.
– Бежать надо, бежать! А куда? В Смоленске найдут, в Высоком найдут, в Туле тоже найдут. Куда же, а?
– В Тифлис, – шепотом сказала Тая. – В Тифлис, Федор Иванович!
Весь день Федор прятался в комнате Таи. Он ничего не рассказывал, и расспрашивать его не стали. Маша дала денег, Тая купила два билета на вечерний поезд и в сумерках с величайшими предосторожностями отвезла Федора на вокзал.
Во втором классе Федор ехать категорически отказался. Тряслись в третьем, забитом узлами и корзинами, в чадном сумраке махорочного дыма, оплывших свечек, душных испарений, среди ругани, храпа, стонов, слез и жалоб. Федор забрался в угол под низко нависшую полку, дремал на Таином плече, изредка испуганно вздрагивая. Сердце Таи сжималось от жалости к нему, такому потерянному, замученному и слабому. Сидела, боясь пошевелиться, промокала платком испарину на его лбу.
– Муж? – спросила сидевшая напротив пожилая чиновница в старой мужской шинели.
Тая кивнула, чувствуя, как застучало сердце.
– Болен, видать, – вздохнула добрая чиновница. – А у меня болел-болел, да и помер. А пенсии не дают. Вот в Москву ездила, хлопотала, а зря, только потратилась. Не подмажешь – не поедешь, так-то мир устроен, а подмазывать нечем. – Она опять вздохнула, поглядела на Федора. – Чайку бы ему, ишь мается. На станции сбегайте, я чайничек дам.
За Харьковом Федор немного успокоился, даже повеселел, то ли поверив в спасение, то ли просто устав бояться. Но говорил по-прежнему мало, односложно отвечая на вопросы и поспешно отклоняясь в тень, под полку, как только в вагон входил посторонний.
Но Тае и от этого стало полегче; на станциях в сумерках она выводила его гулять. Федор слушался, как маленький, и Тая думала, что теперь во имя спокойствия этого человека она готова ехать в Крымскую, вытерпеть любой позор, но уберечь, сохранить и спасти его. Не для себя – для него самого, для его счастья.
После долгих мучительных пересадок добрались до Тифлиса. Но когда наконец-таки оказались на узкой крутой улочке, где когда-то Владимир снимал комнату, сердце Таи болезненно заныло. Она вспомнила его торопливый уход навстречу гибели, его последнюю улыбку и не смогла сдержать слез.
– Почему мы стоим? Почему? – встревожился Федор. – Это не здесь?
– Простите, Федор Иванович. – Тая торопливо отерла слезы. – Не знаю только, пустят ли вдвоем.
Она думала, как ей представить Федора хозяйке. Форма была одна – та, к которой прибегла она в поезде при разговоре с бедной чиновницей. Но утверждать это при Федоре было неудобно.
– Вы обождите здесь, Федор Иванович.
– Нет-нет, я не стану ждать. Мне нельзя ждать, Тая, право, никак нельзя. Идемте вместе. Идемте же.
Пришлось идти вдвоем и мучительно краснеть, говоря толстой хозяйке с жесткими усиками над пухлой верхней губой:
– Я с мужем, если позволите.
Хозяйка отнеслась к этому известию спокойно, Федор и бровью не повел, а Тая продолжала краснеть, глядя, как хозяйка застилает чистым бельем единственную кровать. Чтобы скрыть смущение, завела длинный разговор о работе, о мастерицах и модных портнихах, о ценах, возможных заказчицах и о множестве иных проблем. Хозяйка отвечала с удовольствием, детально обрисовывая каждую даму, которой касалась в разговоре; Тая не прерывала ее, вышла вслед на хозяйскую половину, долго пила там чай, слушала, а сама ощущала каждое мгновение, ибо мгновение это неумолимо приближало ночь. И очень надеялась, что Федор сам что-то придумает, на что-то решится, избавив ее от необходимости принимать решение хотя бы сегодняшним вечером. Пила чай, поддакивала хозяйке, а перед глазами стояло широченное супружеское ложе.
Вернулась в комнату под стук собственного сердца. С отчаянной решимостью распахнула дверь и с облегчением перевела дух: Федор лежал на полу, подстелив студенческую шинель, в которой бегал эту зиму, и накрывшись тужуркой. То ли прикидывался спящим, то ли действительно спал, но не шевелился. Тая тихо погасила лампу, торопливо разделась и юркнула под одеяло.
А сон не шел. Лежала, натянув одеяло до подбородка, пыталась думать, как они будут жить, где зарабатывать деньги, но думала совсем не об этом. С беспокойством ощущала, как холодает в нетопленом доме, как несет сквозняком из-под неплотной двери, слушала, как ворочается на полу Федор, пытаясь согреться, и уже знала, что пожалеет, что не выдержит и позовет. Позовет согреться, только унять дрожь и кое-как перетерпеть эту ночь. Точно знала, что позовет, не обманывала себя, но боялась этого и тянула, силой сдерживая собственный голос, который уже рвался с губ:
– Федор Иванович…
– Вы меня? – Федор сразу же сел, закутавшись в тужурку. – Я мешаю вам, да? Я ведь не сплю, ворочаюсь.
– Вам холодно? – еле слышно спросила она. – Так…
– Нет, что вы! – поспешно перебил Федор, не дав ей закончить фразу. – Я холода не боюсь, я совсем не потому не сплю. Я привык так спать, вы не беспокойтесь, пожалуйста. Я ведь по Руси бродил со старичком Митяичем. Хороший был старичок, я рассказывал вам, помните?
– Из дверей дует. – Тая говорила очень тихо, но Федор слышал все, что она говорила, и не хотел слышать того, чего она никак не решалась сказать.
– Это пустяки, что дует, это даже приятно. Знаете, свежий воздух… А не сплю я… не сплю потому… – Он встал, потоптался на шинели босыми ногами. – Вы позволите закурить?
– Да, конечно, конечно.
Он чиркнул спичкой, прикуривая. Отошел к окну – Тая следила, как плыл по комнате огонек папиросы, как возник в окне темный силуэт, – курил, глубоко затягиваясь. Потом решительно сунул окурок в цветочный горшок и шагнул к кровати. Тая уже не видела его, а лишь чувствовала, что он стоит рядом (протяни руку – и дотронешься), и сердце ее замерло.
– Тая, – хрипло выдохнул Федор и вдруг упал на колени перед кроватью. – Я преступник, Тая. Я понял, что я преступник.
– Что? – Тая вместе с одеялом ринулась от него, больно ударившись затылком о стену. – Что вы говорите, Федор Иванович?
– Истину, – почти по складам выговорил он. – Виселица впереди.
Она молчала, вжавшись в стену. Федор вздохнул.
– Страшно, да? Мне тоже страшно. А когда приговор подписывал, страшно не было. Я думал об этом, когда в поезде ехали: почему же мне тогда-то, когда подписывал, страшно не было? Значит, тем, кто смертные законы издает, тоже не страшно? Значит, что же получается: люди не совести своей страшатся, а расплаты только, наказания, а не преступления? Так, наверно, так, по себе сужу, по тому, как я сейчас боюсь, наказания я боюсь, Тая. Значит, червь я, как и все, червь, а не человек. Ох, как же это гнусно – собственную подлость ощутить!..
– О чем вы, Федор Иванович? – тихо спросила Тая. – О чем?
– Я человека того, из Бутырок, к смерти приговорил. Не один, конечно, но сейчас это уж и не важно. Важно, что радовался я этому, гордился, могучим себя чувствовал. А потом, когда провалы начались, когда взяли многих – я ведь чудом ушел, истинным чудом! – так и полез из меня страх за шкуру свою, так и полез. И я понимаю, все понимаю, всю мерзость свою, а сделать ничего не могу. Страх этот пересилить не могу: ведь повесят же меня, коли поймают, повесят, Тая, повесят!..
Он упал головой на край постели, зарыдал, затрясся так, что Тая ощутила дрожь его через доски кровати. И тут же, ни секунды не колеблясь, отбросила одеяло, которым до сей поры закрывалась, как щитом. Отбросила, обдала Федора теплом, протянула руки, нашла его голову. И сказала строго и властно, как старшая:
– Иди сюда. Иди ко мне, согрейся, успокойся. И ничего не бойся, ничего, слышишь? Я спасу тебя. Ну иди же, иди ко мне…
3Весна в этом году выдалась ясной. Днем оглушительно орали воробьи, звонко била капель, но к вечеру все умолкало, затаивалось, и мороз за ночь затягивал все проталины. Что-то нетерпеливое и яростное носилось в воздухе; вечерами тихий Смоленск оглашался криками лихачей, музыкой полковых оркестров, звоном шпор и бешеным ритмом канканов в кафешантанах, разросшихся в городе, как опята в дождливую осень. Опереточные дивы, днем отсыпавшиеся в полутемных номерах, ночью отплясывали на скрипучих досках кое-как сколоченных эстрад, мелькая черными чулками в неверном и загадочном свете свечей.
– Вавилон, – кратко определила Софья Гавриловна нынешнее состояние некогда скромного провинциального города Смоленска.
За последнее время тетушка начала сдавать, теряя присущую ей энергическую жизнерадостность, выглядела нездоровой и озабоченной и все время что-то считала, сердито щелкая костяшками счетов.
– Варенька, погляди, душенька, эти записи. Я ничего уже не понимаю, что мы продали, а что купили.
– Извините, я спешу к обедне.
– Куда спешишь?
– В церковь, тетя, – с ханжеской строгостью пояснила Варя.
– Ну иди уж, иди, – ворчала Софья Гавриловна, – хотя и странно все это, Варвара, весьма странно, потому что рано. Я имею в виду не обедню, а увлечение.
Варя и сама понимала, что вдруг настигшее ее религиозное увлечение странно и необъяснимо. В семье соблюдалась лишь обязательная обрядность, без которой нельзя было обойтись, не вызывая пересудов; никому и в голову не приходило появляться в церкви чаще одного раза в неделю, говеть по собственному желанию или стоять всю службу от начала до конца. Слушали пение, привычно крестились, рассеянно прикладывались к образам да более или менее аккуратно ставили свечки – вот, пожалуй, и все, чем связывали себя Олексины с церковью. И вдруг умница Варя, любившая сомневаться и умевшая спорить, пристрастилась к ладанному чаду, как какая-нибудь полуграмотная купчиха.
– Господи, Господи, не допусти, Господи! – твердила она, стоя на коленях в маленькой уютной Благовещенской церкви. – Я грешница, Господи, удержи меня, Господи. Удержи!..
Иван за этот год неожиданно вытянулся и догнал в росте Владимира, как определил Георгий по зарубке на косяке дверей в столовую. Старательно проверил – мальчик был основательный, – потом сказал:
– Ваня, ты с Володей сравнялся. Полвершка, правда, еще не хватает, но полвершка можно за месяц набрать. Я набрал целый вершок в прошлом сентябре: я почему-то осенью лучше расту.
– Мелкота! – Иван любовно щелкнул младшего брата в лоб. – Есть закон убывающей возрастной прогрессии.
Был такой закон или не было – Георгий верил на слово. А Иван после этого разговора раздобыл немецкую книжку «Как я стал настоящим мужчиной», купил гантели и повесил в своей комнате трапецию. Философия была отвергнута, как прежде была отвергнута химия.
В гимназии – преимущественно в старших классах – эта ранняя весна ощущалась по-особому. Лихорадочное ожидание войны, в котором пребывало все русское общество, заметно поколебало и тот традиционный культ муштры, который новая гимназия унаследовала от прежних закрытых учебных заведений. Усатые гимназисты читали газеты, а преподаватели все чаще не только не пресекали этого, но и сами ввязывались в споры, смеялись над турецкой армией, дружно ругали Англию, озабоченно следили за Германией.
– Бисмарк этого не допустит.
– Чего – этого?
– Ничего он не допустит.
– Господа, австрияки утверждают, что турки укрепляют крепости при помощи английских инженеров!
– Какое вероломство!
– Да врут австрияки, господа!
– И все-таки Бисмарк этого не допустит.
– Да чего этого, мямля?
– А ничего. Не допустит, и все. Вот посмотрите.
Так спорили в классах и коридорах. В уборных, правда, говорили о другом:
– А вот брат видел водевильчик «Кавалер двух дам». Очень милая, говорит, вещица, очень! Там мадемуазель Жужу в первом же выходе вот этак подбирает юбочку и – все выше да выше. А под юбочкой – ничего. Ну решительно ничего до самых коленочек.
– Опять, Дылда, на брата сваливаешь?
– Ну где же мне-то, господа, где же? Там же педелей половина зала, ей-богу, половина зала. Как увидят, так цап-царап. И прощай аттестат.
– А зачем тебе аттестат?
– Как зачем? Для коммерции.
Иван слушал гимназические пересуды молча: не любил пустомельства, а чего-либо реального предложить не мог. Разговоры о политике и войне впитывал активно и напряженно, нечасто ввязываясь в споры, но основательно продумывая все, что слушал. А болтовню глотал, как отраву, морщась и не разжевывая. Но не уходил, пока не кончались рассказы, и по ночам перед его глазами мелькали никогда не виданные им сказочные ножки, живое кружево юбок, недоступно-соблазнительные подвязки, чулочки и ленточки, уходящие куда-то выше дозволенного, выше мыслимого, куда-то вверх, почти что в небеса. Он никому не признавался в этом, даже товарищам, потому что все его усачи-товарищи либо выдумывали, либо и в самом деле перешагнули порог, хвастались победами и смаковали подробности, а он, жадно слушая, не мог себе даже представить, что когда-либо осмелится прикоснуться к женщине. Это было выше его сил и даже выше тех тайных желаний, чью изматывающую силу он испытывал каждую ночь.
Дома стало невесело и неуютно. С детьми – Георгием, Колей и Наденькой – Иван как-то утратил близость: они начали его раздражать, сами чувствовали это и не навязывались; Варя все больше и больше уходила в себя; Софья Гавриловна, окончательно запутавшись в счетах и расходах, взяла на время конторщика – невыразительного, тихого и очень старательного. От него всегда пахло дешевым мылом и какими-то мазями от прыщей; Иван его не любил.
– Бонжур, мсье Олексин, – с удовольствием говорил конторщик всякий раз, когда видел Ивана.
– Здравствуйте, Гурий Терентьевич, – сухо отвечал Олексин и проходил не задерживаясь.
Вероятно, он так и прошел бы мимо услужливого конторщика, если б не случайно услышанный им разговор. Дело происходило вечером в гостиной, тетушка клевала носом, а Гурий Терентьевич Сизов тщательно проверял счета, заносил цифры в реестр, щелкал счетами и неторопливо развлекал Софью Гавриловну уютными смоленскими беседами.
– …а батюшка аккурат на Евдокию и преставился: в пять дней сгорел. И осталась маменька с дочерью да со мной, оболтусом, без всяких средств и возможностей. Гимназию я оставил, в ученики устроился – спасибо, дядя помог, – да не спасло это нас от бедности и позора, уважаемая Софья Гавриловна. Сестра моя единственная, Дашенька, не вытерпела нищенства нашего, экономии на свечах да на кипяточке да в пятнадцать годков и сбежала с купцом Никифоровым: помните, может быть, года три назад шуму-то было? Ну, купец церковным покаянием отделался, а Дашенька в актерки пошла…
Иван рылся в книжных шкафах, разыскивая памфлеты Гладстона: его очень интересовал славянский вопрос, что завязался сейчас в тугой балканский узел. Копался в старых газетах, когда прислушался невольно к журчащему голосу в гостиной. Прислушался, разобрал, о чем повествует тихий Гурий Терентьевич, и далее уже слушал, машинально перекладывая газеты.
– Да, вот представьте себе, уважаемая Софья Гавриловна, в актерки. Барышня из приличной семьи, с образованием даже – и пропала, погибла во цвете лет своих. И ни слуху ни духу о ней не было, только раза два или три, что ли, переводы почтовые приходили на скромные суммы маменьке ко дню ангела. И не знали мы, где она и что с ней, даже когда в городе нашем афишки расклеили, что в водевилях с дивертисментами знаменитая мадемуазель Жужу выступает, я и в понятии не держал, что мадемуазель Жужу это и есть сестра моя единственная, Дашенька…
Всю ночь Иван вертелся с боку на бок. Впервые таинственное существо, дразнящее воображение доступностью, обрело нормальные человеческие черты. У существа оказалось обыкновенное имя, обыкновенная семья и необыкновенная жизнь. Не полумифическая француженка, не дикая цыганка, а обычная русская барышня стала предметом игривым и двусмысленным. Ему некому было поведать об этом открытии. Старших братьев в доме не оказалось, друга – тоже, а рассказывать о глубоко несчастной, оскорбленной и брошенной соблазнителем барышне Сизовой гимназическим болтунам он не мог. Он с омерзением вспоминал теперь их гогот в уборной, их замечания о юбках и ножках, а заодно и собственные фривольные мысли. Нет, не о легкой доступности молодой женщины мечтал теперь Иван Олексин, а о спасении ее. Вытащить ее из ада, увести, спрятать от циничных глаз, защитить от сладострастных рук – эта задача представлялась ему сейчас единственно достойной и благородной. Он старательно все продумал и, не откладывая, приступил к действиям с присущей ему упрямой увлеченностью.
Сблизиться с Гурием Терентьевичем было несложно: услужливый конторщик искал этой дружбы с гибкостью и готовностью. Ивану претила эта услужливая готовность, это извечное стремление Сизова жить пригибаясь, заведомо располагая себя ниже тех, кто оказался рядом.
– Сесть позволите ли, мсье Олексин?
Он произносил фамилию на французский лад, что особенно раздражало Ивана.
– Сесть не позволите ли…
– Ну зачем вы так, право, зачем? – сердился Иван. – Я же моложе вас, в гимназию еще хожу.
– От поклонов спину не ломит, – улыбался осторожно, вежливо Гурий Терентьевич. – Мир так устроен, мсье Олексин, что кто-то кому-то должен почтение оказывать. Особенно когда без средств к жизни и без связей в обществе. Вы не сердитесь на меня, я всей душой к семейству вашему расположен.
– Помилуйте, это же… это же невозможно! Признать законом самоуничижение личности – это неправда. Мир стоит на людях гордых и отважных – они его атланты. Государи и полководцы, мудрецы и пророки, певцы и герои – вот основа мира, господин Сизов. Их трудами, их подвигами мы из темных пещер к свету и разуму восходили и гордились ими, да, да, гордились. А вы утверждаете, что мир на почтении держится.
– Совершенно верно, – спокойно подтвердил Гурий Терентьевич, с ласково-снисходительной улыбкой выслушав весь горячий монолог Ивана. – Я хоть образования и не имею, но образован в меру сил и любопытства своего. Книжонки читаны, журнальчики – да не просто читаны, а со слезою и верой. Со слезою и верой, мсье Олексин!
Разговор этот случился на Блонье воскресным днем: Сизов приходил брать какие-то старые счета, возвращался домой и – повстречались. Сидели в аллее; здесь прогуливались гимназистки из Мариинской гимназии, поглядывали на Ивана, громко смеялись, но он на них не смотрел.
– Что есть гордость? – с вежливой осторожностью спросил конторщик. – Я к такому пришел утверждению, что гордость есть мерило дороги, которая человеку дадена. Коль родился кто, скажем, на почтовом тракте, тому и путь ясен: версты отмерены, подставы на всех перегонах и колокольчик под дугой аж с колыбельки – чего же ему гордым не быть, такому-то счастливчику, а, мсье Олексин? Только немного таких, а главное количество в пустыне рождается, и все у них как в сказке сказано: направо пойдешь – побитым быть, налево пойдешь – забритым быть, а прямо пойдешь – туза на спину нашьешь. И позвольте спросить вас: откуда же тут гордости взяться? Да и зачем она в пустыне-то человеческой рожденному? Так, звук пустой.
Гурий Терентьевич здесь, вне дома, был иным: держался увереннее и говорил основательнее. Только привычная готовность к осторожной улыбочке да согбенная спина оставались без изменений. Он не спорил, да, вероятно, и не умел спорить: он с чувством тайного превосходства излагал умозаключения, которые считал непреложными истинами, почему и не затруднялся доказательствами. Иван чувствовал это торжествующее полузнайство, злился, но не уходил, хотя уйти следовало.
– Тут, в нашем городе Смоленске, жил некогда провидец Иван Яковлевич Корейша, не изволили слышать? А мне маменька рассказывала. Он, провидец этот, скромно жил, тихонечко, в баньке брошенной у Днепра. В рубище ходил, акридами да росой питался, аки святой. А на деле-то, – Гурий Терентьевич вдруг заговорщицки понизил голос до шепота, – на самом деле умнейший был человек. Гордость свою как язву из души выжег, в смердящие одежды облачился, юродивым дурачком прикинулся, а всеми помыкал. Всеми! На коленях в ту баньку черную к нему вползали, да не кто-нибудь – дворяне да купчины именитые. Дамы ночную вазу, прощения прошу, из-под него выносили, да еще и дрались за честь эту. Вон как согнул-то гордых сих, а? Вот это согнул!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































