Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
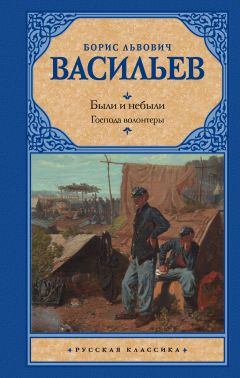
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 43 страниц)
Патетический жест офицера неожиданно для него получил широкую известность. Проталкиваясь к сцене, Олексин и не думал о последствиях: его захватил всеобщий порыв, восторженный пафос публики. Его обнимали, благодарили, целовали, ему жали руки – и все это прилюдно, все это в напряженном поле человеческих чувств, единых и искренних, по крайней мере, в этот момент. Он был тут же введен в члены Славянского комитета, корреспонденты наперебой расспрашивали его о том, что было и чего не было, что будет и чего не может быть; он стал вдруг центром кристаллизации уже подготовленного, уже перенасыщенного раствора. Он собственной волей взлетел на орбиту, но взлетел так точно, так вовремя, что был тут же подхвачен посторонними силами, направлен и раскручен ими в соответствии с внутренними законами общественного движения и теперь уже не мог самостоятельно вернуться в прежнее приземленное состояние, даже если бы и захотел этого.
И Олексин увлекся. Шли бесконечные заседания, собрания, совещания, рауты и вечера, и начальство безропотно отпускало ставшего вдруг знаменитым поручика по первой его просьбе. Даже публикация в газетах, в самых восторженных тонах освещающая его «святой порыв», не вызвала неудовлетворения командования, хотя армия терпеть не могла газетных сообщений о тех или иных поступках офицеров. Олексин ожидал бури, и тучи в лице посыльного от самого полкового командира не замедлили показаться на горизонте. Поручик тут же явился и отрапортовал. Командир полка, седой и кряжистый, как заиндевевший дуб, неодобрительно сдвинул косматые брови и дважды разгладил усы – признак, не предвещающий ничего хорошего.
– В газетки попали? И полк упомянут полностью. Извольте объяснить, чем обязаны такой славе?
Гавриил коротко обрисовал ситуацию и в двух словах – свои чувства. Он сознательно о чувствах говорил мало, надеясь развить эту тему впоследствии, если старик начнет разнос. Командир молча выслушал, снова дважды провел по усам.
– Не одобряю, – пробасил он. – В наше время эдакого не случалось. А уж коли случилось бы – адью! Скатертью дорога. Однако в искренности не сомневаюсь, за сдержанность хвалю. Только уж коли назвались груздем, так первым в кузовок полезайте, первым, поручик. Еще раз – молодец.
Общественная деятельность настолько поглотила Олексина, что все его дела вынужденно отошли на второй план. Конечно, он не забыл о мадемуазель Лоре, в которую, как казалось ему, был влюблен страстно и искренне, но с молодым максимализмом считал, что дело, которым он занимается, и есть самое главное, а посему Лора должна терпеливо ждать, когда придет ее черед. Но Лора ждать не желала, справедливо полагая, что на свете нет дел, мешающих влюбленному проявить внимание. Сначала это была обида, незаметно подогреваемая намеками и шутками Тюрберта, потом… потом – женская месть, избравшая своим орудием все того же рыжего артиллериста: Лора постоянно бывала с ним в тех же местах, где знали и Гавриила, отчаянно веселилась и отчаянно кокетничала, ожидая, что ревность образумит новоявленного общественного деятеля. Однако Олексин то ли не замечал ее контрмаршей, то ли терпеливо сносил их. Лора встревожилась не на шутку и стала избегать рыжего подпоручика. Но Тюрберт к тому времени уже основательно увлекся ею – кстати, и партия была вполне подходящая, – а потому и решил действовать сам и выбить противника из седла. Этим пресловутым седлом для Гавриила была служба; рыжий подпоручик правильно понял это и повел огонь по всем канонам артиллерийской науки.
Да, Гавриил очень гордился службой в привилегированном московском полку. Ему нравилась форма, он любил строй, разводы и ученья и искренне плакал от восторга и умиления, впервые присутствуя на высочайшем смотру. Он мечтал о карьере и славе, о чинах и наградах, о благосклонности государя и любви товарищей по полку. Он свято верил, что добьется того положения, которого не добился его отец, скандально уволенный в отставку по строптивости характера, и уже преуспел по службе, исполнив почетное поручение и получив чин поручика. Он был хорошим товарищем и примерным офицером, офицером на виду, с множеством полезных знакомств, несмотря на просчеты домашнего воспитания, отсутствие связей и тощий кошелек. И даже разовый, позорный, по сути, мальчишеский проигрыш в карты в самом начале карьеры, о котором он всегда вспоминал с приливами запоздалого стыда, оказался плюсом в его офицерской биографии, укрепив за ним славу беспутного малого, для которого деньги существуют постольку, поскольку их можно проиграть. Изо всех сил тянулся за родовитыми офицерами, хватая на лету их словечки и привычки, манеру говорить, походку, даже клички лошадей. Временами казалось, что у него уже ничего не осталось своего, что он словно бы растворился в среде, которую имел все основания считать своей, которой поклонялся и которой восхищался. Ему почудилось, что после удачной командировки и внезапного общественного взлета он уже стал равным им – им, швыряющим десятки тысяч на любовниц и кутежи, проигрывающим состояния в карты и покупающим лошадей за баснословную цену только для того, чтобы завтра же загнать их на первой же скачке. Так чудилось ему, чудилось, пока…
– Господа, я вычитал любопытнейшую штучку. Оказывается, помесь жеребца с ослицей – кровного, заметьте, жеребца с робкой рабочей скотинкой – называется лошаком! Смешное словечко, господа, не правда ли? Лошак! Он наследует жеребячью силу и ослиную тупость, а посему абсолютно незаменим в обозе. Но не в армии, господа, отнюдь не в армии!
Это было в офицерской компании, шумно обсуждавшей только что вспыхнувшее восстание в Сербии. Опоздавший Тюрберт, наплевав на сербские дела, прямо с порога выложил почерпнутые из словаря сведения, в упор глядя на Гавриила. Все почему-то начали смеяться и острить, и Олексин смеялся и острил, хотя сразу понял, в чей огород полетел камешек, и лицо его заполыхало помимо воли. Но он изо всех сил смеялся и изо всех сил острил, стараясь не встречаться с Тюрбертом взглядом и все время ощущая, что рыжий подпоручик смотрит на него, насмешливо улыбаясь. Тогда у него хватило выдержки не понять, и Тюрберт отложил второй залп. Он произвел его через три дня – уже в другом доме, в присутствии мадемуазель Лоры.
В этот вечер Лора упорно не замечала Тюрберта, отдав все свое обаяние, внимание и кокетство Гавриилу, специально ради нее пришедшему сюда. Жертва была велика, Лора оценила ее и пыталась не просто отблагодарить, но и закрепить свой первый успех в борьбе с общественной деятельностью потенциального жениха. Тюрберт учел ситуацию и решил идти ва-банк.
– Пахнет лошаком, господа, неужели не ощущаете? Странно. Этакий специфический запах: смесь навоза, щей и сивухи. Кстати, Олексин, отчего бы вам не сволонтерить в Сербию?
Если бы Гавриил сумел не расслышать этих слов или, на худой конец, дал бы подпоручику пощечину! Но он не сделал ни того, ни другого. Он растерялся, покраснел и тут же ушел, ничего никому не объяснив. И лишь на другой день прислал Тюрберту форменный вызов.
– Я бы подстрелил Олексина не без удовольствия, но боюсь, господа, что может пострадать честь дамы, – сказал Тюрберт присланным секундантам. – А своему другу порекомендую послужить в обозе на благо отечества: на лошаках хорошо пушки возить.
При первом же намеке на Лору Гавриил отказался от вызова, и после этого оставалось лишь уйти в отставку: кодекс чести не прощал офицеру, ставшему мишенью острот, если офицер этот не находил приличного предлога для дуэли. Олексин его не нашел, получил афронт и покрыл себя позором. Оставался последний выход – Сербия; он подготовил этот выход публичными заверениями и общественной суетой. Поставить крест на военной карьере во имя спасения братьев-славян от османского ига – выход, не требовавший объяснений, а их-то Гавриил и боялся пуще всего.
Объяснений и впрямь не требовалось, но отставки ему не дали. Пришлось переписать рапорт и вместо отставки получить годичный отпуск «по семейным обстоятельствам». Он согласился на него, втайне решив через год все же настоять на окончательной отставке.
А поездка в Сербию все откладывалась и откладывалась. И вместо того чтобы ехать самому, Олексин встречал, провожал, поздравлял и напутствовал тысячи русских волонтеров, сплошным потоком ринувшихся в далекую и незнакомую Сербию. Ехали офицеры и студенты, рядовые казаки и отставные полковники, мещане и земские деятели, купеческие сынки и крестьянские дети. Ехали «мстить нехристям» и с оружием в руках отстаивать чужую свободу; ехали за крестами и карьерой; ехали из любознательности и из равнодушия; ехали посмотреть мир или просто хоть на время удрать из родного отечества, чтобы полной грудью вдохнуть свежий ветер борьбы вдали от голубых мундиров. Ехали все, кто хотел и кто мог, – не ехал лишь поручик Гавриил Олексин. Волонтер номер один.
3В эту ночь в последний раз пели соловьи. По смоленской традиции девушки выходили в сады и слушали последние песни, млея от восторга и ожидания. В полночь бдительные мамаши отправляли их спать, но девушки все равно не спали, слушая соловьев в постелях и до утра мечтая о женихах. Непременно статных, красивых, удачливых и добрых.
Варе Олексиной никто не приказывал идти спать: в их городском доме она оставалась единственной хозяйкой. И недавно представленному ей молоденькому прапорщику, стоявшему на квартире в пустующем купеческом доме, тоже никто не приказывал. Молодые люди, восторгаясь, долго слушали соловьиные переливы, глядя друг на друга через забор, разделявший сад, а потом слово за слово разговорились, соловьи отошли на второй план, и офицер перепрыгнул через ограду.
– Варвара Ивановна, умоляю вас, не пугайтесь. Позвольте мне постоять подле вас и, если не возражаете, выкурить две папиросы.
Варя испугалась, но не подала виду, решив, что всегда успеет убежать, если молодой человек вздумает вести себя непочтительно. Но прапорщик был вполне корректен, даже застенчив, говорил тихо и интересно, держал себя на расстоянии, и Варя вскоре забыла о своих девичьих страхах. Прапорщик рассказывал о Кавказе, откуда только что приехал, о мирных и немирных горцах, о тоскливой службе в крохотном гарнизоне, куда ему предстояло вернуться всего через несколько дней. Соловьи звенели восторженно и любовно, ночь была нежной и таинственной, а их возраст – возрастом бессонниц, смутных тревог и отважного желания идти навстречу друг другу. И вскоре они уже сидели рядом, и стук их сердец давно уже заглушил все соловьиные трели.
Очнулась она внезапно, как со сна, от далекого тележного грохота, что отчетливо слышался в тихом рассветном воздухе. Оттолкнула прапорщика, вскочила со скамьи, на которой забылась в объятиях, и опрометью бросилась в дом, лихорадочно застегивая кнопки на распахнутом вороте блузки.
– Варя! Варенька, подождите! Два слова, Варенька, умоляю, два слова!
Она не оглянулась, влетела в дом, захлопнула за собой дверь и привалилась к ней, точно боялась, что прапорщик ворвется следом. И почему-то все время слышала нарастающий тревожный тележный грохот.
С этим грохотом с Киевского шоссе влетела в Смоленск легкая таратайка. Промчалась по пустынной, усыпанной сенной трухой площади, миновала Молоховские ворота, мелькнула на Благовещенской и остановилась у одноэтажного особняка на чинной Кадетской улице. Возница – крепкий мужик с косматой гривой, но аккуратно подстриженной бородой – ударил кулаком в загудевшие ворота:
– Семен!
Неистово залаяли собаки, где-то хлопнула дверь. К воротам степенно шел заспанный дворник. Почесывался, зевал, крестил заросший рот, важно гремел ключами.
– Кого надо?
– Отчиняй, Семен!
– Захар Тимофеич? – Дворник, забыв и сон, и степенность, засеменил к воротам. – Счас, счас. Спозаранку прибыли, Захар Тимофеич, ночью, стало быть, из Высокого-то выехали. Ай, лошадку загнали, ай! Дело, стало быть, срочное? А барышня спит и не чает…
Без умолку говоря и не заботясь при этом, слушают его или нет, Семен открыл наконец огромный ржавый замок, сдвинул засовы, распахнул заскрипевшие ворота.
– Здравствуйте вам, Захар Тимофеич!
– Аня померла. – Захар снял картуз, вытер изнанкой мокрое лицо. – Аня наша померла вчера, Семен.
– Господи! – Крупное заросшее лицо дворника задрожало, и, чтобы скрыть эту дрожь, он по-бабьи прижал ладонь ко рту. – Анна Тимофеевна? Господи, Боже ты мой, Господи! Упокой душу рабы твоея.
– Отмучилась заступница наша, – дрогнувшим голосом сказал Захар и тут же, словно злясь на себя за секундную слабость, крикнул сердито: – Ну, чего рассоплился? Коня прими, выводи да не напои с похмелья-то! Смотри у меня!
Крупно, по-хозяйски зашагал к крыльцу. Не доходя, швырнул кнут в клумбу с отцветающими пионами, взошел по ступеням и скрылся за тяжелой дверью, держа в кулаке смятый картуз.
В доме уже проснулись. Полная экономка в капоте и старинном чепце, услышав новость, затряслась, замахала руками.
– Полно, Марфа Прокофьевна, не вернешь. – Захар помолчал, теребя картуз. – Буди барышню.
Барышня вышла сама. Остановилась в дверях, вцепившись в косяки:
– С мамой?
– Нету маменьки, Варвара Ивановна, – глухо сказал Захар. – Нету больше сестрицы моей Анны Тимофеевны.
И тяжело, грузно опустился на стул, чего никогда не делал в присутствии барышни Варвары Ивановны Олексиной.
Варя не закричала, не вздрогнула, только лицо ее, став белее блузки, словно опустилось, поехало вниз, к закушенной губе и отяжелевшему вдруг подбородку. Она ни о чем не спрашивала, пристально, не моргая глядя на Захара огромными материнскими глазами.
– Вчера еще песни играла. Потом полоть пошла. Знаешь, там, у пруда, где огороды заложили.
– Полоть! – неожиданно громко и резко сказала Варя. – Ей ведь нельзя полоть, нельзя работать.
– Да нешто это работа, – вздохнул Захар: ему не дышалось, и он все время вздыхал. – Это ж так, в потеху. Разве ж мы дали бы ей? А тут только нагнулась и – в ботву.
Дом уже полностью проснулся: хлопали двери, шуршали юбки, скрипели половицы. В задних комнатах кто-то плакал, все говорили шепотом, и только резкий голос Вари звучал громко и отрывисто:
– Врача догадались?
– Сразу же за лекарем послали: у господ Семечевых лекарь из Петербурга гостит. Приехал вскорости, да не помог: к вечеру преставилась.
Захар замолчал, ожидая вопросов, но Варя больше ни о чем не спрашивала, все так же пристально глядя на него. Из всех дверей выглядывали женские лица.
– К полудню привезут, – сказал он, поняв ее молчание. – Подготовить все надо.
– Телеграммы, – опять перебила Варя. – Батюшке и Гавриилу в Москву, Феде в Петербург, Васе в Америку. В Америку телеграммы принимают?
– Не знаю, барышня.
– Узнаешь на телеграфе. Со станции отправляй, оттуда скорее доходят. Идем, я запишу адреса.
Варя оторвалась от косяков, качнулась. Захар вскочил, чтобы поддержать ее, но она отстранилась и пошла вперед, чуть откинув голову над прямой, как струна, спиной.
Они прошли в тесный кабинетик, где стояло старинное бюро, шкафы с книгами и уютное кресло, в котором лежал раскрытый журнал. Варя сразу начала писать, а Захар остановился в дверях.
– Прими журнал и садись, – сказала она, не оглядываясь. – Как написать, когда будем?.. – Она замолчала.
– Хоронить-то? – Он подумал. – Раньше субботы не получится. Из Москвы сутки езды, а из Петербурга да с пересадкой еле-еле в трое суток Федя управится.
– Я пишу всем одно. В четыре адреса: два в Москву, один в Петербург и один в Североамериканские Соединенные Штаты.
– А зачем в Штаты телеграмму? Вася все одно к похоронам не поспеет, для чего же пугать? Может, письмо? Письмо спокойнее.
– Письмо? – Варя по привычке покусала нижнюю губу. – Пожалуй, ты прав, письмо лучше. Я напишу, а ты ступай на телеграф. Коня сильно загнал?
– Это есть.
– Возьмешь мою пару. Распорядись там. – Она протянула синеватый листок дорогой глянцевой бумаги. – Отправишь со станции.
Он покивал, соглашаясь. Первые распоряжения были отданы, и вместе с ними словно бы закончились и их деловые отношения. Они оба почувствовали это, вновь ощутили утрату и пустоту, ту страшную пустоту, что рождают такие утраты. Хотелось что-то сказать, утешить, ободрить или просто поплакаться, но это было и невозможно, и ненужно, и они молчали, стоя друг перед другом.
– Ну, ступай, – тихо и мягко сказала Варя. – Ступай, мне одеться надо.
– Поплачь, Варя, – вдруг глухо сказал он, опустив кудлатую голову. – Поплачь и за упокой помолись. Полегчает.
– Хорошо, – сказала она, словно не слыша его. – Месяц до сорока не дожила. Как странно все.
Захар вздохнул, закивал горестно и пошел через залу к выходу, стуча подковками новых сапог по натертому паркету.
Варя прошла к себе, в смежную с кабинетом комнату. Остановилась в дверях, крепко обняв плечи скрещенными руками и незряче глядя на несмятую постель. На этой постели всегда спала мама в редкие приезды из усадьбы. Тогда Варя стелила себе на диване, что стоял тут же, у противоположной стены, и они говорили с мамой до глубокой ночи.
Мама не любила город, терялась в нем и даже не ездила за самыми необходимыми покупками. Дети унаследовали от нее эту сковывающую застенчивость, но Варя пошла в отца, только глаза были мамины. Она единолично распоряжалась домом с той поры, как кончила пансион: вела хозяйство, делала покупки для усадьбы в Высоком, следила за ученьем младших братьев и сестер, регулярно писала старшим и отцу, хотя отец никогда не отвечал на письма, ограничиваясь скупыми поздравлениями на Пасху и Рождество.
Варя была центром их огромной разбросанной семьи, но душой этой семьи всегда оставалась мама, маленькая тихая женщина, до самой смерти не разучившаяся краснеть в присутствии посторонних. Мама безошибочно находила самые простые и теплые слова, самые неопровержимые аргументы, а советовать умела так, что совет этот воспринимался как вдруг возникшее собственное решение. Так было с Гавриилом, проигравшим в карты довольно кругленькую сумму, так было с Василием, попавшим под надзор III Отделения, так было и с самой Варей, еще девчонкой безоглядно влюбившейся в залетного офицера. Долгую зимнюю ночь они проплакали тогда с мамой на этой постели, а утром Варя уехала в Псков к тетке, оставив офицера в растерянности крутить лихие гусарские усы.
Отец никогда не принимал участия в жизни семьи. Прожив с ними бок о бок до рождения младшего – десятого по счету – ребенка, он так и остался чужим: Варя помнила только его бесконечные отъезды. У него была своя половина в доме, свои слуги, свои лошади, собаки, и даже обед ему готовил специально выписанный повар, а не их добрая, толстая, мало что умевшая кухарка. С детьми – а он занимался с детьми, когда был дома, два часа утром и час перед ужином, – с детьми он держался всегда ровно, спокойно и строго. Одинаково ровно и одинаково строго со всеми, никого не выделяя: у него не было ни любимчиков, ни любимых, хотя как-то по-своему он их, конечно, любил, и дети чувствовали это и тоже относились к нему ровно и спокойно. Впрочем, он никогда не отказывал им в тех просьбах, которые считал разумными: в книгах, игрушках, детских балах или нарядах. Но любая личная просьба всегда превращалась им в общую потребность: если Гавриил просил ружье, то ружье получал не только он, но и не просивший этого Василий; если Варе хотелось щенка, то щенков оказывалось два, а то и три – и Варе, и Феде, и Володе, хотя Федя и Володя об этом и не думали. И эта причуда не только лишала подарок индивидуальности и неповторимости, но заодно и радости, и дети как-то сами очень скоро отучились просить подарки у никогда не отказывающего отца.
Если у отца была редкая способность превращать подарки в ординарную вещь, то мама самые обычные вещи умела делать подарками, будь то крестьянские бабки или первый цветок, бантик на платье или горстка земляники. Даже сказки на ночь она рассказывала, никогда не повторяясь, интуитивно чувствуя настроение маленького слушателя. И одна и та же сказка выходила у нее то грустной, то радостной, то страшной, то веселой и поэтому всегда неожиданной. И если у каждого в детстве были свои радости, свои сказки и свои подарки, то были они только потому, что была мама.
Отец был общим для всех; мама для каждого была своя. Неповторимая и единственная мама.
И вот мамы не стало. Не стало самого незаметного, самого тихого члена семьи и, как ощутила сейчас Варя, самого главного ее члена. В каждой семье есть этот главный, есть ось, вокруг которой вращаются все, со смертью которого неминуемо разлетается самая крепкая и дружная семья. И Варя, еще ничего не осознав, уже предчувствовала этот неудержимый разлет. Предчувствовала грядущую пустоту гнезда, хранить которое отныне предстояло ей. И ужас перед этой сегодняшней утратой и завтрашней пустотой был столь ошеломляющ, что она рухнула ничком на постель, захлебываясь от рыданий.
Выплакавшись, Варя немного успокоилась. Оделась в темное, застелила постель – они сами ухаживали за собой, и не только мама, но и отец следил за этим, – распахнула окно, но тут же закрыла его: в дворницкой по-старинному, по-псковски выла Агафья. Варя хотела было послать туда горничную с приказом замолчать, но вовремя одумалась: дворня была вся вывезена с Псковщины, из маминой крохотной деревеньки, где все были родственниками. И оплакивали они сегодня не просто добрую и тихую барыню, а свою родную деревенскую девчонку, ставшую госпожой по прихоти опального гвардейского офицера.
Варя вышла распорядиться, но в доме и так уже готовились к приему покойницы. Занавешивали зеркала в зале, зажигали лампады, застилали паркет половиками. Дворник Семен привез еловые ветки и охапки вереска, и Варя вместе с девушками усыпала вереском полы.
Занимаясь этими простыми делами, Варя все время прислушивалась, не скрипят ли ворота, и по привычке поглядывала на часы, но часы в зале были остановлены, а возвращаться в свою комнату ей не хотелось. Она ощущала движение времени, и приближающаяся встреча с тем, что когда-то было ее матерью, все больше и больше пугала ее. Страх копился, нарастал, и в конце концов она уже ничего не могла делать, а только ходила по комнатам, напряженно прислушиваясь ко всем шумам.
Но раньше вернулся Захар. Он не только отправил телеграммы, но и договорился в соборе о панихиде, в Троицком монастыре – о чтицах и в ресторации Мачульского – о деликатесах и винах к поминкам. Он был толковым и грамотным мужиком, никогда не забывал о мелочах и слыл толковым управляющим. И даже смерть единственной и любимой сестры не нарушила его привычной хозяйственной деловитости. Это обстоятельство вызвало у Вари досаду.
– Хорошо, хорошо, – перебила она его, не дослушав. – Только бы Гавриил приехал поскорее.
Она говорила о Гаврииле, а думала о Василии, который никак не мог приехать из далекой Америки и долго еще не узнает, что семья их внезапно осиротела. Думала не потому, что Василий был всего на год старше ее, а потому, что дружила с ним и знала как никто, как, может быть, знала только мама, его обостренное, болезненное чувство справедливости, даже и не чувство, а чутье. Для всех остальных он был немного чудаковатым, непрактичным и увлекающимся юнцом, предметом язвительных насмешек старшего брата, и только. И даже его торопливый отъезд за границу всеми воспринимался как побег, и лишь она одна знала, что дело здесь не в страхе перед III Отделением, а в высших идеалах добра и справедливости. Она не очень понимала и поэтому не разделяла эти идеалы («Да ведь разорвут эту вашу коммуну, Вася!»), но твердо была убеждена, что ее брат не способен ни на трусость, ни на подлость. Не способен физически, под страхом лютых мучений и самой смерти.
Иное дело Гавриил. Варя всегда считала, что она в отца, что от матери у нее только глаза, но отцовской копией в семье был старший. Сейчас, без толку блуждая по комнатам, прислушиваясь к шумам во дворе и сравнивая братьев, Варя понимала, что ее сходство с отцом только внешнее, кажущееся. И именно поэтому с тоской вспоминала далекого Василия и страшилась предстоящего свидания с Гавриилом. Слишком уж он казался ей сухим, надменным и язвительным.
Захар уговорил ее поесть, и Варя нехотя, через силу, села выпить чаю. Но тут заскрипели ворота, заголосила Агафья, и Варя кинулась к дверям со стаканом, лишь на крыльце отдав его Дуняше.
Первой во двор въехала широкая крестьянская телега. Подле с вожжами шел староста Лукьян, а на телеге рядом с гробом сидели, держа на коленях фуражки, почерневшие то ли от загара, то ли от горя и бессонной ночи Володя и Ваня. А из коляски, что остановилась у ворот, уже спешили к крыльцу Маша и Георгий; младших, как видно, не взяли.
Телега остановилась, братья спрыгнули с нее, и все вокруг молчали, потому что молчала Варя, все еще неподвижно стоя на крыльце. Лукьян шагнул к ней, оглянулся растерянно на тихо плакавшую дворню и спросил:
– Прикажете вносить, барышня?
– Как же… Как же могли на телеге? – задыхаясь от слез, тихо спросила Варя. – Как же могли, как смели…
– Ну, полно, Варенька, полно, – сказала Маша, поднявшись на крыльцо и обнимая сестру. – Не влезает он в карету, пробовали.
«Он» был гроб, в котором под глухой крышкой лежала мама. И Варя сразу все поняла и сошла с крыльца.
– Вносите.
И вновь запричитала Агафья, словно ждала, когда Варя скажет это слово. Захар, Лукьян и Семен направились к телеге, братья, сунув фуражки Маше, пошли им помогать, а Георгий прижался к Варе, уткнувшись ей в колени.
– Мамочку жалко…
– Взяли! – коротко выдохнул Захар.
Гроб взмыл вверх, качнулся и поплыл к крыльцу, невесомо лежа на крутых мужицких плечах: Владимир и Иван лишь держались за него, идя впереди. Семеня и толкаясь, мужики поднялись на крыльцо, перехватив гроб с плеч на руки, и, теснясь, боком миновали дверь. Следом молча шли Маша, Варя и маленький зареванный Георгий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































