Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
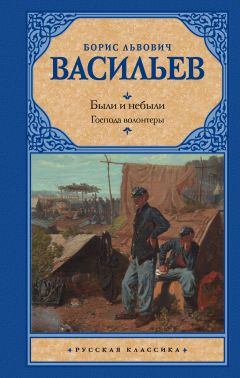
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 43 страниц)
Всю весну Лев Николаевич страдал головными болями и внезапными приливами крови. Это мешало спать, работать и, главное, отвлекало от дум, и Толстой раздражался, хотя внешне старался не показывать этого никому. Софья Андреевна очень боялась удара, отсылала к врачу. По ее настоянию Лев Николаевич поехал к Захарьину, покорно согласился поставить пиявки, которых не любил и даже побаивался. Захарьин поставил дюжину на затылок, но лучше Толстому не стало.
– Устаю, – жаловался он Василию Ивановичу на прогулках. – Только не говорите Софье Андреевне.
– Надо серьезно лечиться, Лев Николаевич. Поезжайте в Европу.
– И ты, Брут! – сердито отмахивался Толстой. – Покоя, покоя душевного искать надо, а где он, покой?
Покоя не было уже хотя бы потому, что вся Ясная Поляна жадно читала газеты, подробно обсуждая все, что касалось войны. Лев Николаевич относился к ней с неодобрением, предполагая печальный исход.
– Солдата надо готовить долго и тщательно, – говорил он. – А что сделали мы? Уничтожили тип старого русского солдата, давшего столько славы русскому войску.
– Свободный человек должен воевать лучше, Лев Николаевич, – упрямо не соглашался Василий Иванович. – Храбрость из-под капральской палки недолговечна, а свободная личность способна вершить чудеса.
– Что касается личности, то вы, возможно, и правы, – не сдавался Толстой. – Но суть армии – повиновение, дорогой Василий Иванович. Раньше солдат знал, что солдатчина есть отныне вся жизнь его, приноравливался к ней, старался облегчить ее, а облегчить – следовательно, стать примерным солдатом. А теперь он лишь терпит. Вот увидите еще, что прав я, Василий Иванович, увидите, когда позора на войне этой примем поболее того, как на Крымской приняли.
Теперь они спорили часто и почти по каждому поводу. Спорили не потому, что Василий Иванович стал подвергать сомнению слова своего кумира. Нет, Толстой по-прежнему оставался для него авторитетом недосягаемым, существом, почти равным богам, но Олексин ощущал, что именно сейчас, в этот период жизни, Толстому нужны споры. Нужны для проверки каких-то своих собственных мыслей, которые только зарождались в нем и были еще настолько смутны и бесформенны, что нуждались в контраргументах в той же степени, как и в аргументах. Все бродило в нем, клокотало, как в перегретом котле, и ночные приливы крови, да и сама головная боль, были лишь наружным проявлением странных глубинных брожений.
Чаще всего они спорили о религии. Лев Николаевич – для всех, по крайней мере, – по-прежнему оставался ревностным поборником православия, никого, правда, не уговаривая следовать своему примеру. Он старательно соблюдал всю обрядность, но уже чисто формально, и Василий Иванович заставал его за внимательнейшим изучением Евангелия теперь куда чаще, чем прежде.
– Родник ищете?
Толстой сердито двигал клочковатыми бровями. Первооснова христианского учения была настолько запутана обрядами, искажена вторичными толкованиями, завуалирована политическими соображениями, что отыскать в ней незамутненный источник истины казалось ему почти невозможным. Толстой терзался сомнениями, испытывая мучительное состояние разобщенности с той простой, безыскусной и ясной верой, какой жил народ. Жил в полном согласии формы и содержания, как всегда казалось Толстому, и он завидовал этому согласию и упрямо шел к нему своими путями.
– Вот вычитал в газетах: Садык-паша был поляком, Сулейман-паша – иудей, Вессель-паша – немец. Не странно ли сие? – задумчиво говорил он. – Не означает ли это, что магометанская вера позволяет спекулировать своими догматами людям ловким и беспринципным? Достаточно объявить во всеуслышание, что отныне вы верите, что нет Бога, кроме Аллаха, что Магомет – пророк его, и вам открываются все пути для карьеры.
– Может быть, религия мусульманская более демократична, нежели религия христианская? – осторожно, словно клал полешко в начинавший разгораться костер, спросил Василий Иванович. – Может это быть или не допускаете?
– Вера, с помощью которой открываются двери к должностям, перестает быть верой, – сказал Толстой. – Вера есть внутреннее убеждение, а не формальное признание господствующего порядка вещей, вопрос совести, а не опора в службе. Я упомянул о магометанах лишь как о примере, а в сущности, любая современная религия уже превратилась в трамплин для натуры энергической, а то и просто безнравственной. Вас не мучает эта мысль, Василий Иванович?
Василий Иванович долго шел молча – они гуляли вдвоем по саду, – потом признался:
– Помните, рассказывал, как вешали меня? А ведь им только и надо было, чтобы я на Библии поклялся. Только этого и добивались.
– То есть формы, пустой формальности, – подхватил Толстой. – Вот во что превращается вера, когда забывается то, ради чего создавалась она. Вспомните первых христиан: они шли на муки за веру свою, на костры восходили, к лютым зверям в клети с молитвой святой входили. Им ничего не обещалось за то, что они называли себя учениками Христа, ничего, кроме пыток, слез, истязаний и смерти. А они – шли и веровали, веровали и шли!
– И дошли, – тихо подсказал Василий Иванович.
– И дошли, – подхватил Толстой. – Дошли до того, что вера Христова стала подспорьем карьеры, ее рычагом и фундаментом. Заяви на словах, что веруешь свято, что блюдешь заповеди, походи в церковь прилюдно, перекрести лоб – и ты уж обеспечен доверием, ты уж столп благонадежности, ты уж и обществу опора. А все ведь – в словах, в словах!
– Вы правы, Лев Николаевич, – сказал Олексин. – Вера вышла из души человеческой, превратившись в форму государственной морали.
– Вера стала безверием, – вздохнул Толстой. – И только мужик еще свято верует в то, что Бог есть совесть. Он еще живет по заветам первых христиан, ходивших в рубище и не искавших наград, должностей и власти за веру свою. Вот так и надо жить, ничего не вымаливая у власть имущих и не торгуя совестью.
– Это пассивная жизнь, – не согласился Олексин. – Вы призываете к гармонии личной, Лев Николаевич, а нужно стремиться к гармонии общества.
– Сначала надо переделать себя.
– Но через труд, а не через веру, – упрямо сказал Василий Иванович. – Надо жить своим трудом, надо стараться отдавать народу больше, чем мы от него получаем, надо следовать христианской заповеди не делать другому того, чего себе не желаешь. Вот аксиомы, на которых только и возможно построить справедливое общество будущего.
– Нет, Василий Иванович, вы неправы. Вы опускаете веру, а без веры все здание, что воздвигаете, зашатается и рухнет неминуемо. Вы все о кирпичиках толкуете, а где же раствор, что скрепит их? Нет, нет, у каждого общества раствор крепящий должен быть, как у пчелы воск. Коли не озаботитесь этим своевременно, то государство озаботится. Таким вас раствором скрепит, что и кабала татарская раем покажется. Нет, нет, только через себя, только через себя!
Разговоры случались почти каждый день и часто повторяли друг друга. Толстой словно кружил, заблудившись в глухом лесу, возвращался к собственным следам и снова упрямо отправлялся искать выход. Мысль о совести мужика, жившего, по его представлениям, в полной гармонии формы и содержания, чаще всего тревожила Льва Николаевича. Он постоянно выходил на нее с разных сторон, присматриваясь, изучая и проверяя.
– Знаешь, Катенька, по-моему, у Льва Николаевича какой-то кризис, – говорил Василий Иванович перед сном Екатерине Павловне. – В нем что-то нарождается, а что-то отмирает, но все одновременно и потому болезненно.
– Софья Андреевна говорила мне, что он о декабристах роман задумывает.
– Нет, здесь не роман, здесь большее что-то, – задумчиво сказал Олексин. – Како верую и верую ли вообще – вот что его сейчас мучает.
– Однако Лев Николаевич регулярно посещает церковь, Вася.
– А это старое, это не отмерло еще. Это корни, вот их-то он и рвет из души своей. Ему закон надо вывести.
– Какой закон? – удивилась Екатерина Павловна.
Василий Иванович недоуменно пожал плечами и растерянно улыбнулся:
– Не знаю, Катенька. Это я так сказал, по наитию, что ли. Беспокоит меня, что он как-то об обществе не думает. Нужно через общество на личность влиять, а он через личность на общество. Ты как думаешь, прав я, что сомневаюсь?
Ответить Екатерина Павловна не успела: в дверь постучали. Василий Иванович накинул пиджак, вышел открыть.
– Вам кого?
– Это я, Вася. Я, Иван, не узнаешь?
– Ваня? Какими судьбами?
Братья расцеловались. Василий Иванович раздел позднего и неожиданного гостя, провел в комнату.
– Катенька, это Ваня, вот не ожидали мы, правда? А это жена моя, Ваня, Екатерина Павловна. Ты почему здесь? И время позднее, и не каникулы. Случилось что в доме?
– А где… где Дарья Терентьевна? – не отвечая, спросил Иван, странным, растерянным взглядом обведя комнату. – Она что же, не приезжала?
– Кто должен был приехать, Иван?
– Дашенька не приезжала? Так и не приезжала совсем? Ну скажите же, правду мне скажите!
– Никто не приезжал, – растерянно сказала Екатерина Павловна. – Что с вами, Ваня?
Странно обмякнув, Иван обессиленно опустился на стул, закрыв лицо руками. Супруги испуганно переглянулись.
– Кто должен был приехать, Иван? – спросил Василий Иванович. – Ну что же ты молчишь?
– Я опозорен, – жалко сказал Иван, уронив руки на колени. – Я обманут и опозорен. Что мне делать? Что же мне делать, Вася, я не могу, не могу возвращаться в Смоленск!
По лицу его текли слезы. Крупные, детские. Последние детские и потому особенно трогательные и беспомощные.
3Воскресным солнечным днем Каля Могошоаей – аристократическая улица Бухареста – была заполнена открытыми, нарядно убранными экипажами. В час безделья – между завтраком и обедом – эту улицу занимала местная знать: русские офицеры здесь почти не показывались. В открытых пролетках, ландо и фаэтонах располагались дамы общества, приезжие кокотки и наиболее преуспевшие из каскадесс, что хлынули в Румынию не только из России, но и со всей Европы. Расфранченные, набриллиантиненные и нафабренные мужчины гуляли по тротуарам; в экипажах оставались только старцы в сюртуках и мундирах, украшенных орденами. Здесь обсуждались новости, рождались сплетни, завязывались знакомства и начинались интриги. Среди фланирующей публики бегали девочки-оборвашки, бойко предлагая господам букетики свежих подснежников.
Возле модной кондитерской Фраскатти стоял худощавый молодой человек в потрепанной сербской шинели с чужого плеча, старом солдатском кепи и растоптанных опанках. Несмотря на полубродяжий вид, держался он достаточно надменно, чтобы обезопасить себя от расспросов полицейских, с насмешливым презрением наблюдая за шумной и блестящей толпой светских бездельников. Судя по всему, попал он в этот район случайно, но, то ли ему некуда было спешить, то ли еще по какой причине, уходить пока не торопился.
На панели неподалеку от странного молодого человека, на которого косились все – мужчины с нескрываемой брезгливой настороженностью, а дамы даже с интересом, – остановился открытый пароконный экипаж, в котором восседал сухой старик с непомерно толстыми губами и живыми, пронзительными, очень еще зоркими глазками. Цепкие руки его лежали на набалдашнике трости, и он все время шевелил пальцами, любуясь игрой крупного бриллианта на безымянном пальце правой руки. Рядом с коляской стоял полный средних лет мужчина, обмахиваясь соломенной шляпой.
– Австрийцы – народ, по крайней мере, европейский, цивилизованный, – говорил он, и в тоне его слышалось застарелое подобострастие. – А эти степные варвары, что посылают вперед себя орды диких казаков, – это же угроза скорее Европе, чем Турции. И мы как древнейшая нация Европы…
– Да, да, вы правы, – рассеянно отвечал старик, бегая острыми глазками по пестрой толпе. – Я, как вам известно, не поддерживаю нашей турецкой партии и во многом расхожусь с ее лидером Ионом Гиком, но он все же во многом прав, во многом. Мы не только древнейшая нация, наследники римлян, – мы аванпост Европы, и нам следует помнить, что наша Мекка – Париж, а не Москва.
– Но князь, увы, не может не считаться с простолюдинами, – вздохнул собеседник. – А вся чернь в восторге от этих гуннов, что ворвались в нашу несчастную Румынию.
Бегающие глазки старика окончательно остановились на черноволосой, очень хорошенькой цветочнице. Коричневый палец отклеился от трости и поманил ее, ослепительно сверкнув бриллиантом.
– Что у тебя, моя миленькая?
– Уно бени, – торопливо сказала девочка, тотчас подбежав к экипажу и протягивая цветы. – Уно бени, домине.
– Уно бени? А вот это хочешь? – старик с ловкостью менялы завертел перед глазами девочки серебряным полуфранком. – Ну посмотри, посмотри, как блестит. Хочешь получить его?
– Дай! – радостно закричала девочка, подпрыгивая и стараясь схватить монету. – Домине, добрый домине, дай!
– Дать? Ну лезь в экипаж. Лезь, не бойся.
Девочка неуверенно встала на подножку, но старик отклонился, и до монеты она так и не дотянулась. Завороженная серебряным блеском, девочка сделала еще шаг, оказавшись уже в экипаже.
– Целуй, – сказал старый аристократ, протягивая ей коричневую сухую руку.
Девочка секунду помедлила, борясь с искушением, а потом быстро, точно украдкой, чмокнула протянутую руку.
– Молодец! Ты смелая девочка, вот тебе за это.
Серебряная монета перешла к девочке и тут же исчезла где-то в многочисленных складках ее юбки. Цветочница хотела спрыгнуть, но старик достал вторую монету, на этот раз золотую.
– Теперь эту заработай, – сказал он, держа золотой в правой руке, а левой обнимая девочку за талию. – Но за это целуй сюда. – Он коснулся золотым толстых выпяченных губ. – Ну? Ты же смелая девочка…
– Целуй, дурочка, целуй скорей, – заулыбался стоявший рядом господин с соломенной шляпой в руке. – Домине добрый, он даст тебе много золота, если ты будешь слушаться его.
– Садись рядышком, вот так, – понизив голос, бормотал старик, усаживая девочку. – Ну что же ты? Это ведь золото. Настоящее золото!
Крепко прижимая к себе девочку, старик тянулся к ней толстыми выпяченными губами. Упираясь обеими руками в украшенную орденами грудь, девочка отчаянно вертела головой, испуганно повторяя:
– Не надо, домине, не надо, не надо…
Кучера на козлах не было. В поисках его собеседник с соломенной шляпой уже оглядывался по сторонам:
– Кучер! Кучер, живо сюда! Трогай, кучер!
Но раньше кучера возле экипажа оказался молодой человек в сербской шинели. Бесцеремонно оттолкнув услужливого господина, он левой рукой рванул старика за орденоносную грудь, а правой наотмашь влепил сочную пощечину.
– Сладострастная мумия…
Он еще раз встряхнул старика. Аристократ сполз на пол, девочка выскользнула из экипажа, тут же словно растворившись в толпе.
– Убивают! – закричал господин у коляски. – Грабеж! Полиция!
Он схватил молодого человека за руку, подоспевший кучер ударил сзади, сбил с ног. Безмятежная толпа, не обращавшая внимания на девочку, вдруг согласно, с визгом и криками кинулась на ее защитника. Ему не давали встать, топтали, били тростями, кололи зонтиками. Лежа на мостовой, молодой человек молча и яростно отбивался от набежавших со всех сторон кучеров. Силы были явно неравные, но тут с тротуара в свалку одновременно бросились двое: загорелый и обветренный молодой человек в модном костюме и небольшого роста ловкий и складный румынский капитан. В четыре кулака они мгновенно расшвыряли нападающих, подняли с мостовой волонтера. Кругом угрожающе шумела разгневанная толпа, визжали женщины, откуда-то слышались полицейские свистки.
– Бежим, – сказал румынский капитан. – За кондитерской проходной двор.
Они беспрепятственно добрались до кондитерской, немного покружили по дворовым лабиринтам и вышли на спокойную соседнюю улицу.
– Благодарю, – сказал молодой человек, отряхиваясь и приводя себя в порядок. – Глупейшая история.
– Вы действовали в высшей степени благородно, – сказал румын, пожимая ему руку. – Я Вальтер Морочиняну, капитан Восьмого линейного полка, и вы всегда можете рассчитывать на меня. Судя по виду, вы недавно из Сербии?
– Да. Я был ранен в последних боях, долго лечился. Сейчас пробираюсь на родину.
– Могу ли я узнать ваше имя?
– Поручик Гавриил Олексин.
– Очень рад, что оказал помощь соотечественнику, – улыбнулся молодой человек в модном костюме. – Позвольте отрекомендоваться в свою очередь. Князь Цертелев.
– Счастлив нашему знакомству, но вынужден вас оставить, – сказал капитан Морочиняну. – Кажется, в свалке я заехал по физиономии любимчику нашего князя Карла, а он – немец и плохо понимает шутки. Надеюсь, увидимся?
С этими словами капитан отдал честь, остановил извозчика и поспешно укатил прочь. Русские остались одни.
– Как вас занесло на Каля Могошоаей? – спросил Цертелев.
– Я не знаю города, – пожал плечами поручик. – Искал, где пообедать.
– Вы очень богаты?
– В кармане франк с четвертью.
– На это вы не пообедаете даже в портовом кабаке, – улыбнулся князь. – Однако я тоже голоден и приглашаю вас с собой. Кстати, я как раз направлялся на обед.
– Благодарю, но боюсь, что мой наряд…
– Оставьте церемонии, поручик. Вы из Сербии, этим сказано все.
– И все же, князь, это неудобно, – упорствовал Гавриил. – Знакомство наше шапочное, а мне, право же, будет неуютно рядом с таким франтом, как вы.
– Это маскировка, Олексин: мне положено быть в форме урядника Кубанского полка с шевронами вольноопределяющегося, но в подобном виде в рестораны, увы, не пускают. А компания за обедом будет сугубо мужская: два корреспондента, казачий урядник, поручик из Сербии и… и еще один очень приятный собеседник.
Разговаривая, князь Цертелев уверенно вел Олексина тихими улочками в обход шумного аристократического квартала. В конце концов они все же вышли в этот квартал, но в его наиболее респектабельную, а потому и тихую часть, и свернули к ресторану. Ливрейный швейцар с откровенным удивлением уставился на потрепанную одежду поручика, но беспрепятственно распахнул перед ними тяжелые зеркальные двери.
– Это единственный ресторан Бухареста, где прислуга не говорит о политике, – сказал Цертелев, когда они миновали гардероб. – Правда, их молчание хозяин включает в счет.
– Господи, ну и вид у меня, – озадаченно вздохнул Олексин, рассматривая себя в огромном зеркале.
– Таковский крест на вашей груди важнее самого модного фрака, Олексин, – успокоил его Цертелев. – Прошу прямо в зал, нас давно уже ждут сотрапезники.
– Пожалуйста, князь, не проговоритесь за столом об этом инциденте.
– Не беспокойтесь, поручик, я старый дипломат. Видите троих мужчин за столом у окна?
Гавриил сразу заметил этот стол, мужчин и невольно остановился: лицом к нему в распахнутом белом кителе сидел генерал Скобелев. В соседе справа он тут же узнал князя Насекина, и только левый сосед – рыжеватый, с корреспондентской бляхой на рукаве мехового пиджака – был ему незнаком.
– Господа, позвольте представить моего друга поручика Олексина, – сказал князь Цертелев, крепко взяв Гавриила за локоть и чуть ли не силой подведя к столу. – Он только сегодня вернулся из Сербии.
– Олексин? – Насекин медленно улыбнулся. – Эта фамилия преследует меня не только во сне, но и наяву.
– Я тоже как-то слышал эту фамилию, – сказал Скобелев. – Где, где, где, напомните?
– В Туркестане, ваше превосходительство. Я тот офицер, что доставил вам именной указ.
– Прекрасно, значит, мы знакомы, – улыбнулся генерал. – Прошу, господа, обед я заказал на свой вкус, уж не посетуйте.
– Прошу простить, что явился столь неожиданно… – начал было поручик, садясь напротив.
– Полноте, – проворчал Скобелев. – Вы сражались в Сербии, мы с Макгаханом тоже достаточно нюхнули пороху в Туркестане, их сиятельства в расчет брать не будем – и получается добрая встреча боевых друзей. Вы еще помните Туркестан, дружище? – Он хлопнул по плечу сидящего слева рыжеватого корреспондента.
– У меня дурацкая память: я забываю только то, что нельзя продать газетам, – улыбнулся Макгахан. – Впрочем, одну историю мне так и не удалось напечатать: все редакторы в один голос заявили, что это тысяча вторая ночь Шахерезады, хотя я был правдивее папы римского.
– Попробую вам поверить, хотя, видит Бог, это нелегко, – насмешливо сказал Насекин.
– Клянусь честью, джентльмены. История эта произошла в незабвенном для меня городе Хиве, где я имел счастье познакомиться со Скобелевым, – начал Макгахан. – Однако в то время как моего друга за мелкие прегрешения не впустили в Хиву, я вступил в нее с отрядом генерала Головачева и после осмотра цитадели вместе с ним же пристроился на ночевку в ханском дворце. Должен сказать, что хан хивинский бежал от русских войск столь поспешно, что оставил победителям свое главное сокровище – гарем. Узнав об этом, суровый Головачев выставил к дверям гарема усиленный караул и безмятежно завалился спать, отделенный от ханских гурий лишь невысокой глинобитной стеной.
– Представляю ваше состояние, Макгахан, – улыбнулся в густые бакенбарды Скобелев.
– Да, джентльмены, я был молод и безрассуден. Мог ли я спать, когда в трех футах от меня прекрасные из прекрасных горько оплакивали предательство своего мужа и повелителя? Мог ли я не использовать хотя бы один шанс из тысячи, лишь бы только своими глазами увидеть лица, которыми до сей поры любовался один царственный супруг? И вот, дождавшись, когда богатырский храп повис над двориком, я тихо поднялся с ковра, сунул револьвер в карман и осторожно прокрался к стене. Не буду говорить, сколько времени я потратил на бесполезные блуждания в поисках второго, неохраняемого входа в святая святых ханского дворца: было бы бесчеловечно столь злоупотреблять вашим доверием. Достаточно сказать, что моя настойчивость принесла плоды: я обнаружил таинственную дверь и замер подле нее, вслушиваясь. И что же я услышал, джентльмены?
– Храп генерала Головачева? – предположил Цертелев.
– Смех, джентльмены! Серебристый, чарующий женский смех, от которого сердце мое застучало как паровая машина, а в жилах вскипела кровь. Я был у цели, я касался руками сокровищницы, и мне лишь оставалось воскликнуть: «Сезам, отворись!»
– На каком же языке вы намеревались воскликнуть? – снова поинтересовался Цертелев.
– Вы скептик, князь, – вздохнул Макгахан. – Язык страсти доступен всем женщинам мира. Я подумал об этом и смело постучал в дверь.
– Перед тем как она откроется, я предлагаю закусить, – сказал Насекин. – Необходимо подкрепить свои силы.
За столом все были достаточно молоды, чтобы есть и пить с аппетитом и удовольствием. На поручика никто не обращал внимания, он быстро освоился и ел за двоих без церемоний.
– Мясной экстракт Либиха – чудовищная вещь, – вдруг сказал Макгахан, содрогнувшись от отвращения.
– Почему вы вдруг вспомнили о Либихе? – поперхнувшись от смеха, спросил Скобелев. – Вам мало того, что стоит на столе?
– Вероятно, он угощал этим экстрактом гурий ханского гарема, – улыбнулся Цертелев.
– Кстати, Макгахан, раз уж вы постучали, так входите, – ворчливо сказал князь Насекин. – Ничего нет хуже, чем остановиться на пороге наслаждения.
– И забудьте наконец о Либихе, – с улыбкой добавил генерал.
– Не так-то все было просто и ясно, как ваш смех, – вздохнул Макгахан. – Я отбил себе руку, прежде чем мне открыла какая-то ведьма с глиняным светильником в руке. Она что-то затараторила, но в глубине за ее согбенной спиной по-прежнему звучал призывный женский смех. Я молча отодвинул старуху и неожиданно увидел картину настолько фантастическую, настолько сказочную, что она до сей поры отчетливо стоит передо мною.
Принесли суп, и рассказчик замолчал. Подождал, когда разольют его по тарелкам, когда уйдет прислуга. Все начали есть, а он лишь попробовал и продолжил:
– Я увидел двор футов в сто длиной и пятьдесят шириной, на одной стороне которого было возвышение, сплошь покрытое коврами, подушками и одеялами. Именно в этом углу двора, освещенном бледным светом луны, находилось около двадцати красавиц…
– Не надо никого обманывать, Макгахан, – опять проворчал Насекин. – Убежден, что вы пересчитали всех гаремных дам по пальцам, а нам вместо четкой цифры предлагаете знаменитое «около». «Около двух человек было ранено», как недавно сообщила наша уважаемая пресса.
– Вы правы, князь, это дурная привычка, – сказал Макгахан. – Их было ровнехонько двадцать две штуки, но три оказались старыми и безобразными, почему я и остановился где-то около двадцати. Лежа в прелестных позах на подушках, они болтали и смеялись, но, к сожалению, мне не пришлось долго ими любоваться, потому что за моей спиной прокаркала что-то ведьма со светильником. Надо было видеть, джентльмены, как грациозно замерли вдруг эти прелестницы, какой вслед за этим поднялся смех и визг, как они заметались, пока на них не прикрикнула одна из красавиц. Они сразу замолчали, а она, взяв в руки светильник, смело подошла ко мне и остановилась в шаге, серьезно и строго рассматривая меня с головы до ног.
– Надеюсь, вы не оплошали, дружище? – улыбнулся Скобелев. – Между прочим, если вы и впредь будете отказываться от супа, то в конце концов оплошаете.
– Она оказалась любимой дочерью индийского раджи, похищенной в раннем детстве? – поинтересовался Цертелев.
– Я не сочиняю, я излагаю сущую правду. Я не знаю, откуда она родом, но звали ее Зулейкой, что я установил после долгой смешной путаницы. Эта Зулейка провела меня на возвышение дворика, усадила на подушки и стала угощать чаем. Остальные обитательницы гарема расселись вокруг и принялись очень внимательно разглядывать меня, обмениваться замечаниями и хихикать. А я выпил две чашки чая, съел какую-то тягучую сладость, после чего был выдворен из гарема под конвоем всех трех фурий.
– И все приключение? – разочарованно спросил Скобелев. – Я-то развесил уши, готовясь услышать, как прекрасные узницы передавали вас из объятий в объятья.
– Чего не было, того не было, – серьезно сказал Макгахан. – Я вернулся в наш двор и завалился на ковер рядом с безмятежно храпевшим генералом Головачевым. Но каково же было мое удивление, когда рано утром дежурный офицер сообщил, что гарем пуст! Все его обитательницы исчезли таинственно и необъяснимо, пройдя не только цитадель, но и город, занятый русскими войсками.
– Они бежали от вас, Макгахан, – убежденно сказал Насекин. – Вы так боялись напугать их действием, что перепугали бездействием, а это самый большой страх, который испытывают женщины.
– Я рассказал вам этот анекдот не ради забавы, – продолжал Макгахан. – Меня до сей поры тревожит один вопрос: что же понимают женщины под личной свободой? Любовь? Но когда вас двадцать душ, какая уж тут любовь. Долг? Но хан первым бросил их и сбежал. Покорность? Но никто не понуждал их бежать из охраняемого гарема. Что же тогда, джентльмены, что?
– Если бы вместо чая вы пили любовный напиток, вы бы не мучились над подобными вопросами, – сказал генерал. – Женщины любят силу, вот и все. И стоило вам ее применить, как они тут же пошли бы за вами.
– Представляете, Макгахан, вы привезли бы в Европу целых двадцать две жены, – улыбнулся Цертелев. – То-то была бы сенсация!
– Я не хочу шутить на эту тему, – недовольно поморщился американец. – Женщина не только источник наслаждения, женщина – часть мужчины, часть его существа: недаром Библия упоминает о ребре Адама. Представьте на миг, что никаких женщин нет и не было, что мы размножаемся, скажем, почкованием…
– Как скучно! – заметил Цертелев.
– Возможно, но я о другом. Представьте мир мужчин: что вы найдете в этом мире? Средства для убийств себе подобных, для охоты и рыбной ловли, шкуры для сна и одежды и… и, пожалуй, все.
– Вы забыли вино и карты, – серьезно подсказал Скобелев.
– Вы шутите, а я утверждаю, что мы, мужчины, всегда готовы довольствоваться необходимым, если рядом нет женщины. Женщина – стимул цивилизации и ее венец, вот о чем я толкую, джентльмены. Ради нее писались законы и романы, возникали державы и открывались Америки. Ради женщины, только ради женщины, все остальное чушь; мы бы до сей поры не вылезли из пещер, если бы наши дамы не захотели этого. Вы утверждаете, что женщины любят силу? Нет, джентльмены, это мы любим слабость, будучи сильными; любим верность, будучи неверными; любим нежность, будучи грубыми. Мы, а не они – вот в чем парадокс!
– Обед зашел в тупик, – вздохнул Скобелев. – Я полагал, что он пройдет под знаком Стрельца, а его унесло под знак Девы. Право же, будет куда поучительнее, если поручик расскажет, где он оставил половину своего уха.
– В Сербии, ваше превосходительство, – нехотя сказал Гавриил. – Затем был плен, побег, снова бой и пуля в плечо. Я так долго валялся по госпиталям и больницам, что сейчас хочу только домой.
– Жаль, что я не у дел, – с грустью сказал генерал. – Я числюсь начальником штаба в дивизии собственного отца Скобелева-первого, понимайте это как полупочетную ссылку. Но в отличие от вас, поручик, я не хочу домой. Я хочу на тот берег, туда, где так нуждаются в нашем с вами опыте. Или вы настолько уморились, что больше не слышите стонов из-за Дуная?
– Ну почему же, – сказал Олексин. – Просто мой полк сейчас в Москве.
– Вы знаете болгарский язык? – спросил вдруг Цертелев.
– Одно время я командовал болгарским отрядом.
– Вам известно, что генерал Столетов формирует болгарское ополчение?
– Я слышал кое-что за границей.
– Михаил Дмитриевич, я прошу вас рекомендовать моего друга Столетову, – серьезно сказал Цертелев. – Полагаю, что там он будет на месте.
Скобелев испытующе смотрел на Олексина. Поручик с напряжением выдержал его пристальный взгляд, не торопясь ни отказываться, ни соглашаться.
– Ваш друг не готов к решению, князь, – сказал генерал. – Стоит ли что-либо навязывать человеку помимо его воли?
– Вот вы и подпалили крылья, архангел Гавриил, – бледно улыбнулся Насекин. – Помню, как вы гордились ими в Москве.
– Я давно обронил их, князь, – вздохнул Гавриил. – Я простой пехотный офицер с некоторым боевым опытом. И если болгары и впрямь нуждаются в нем, я готов попробовать еще раз.
– Что попробовать, поручик? – спросил генерал.
– Попробовать понять, для чего я убивал и для чего убивали меня.
Скобелев весело улыбнулся, тут же деликатно прикрыв улыбку ладонью.
– Ваше превосходительство!
К ним спешил штабс-капитан с резким и неприветливым лицом. Цертелев махнул ему рукой:
– Сюда, Млынов!
Млынов подошел. Щелкнув каблуками, сухо поклонился.
– Извините, господа, я за его превосходительством. Михаил Дмитриевич, вас срочно просит его высочество главнокомандующий.
Скобелев резко выпрямился, глаза его радостно сверкнули.
– Вот и обо мне вспомнили. – Он торопливо вытер усы, бросил на стол салфетку и встал, застегивая китель. – Прошу простить, господа, но главнокомандующие не любят ждать даже генералов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































