Текст книги "Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры"
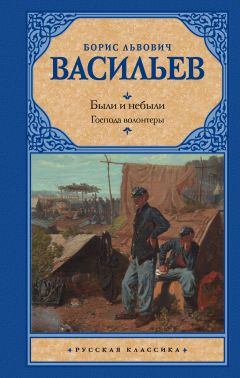
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 43 страниц)
Дверь открыл толстый молодой лакей. Глядел, сонно сощурясь, презрительно выпятив грубые, мокрые губы.
– Не велено пущать. Никого не велено.
Он будто не был в состоянии слушать, а тем более понимать, что ему говорят. Это было ниже его достоинства. Вровень с его достоинством стояло сладкое право «не пущать».
– Ты глухой? – У тихой и приветливой Маши совсем по-отцовски колюче похолодели глаза. – Я Мария Ивановна Олексина, изволь немедленно доложить батюшке.
– Барин никого не велел…
Но барышни уже раздевались, кидая пелерины и шляпки на диван, стоявший в прихожей, и не обращая на лакея внимания. Это породило в голове Петра смутную мысль об их неотъемлемом праве нарушать данные ему инструкции. Он помолчал, пожевал толстыми губами и неторопливо, борясь с сомнениями, поплелся докладывать, все время с недоверием оглядываясь на капризных барышень.
– Каков нахал! – дрожа от возмущения, сказала Маша. – Федор недаром говорил, что батюшка нарочно ему потакает. Знает, что туп и нахален, и потакает нарочно, чтобы всех сердить и обескураживать.
Вместо Петра на лестнице появился живой и очень приветливый старичок. Поспешно спустился, улыбаясь и кланяясь на каждой ступеньке.
– Мария Ивановна, радость-то какая нам! И опять без эстафеты, без депеши, мне на огорчение.
– Игнат! – Маша шагнула к давно знакомому ей старому камердинеру, радостно протянув обе руки. – Я так рада, Игнат, что это ты. Что батюшка? Как он?
– Здоров батюшка, здоров, Бог милует. – Игнат осторожно подержал и отпустил девичьи руки. – В гости пожаловали? Надолго ли, осмелюсь спросить?
– Ох, Игнат! – Маша уткнулась лбом в подбитую ватой грудь старика. – С горем мы, Игнат, с большим горем. Володю нашего убили в Тифлисе.
– Владимира Ивановича? Володеньку?
Игнат качнулся. Маша поддержала его, усадила на диван прямо на пелеринки.
– Володеньку, Володеньку… – Голова его затряслась, по дряблому, старческому лицу, обрамленному жиденькими седыми бакенбардами, ползли слезы. – Да как же это, как же?
– На дуэли, – вздохнула Маша. – Пуля попала в сердце. Сразу в сердце и…
– Господи, Господи!.. – вздыхая, крестился камердинер. – А батюшка как же? Как сказать-то ему, как? Ведь в себе все держит, всю жизнь все в себе, не расплескивая. Аккурат вчера Володеньку поминал. Доволен был, что служит, что в чины входит. Поди вот так-то ляпни с порога – помрет. Слова не скажет, а – помрет. Как же сказать-то, а? Как?
– Мы сами скажем, Игнат. Для этого и приехали.
– Да, да. – Старик горестно покачал головой, перекрестился, достал платок и шумно высморкался. – А с вами-то кто же будет, Мария Ивановна? Извините, барышня, глазами слабну.
– Это? – Маша запнулась только на мгновение. – Это невеста Володина.
– Барышня! – Игнат дотянулся до Таи, ласково провел по ее рукаву. – Господи, горе-то, горе-то какое! Идите, барышни, идите к нему. Только не сразу бы, а? Не с порога скажите, не с порога.
Старик читал в кресле, когда барышни без доклада проскользнули в кабинет. Увидев их, он снял очки, заложил ими книгу и встал.
– Дочь? – Он что-то почувствовал и от волнения забыл ее имя. – Как ты здесь? Почему? Что-нибудь с… Гавриилом?
– Батюшка! – Маша бросилась к нему, уткнулась в грудь. – Милый батюшка, сядьте. Сядьте, умоляю вас!
Она уже не сдерживалась, уже плакала, забыв о предостережениях Игната, о строгих наказах Вари и Софьи Гавриловны. Крепко прижимаясь лицом к домашней, пропахшей запахом дорогого табака куртке, она толкала отца в кресло, пытаясь усадить, а он сопротивлялся, упираясь руками в подлокотники, и все твердил:
– Да говори же, говори! Что с волонтером, что? Ведь вижу все, все ведь вижу, Господи!
Все же она усадила его и, опустившись на колени рядом с креслом, гладила и целовала сухую старческую руку, крепко, как во спасение, вцепившуюся в подлокотник.
– Не бойся, – тихо и строго сказал отец. – Не бойся, говори. Что с волонтером нашим? Убит? Ранен? Я ведь предупреждал его, предупреждал…
– Володя погиб, батюшка! – не выдержав, крикнула вдруг Маша – Володенька погиб на Кавказе!
Старик отбросил ее руку, судорожно выпрямившись в кресле. Беспомощно и немо, как рыба, открывал и закрывал рот, будто пытался проглотить что-то и не мог, и только горбатый кадык конвульсивно сотрясался под дряблыми складками кожи. Тая рванулась от дверей, налила воды из графина, подала. Он выпил булькающими глотками, слепо глянув на незнакомую барышню.
– Погиб? – тихо и как-то очень уж спокойно переспросил он. – Как же мог? Как? Там замирение. Или опять взбунтовались? Я давно не читаю газет. Давно. Они непристойно спекулятивны и стремятся навязать свою волю. А это неприлично.
Он говорил и говорил, точно второпях, кое-как, наспех возводил баррикаду между собой и ими, словно заделывал брешь, нанесенную известием и вдруг обнажившую сердце. А он не мог допустить, чтобы кто-то – неважно, кто именно, – видел это сердце, видел его боль, его судороги, слышал его молчаливый крик.
– Стало быть, что же? Несчастный случай? Зашибла лошадь? Болезнь? Умер в постели?
Последний вопрос прозвучал строго, выбившись из торопливого ряда. Маша почувствовала это, поняла, что ответ для него важен.
– Нет, батюшка. Не в постели.
– Не в постели? – Старик быстро глянул на нее, проверяя, и тотчас отвел глаза. – Не в постели – это хорошо. Хорошо. Мужчина не должен умирать в постели. Это унизительно. Да. Унизительно. Смерть должна возвышать.
– Его убили! – громко, с отчаянием выкрикнула Тая: ей было невмоготу это бессмысленное старческое бормотанье. – Убили! Убили на дуэли!
– Убили?
Отец долгим пристальным взглядом уперся в Таю. Она испугалась этих немигающих глаз, где живым было только судорожное подергивание век, но выдержала, поспешно закивав.
– От пули, – тихо, точно отвечая сам себе, сказал старик. – Значит, от пули.
Он медленно придвинул ящичек, стал набивать трубку. Пальцы тряслись, табак сыпался, он снова и снова старательно подбирал крошки и запихивал их на место.
– Батюшка…
– Значит, все-таки от пули, – жестом остановив ее, повторил он.
Голос не послушался, задрожал, сорвавшись на дикий, лающий звук, и старик опять несколько раз тяжело сглотнул, словно заталкивая в себя прорвавшийся живой вопль.
– Батюшка. – Слезы текли по лицу Маши, она чувствовала, как они текут, но боялась отереть их, боялась признаться, что плачет, потому что это горе не терпело слез, и она понимала отца. – Батюшка, Володя погиб гордо и прекрасно. Он защищал честь девушки, что стоит перед вами. Это невеста его, батюшка.
Старческий, немигающий взгляд вновь уперся в Таю. В строгих, осмысленно напряженных глазах не было слез, но копилась такая боль, что Тая сразу подошла и опустилась на колени по другую сторону кресла. Олексин положил руку ей на голову, медленно провел к затылку – не погладил, а именно провел. И рука эта не дрожала, была тверда и почти покойна, но Тая почувствовала вдруг ее чугунную тяжесть.
– Он умер сразу?
– Пуля попала в сердце.
– Хорошо. – Старик удовлетворенно кивнул головой. – Хорошо, что он защищал честь. Это хорошо и достойно.
– Он защищал не только мою честь, – тихо сказала Тая. – Он защищал честь полка.
– Хорошо, – еще раз кивнул Олексин. – Он славный мальчик, и его любили в полку. Внизу есть шкапчик с лекарствами. Принесите склянку с синим ярлычком.
Тая молча вышла из комнаты.
– Вам плохо? – с испугом спросила Маша. – Батюшка, скажите правду. Может быть, послать за врачом?
– Нет лекарств, чтобы они помогали отцу, когда он теряет сына. Даже такому отцу, как я. – Он помолчал. – Кто эта девушка?
– Дочь заместителя командира полка подполковника Ковалевского.
– Дворянка?
– Не знаю. Кажется, нет.
– Славная. Славная девушка.
Маша осторожно глянула на него. Подумала, сказала неуверенно:
– Ей нельзя возвращаться к родителям. Так получилось, что…
– Не объясняй. – Отец чуть пожал ей руку. – Зачем же ей возвращаться, когда Владимир погиб?
Он замолчал, со строгой скорбью глядя перед собой и медленно поглаживая дочь по голове. А Маша опять чувствовала, как по лицу ее текут слезы, и опять боялась заплакать.
– А ты молодец, – тихо сказал старик. – Варвара себя жалеет и потому скорбит шумно. Оскорбительно шумно. А ты – умница ты. Ты других жалеешь и щадишь. В маму ты. В Анечку. Помолчим, доченька? Вспомним их, светлых, и помолчим. Мертвым ничего не нужно, кроме нашего молчания. Ничего.
Отец и дочь надолго замолчали, но молчание это не было пустым. Оно было наполнено их единением и согласием, первым объединяющим мгновением полного взаимопонимания и любви.
Тая спустилась в прихожую, так никого и не встретив. От волнения она забыла, как звали того доброго старичка, что встретил их на лестнице и так убивался, узнав о гибели Владимира, как позвать кого-либо из прислуги, не знала и стала открывать подряд все двери в надежде найти где-нибудь шкапчик с лекарствами.
Так прошла она несколько безлюдных комнат, приоткрыла очередную дверь и тихо ахнула: у окна стоял молодой человек в куцем провинциальном сюртучке. Но ахнула она не потому, что испугалась, а потому, что человек этот был удивительно похож на Владимира, только жиденькая бороденка выглядела совсем лишней.
– Я испугал вас? – улыбнулся он такой знакомой ей улыбкой. – Извините. Мне суждено, видно, не вовремя появляться. Я через черный ход, как обычно, чтоб не беспокоить.
– Федор Иванович? – тихо спросила Тая. – Я вас сразу узнала, Федор Иванович. Почему я вас сразу узнала?..
Глава девятая
1Вечером того же дня, когда было объявлено о перемирии, к шалашу Олексина в полном боевом снаряжении подошли болгары. Остановились, вольно опершись о винтовки, но не нарушая строя. Меченый заглянул в шалаш:
– Мы уходим, поручик.
– Как уходите? – Олексин сел на топчане. – Куда?
– Мы пришли сюда сражаться. Нет сражения – нет обязательств.
– И куда же намереваетесь? – спросил поручик, натягивая сапоги.
– Домой. В Болгарию.
– Через позиции?
– Позиций больше нет. Кроме того, с нами идет Бранко.
Бранко стоял в строю рядом с Любчо. На позициях Гавриил никогда не встречал девушку, за хлопотами позабыв о ее существовании, и теперь смотрел удивленно.
– Где вы прятали своего адъютанта, Стойчо?
– В селе. Там у Бранко дальние родственники. Прощайте, поручик. – Стойчо протянул руку. – Спасибо.
– Прощайте, Стойчо. – Олексин грустно улыбнулся, обнял его. – Если бы я мог, я бы тоже ушел. – Он оглядел строй. – А где же Карагеоргиев?
– Ему с нами не по дороге, – проворчал Кирчо из строя.
– Прощайте, юнаки! – громко сказал Олексин, отдав честь строю. – Дай вам бог добраться до родины.
Из шалаша поспешно вышел Захар. Совал в руки Любчо узелок:
– Возьми, девка, на дорожку. Возьми, не обижай.
– Спасибо, – по-русски сказала девушка.
Стоян, помолчав, еще раз кивнул поручику и негромко отдал команду. Отряд двинулся мимо шалашей, мимо ошалевших от радости войников и растерянных волонтеров, мимо костров, вина, плясок, песен и веселья. Болгары шли молча, с горделивым достоинством выдерживая равнение и шаг.
Из-за поворота показались Совримович и Отвиновский. Нагнали отряд, долго шли рядом с Меченым. Потом вернулись к шалашу.
– Зачем вы отпустили их, Олексин? – с неудовольствием спросил Совримович. – Самый боеспособный отряд.
– Боеспособность нужна в бою, – усмехнулся Отвиновский. – Плясать вокруг костров можно и без боеспособности.
– Тоже собираетесь куда-нибудь податься? – спросил поручик: внезапный уход болгар вызвал в нем волну горького раздражения.
– Некуда! – с непонятным ожесточением ответил Отвиновский. – Связал нас черт веревочкой.
Шошич метался по лагерю, уговаривал, ругался, просил опомниться, даже бил – ничего не помогало.
– А я куда вернусь? – горько спрашивал Шошич. – Дома нет – сожгли турки, дочери нет – увели турки, жены нет – с горя померла. Куда мне-то идти, куда?!
Шли дни, но настроение праздничного оживления не исчезало. Контакты с турками стали еще теснее и еще откровеннее, перейдя вскоре в сферу деловых отношений: под яблоней, откуда Олексин был вынужден убрать французский караул, развернулось оживленное торжище. Торговали всем, чем только можно было торговать: табаком и фруктами, вином и мясом, барашками и птицей, кожами, одеждой, топорами, ножами, даже оружием. Меняли, покупали, продавали, одалживали друг у друга – базарный азарт охватил обе стороны с невероятной силой, и уже не только сербские войники, но и русские волонтеры щеголяли в турецких фесках и хвастались выгодно приобретенными ятаганами.
– Такого разгрома я еще не испытывал, – с горечью сказал Хорватович, приехав на позиции. – Теперь, пожалуй, я соглашусь признать, что турки выиграли войну.
– Считаете, они начнут наступление? – спросил Брянов.
– Непременно начнут, капитан. У них регулярная армия, и навести порядок им ничего не стоит: только прикажи. Пробовали обязательные ученья?
– Безнадежное дело. Волонтеры еще кое-как занимаются, хотя и с отвращением, а войники решительно отказываются. Говорят, что перемирие – это вроде отпуска.
– Однако Тюрберт сумел заставить своих артиллеристов.
– Скрипачи, – с оттенком зависти сказал Олексин. – И потом, господин полковник, я не хочу никого обижать, но…
– Боюсь, что разгром неминуем, господа, – невесело сказал Хорватович. – Я вижу только один выход: первыми начать.
– Нарушить перемирие? – изумился Брянов. – Да нас расстреляют перед строем за такое самоуправство!
– Я вижу только один выход, – задумчиво повторил Хорватович. – Есть способ разорвать перемирие. Есть!
На следующий день Хорватович выехал в Белград, поручив корпус майору Яковличу, рыхлому, обленившемуся и нерешительному. Единственная форма приказания, которой широко пользовался майор, заключалась в трех словах: «Ничего не предпринимать».
– Послал Бог начальничка, – со вздохом говорил Брянов.
Целыми днями валялись по шалашам, проводя время в пустопорожних разговорах. После ухода болгар Отвиновский стал чаще навещать Олексина и Совримовича, но в беседы вступал редко, предпочитая слушать или отделываться короткими замечаниями. Его тяготило не просто безделье, и поручик спросил напрямик:
– Жалеете, что не ушли с болгарами?
– Жалею, что приехал в Сербию. А впрочем, неверно, я ни о чем не жалею, Олексин.
– Вот это вас и мучает.
Отвиновский промолчал, привычно усмехнувшись. Потом спросил вдруг:
– Вы женаты, Олексин?
– Нет. Почему вы спросили об этом?
– Потому что тоже не женат. А это глупо.
– Что же глупого?
– Глупо, когда человеку некуда спешить.
– По-вашему, спешат только к женщине? – спросил Совримович.
– Только к женщине, – убежденно сказал Отвиновский. – Все остальное – выдумки, в которые мы почему-то так часто верим. А женщина – реальность, господа. Единственная реальность, к которой стоит торопиться.
– У вас есть семья, родные? – спросил, помолчав, Совримович.
– Таким тоном обычно разговаривают с больным, – опять усмехнулся Отвиновский. – Утолю ваше любопытство одним словом: были. А это означает, что мне не только некуда торопиться, но и некуда возвращаться. В этом смысле я идеальный солдат: мне нечего терять.
– И когда закончится эта война, вы поедете на другую? – спросил Олексин. – Право, жаль, что вы не ушли с болгарами.
– Знаете, Отвиновский, я увезу вас с собой, – решительно сказал Совримович. – Да, да, не спорьте: нехорошо, когда человеку некуда возвращаться. У меня есть небольшое имение на Волыни, матушка и прелестная кузина. Я выйду в отставку, и мы прекрасно заживем вчетвером. А Олексин будет наезжать в гости.
– Благодарю, друг. Я запомню ваши слова и – кто знает! – может быть, и постучусь однажды в сумерки. Когда-нибудь. Когда пойму.
– Что поймете? – спросил поручик, зевнув.
– Когда пойму, для чего меня убивали и для чего я убивал сам. Рано или поздно человек должен дать себе полный отчет. Особенно если он занимается этим ремеслом с четырнадцати лет. – Отвиновский натянуто улыбнулся. – Мы хорошо шутим, господа, не правда ли? А все от безделья.
Он сухо поклонился и вышел поспешнее, чем требовалось. Совримович вздохнул:
– Знаете, Олексин, мне жаль нашего поляка. По-моему, он очень несчастлив.
– Он был бы куда приятнее, если бы меньше бравировал своей несчастливостью, – непримиримо проворчал поручик. – Что-то в нем есть неистребимо шляхетское: что бы он ни говорил, я все время слышу звон шпор и бряцание сабли.
Утром их разбудил адъютант Яковлича, красивый улыбчивый мальчик. Он редко покидал своего командира, никогда не появлялся на позициях, и офицеры переглянулись.
– Господин майор просит пожаловать к себе господ русских офицеров.
Майор Яковлич вопреки обыкновению принимал не в тесном прокуренном шалаше, а на поляне. И это обстоятельство, и неуклюжая старательность в одежде майора, и нелепая сабля, за которую он то и дело цеплялся, – все удивляло и настораживало. Но самым удивительным был неожиданный приезд штабс-капитана Истомина.
– Важные новости, господа, весьма важные.
– Господа русские офицеры, – тусклым голосом начал Яковлич, когда все выстроились на краю поляны. – Сербский народ переживает великое историческое событие. В кровавой борьбе с турками наступил новый этап. А так как народ в Сербии составляет войско, которым вы командуете, то мы просим вас присоединиться ко всенародному желанию и разъяснить его значение подчиненным.
– Позвольте, какое желание? – громко спросил Тюрберт. – Нельзя ли попроще, господин майор?
Яковлич сонно глянул на щеголеватого артиллериста, вяло пожевал толстыми губами.
– Сербский народ выразил единодушное желание провозгласить князя Милана королем Сербии. Этим актом мы решительно сбрасываем турецкое иго и объявляем войну султану как самостоятельное суверенное государство. С момента возложения короны на голову короля Милана мы уже не повстанцы, а самостоятельное европейское государство, находящееся в состоянии войны с Османской империей.
– Вот и конец перемирию, – шепнул Брянов Олексину. – Ай да Хорватович!
– По-вашему, он лично уговорил Милана короноваться?
– Нет, конечно, это устроила военная партия, Хорватович только подтолкнул нерешительных. Но каков камуфлет, а? Мы больше не повстанцы… Раз они не повстанцы, то и мы не волонтеры, а наемники сербской короны. Вам хочется быть наемником, Олексин?
– Господа, что за разговоры? – призвал к порядку Истомин.
– Разделяют ли русские офицеры единодушное желание сербского народа провозгласить князя Милана королем Сербии? – громко спросил Яковлич.
– А нам-то что за дело? – вдруг резко крикнул Брянов. – Мы ехали помогать сербскому народу в войне с турками, а не сажать на престол королей!
– Господа, господа, нельзя же так! – всполошился майор.
– Капитан Брянов шутит, господин майор, – натянуто улыбаясь, пояснил Истомин. – Он шутил в России с либералами, шутил в Бухаресте с болгарской эмиграцией и пытается шутить сейчас. А шутить как раз и не следует, потому что русское командование, которое я здесь имею честь представлять, поддерживает единодушное желание сербского народа и надеется, что все русские офицеры разделяют эту точку зрения.
– Что до меня, то мне как-то все равно, – ворчливо заметил Тюрберт. – Королем так королем. Лучше скажите, когда начнем стрелять?
– Перестаньте, Тюрберт, это все достаточно серьезно, – поморщился Истомин. – Вам надлежит разъяснить своим подчиненным значение этого важнейшего политического акта и добиться их поддержки.
– Ура, господа, – насмешливо улыбнулся Совримович.
– Ура! – неожиданно звонко заорал адъютант Яковлича. – Живио краль Милан! Живела кралица Наталья!
Возвращались в подавленном настроении: даже ярых монархистов смутила поспешность и несвоевременность этого акта. Только Тюрберт радовался:
– А что, господа, теперь, пожалуй, постреляем?
Рота приняла известие с завидным равнодушием: как сербам, так и волонтерам было безразлично, останется Милан князем или превратится в короля. Лео проворчал неодобрительно:
– Аристократы взяли верх.
Несмотря на то что приказ был исполнен, смутное раздражение не покидало Олексина. Он пытался разобраться, откуда оно, это раздражение, пытался внушить себе, что ему нет ровно никакого дела до внутренней политики сербских заправил, а тем паче до князя Милана, но чем больше он думал об этом, тем все яснее чувствовал, что раздражение это есть просто обида. Его личная обида за себя и за всех волонтеров, искренний порыв которых был использован в интересах узкой группки людей, ловко воспользовавшихся моментом для своих далеко не бескорыстных целей. А поняв это, уже не мог усидеть на месте – разыскал Совримовича, и они вдвоем отправились к Брянову.
У Брянова сидел Карагеоргиев. Увидев офицеров, он неприятно улыбнулся, не сделав никакой попытки привстать. Капитану их визит тоже не доставил радости, но Олексин не обратил на это внимания, и Совримович напрасно делал ему знаки.
– Присаживайтесь, – суховато сказал Брянов. – Ужинали?
– Да, да, не беспокойтесь, – поспешно забормотал Совримович. – Мы, собственно, чисто случайно. На минуту. Не знали, что вы заняты.
– Вы знакомы с господином Карагеоргиевым, и, полагаю, этого достаточно.
– Господин Карагеоргиев не любит русских, – сказал Гавриил, садясь напротив болгарина. – Но, кажется, не всех?
Карагеоргиев еще раз улыбнулся и промолчал. Брянов постоял, поочередно посмотрев на каждого гостя, пошел в угол.
– Ну, вина мы все же выпьем. – Он достал бутыль. – Не давиться же нам взаимными колкостями, правда?
Он принес кружки, разлил вино. Карагеоргиев по-прежнему помалкивал, натянуто улыбаясь.
– Почему вы не ушли с Меченым? – спросил Олексин, мало заботясь о тоне.
– Я не разбойник, господин ротный командир.
– Оставим формальности для строя. Вы не находите, что ваше объяснение носит отчетливый турецкий акцент?
– Простите, не понял.
– Обычно болгарских повстанцев называют разбойниками либо турки, либо их прислужники.
– И в данном случае они правы.
– Вы оскорбляете моего друга, – нахмурился поручик. – Не забывайтесь, Карагеоргиев.
– Господа, господа! – засуетился Совримович.
Брянов слушал молча, изредка поглядывая на Олексина.
– Вам известна программа Стойчо Меченого? – спросил Карагеоргиев, помолчав.
– Нет. – Гавриил интуитивно почувствовал подвох в этом вопросе. – Просто мы не говорили об этом.
– Она осталась бы неизвестной, даже если бы вы и говорили, – спокойно сказал болгарин. – Дело в том, что ее попросту нет. Меченый мстит, и только.
– Месть – святое дело, – осторожно вставил Совримович.
– Возможно. Но всегда личное, а потому и антиобщественное. Гайдук мстит народу, а не злодею, мстит, сам верша суд и расправу. Справедливо это?
Олексин опять вспомнил о словах Миллье: и недобрый Карагеоргиев тоже говорил о справедливости. Все вокруг говорили о справедливости, ссылались на нее, жаждали ее, мечтали о ней и умирали за нее, но каждый понимал ее по-своему.
– Болгарский народ не поддерживает военных авантюр против османов, это доказано историей. Из апрельского урока надо было извлечь выводы, а Меченый извлек ненависть. Одну слепую ненависть к туркам.
– Может быть, из этой искры возгорится пламя? – опять осторожно спросил Совримович.
– Для того чтобы возгорелось пламя, важны не столько искры, сколько горючий материал – вот единственно правильный вывод. Болгарии нужны апостолы, а не воины, нужна пропаганда, а не жертвенные бои.
– Однако вы почему-то оказались в Сербии, господин апостол, – заметил поручик.
Карагеоргиев промолчал, выразительно, как показалось Олексину, посмотрев при этом на Брянова. И капитан сразу поднял кружку:
– Выпьем, господа, и поговорим о чем-нибудь веселом. Как там говорил наш друг Тюрберт, поручик? О стрельбе картечью при конной атаке – так, кажется?
– Это мне напоминает игру «а вы любите брюнеток, господа?», – невесело усмехнулся Гавриил. – Здесь все считают меня несмышленышем. Все! А я думаю о князе Милане и о всей этой странной затее с коронованием. Затее, при которой – у меня такое ощущение, ничего не могу поделать – всех русских волонтеров сочли за стадо баранов, годное лишь на убой. Ну да бог с ними, с интригами и дракой за кусок пирога, но вы-то зачем хитрите, господа? Не доверяете – скажите, мы уйдем без обиды.
– Вы не в стане заговорщиков, Олексин, – нахмурившись, сказал Брянов. – А то, что Карагеоргиев не считает нужным говорить, это его право. Поверьте на слово.
– Мы верим, верим! – поспешно согласился Совримович. – Не правда ли, Олексин?
– Правда. К сожалению, мы куда чаще верим, чем веруем. Верим в призывы трибунов, в необходимость помощи, в собственную искренность и в искренность друзей. А надо веровать. Веровать! Во что-то надо же веровать, надо, надо! – Поручик вдруг вскочил, щелкнул каблуками. – Извините, господа, что нарушил беседу. У меня две дурные привычки: не вовремя приходить и не вовремя уходить. Честь имею. Вы идете, Совримович?
И вышел из шалаша, не дожидаясь ответа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































