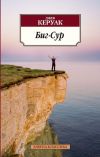Текст книги "В дороге"

Автор книги: Джек Керуак
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
11
Дин нашёл меня в таком виде, когда он наконец-то решил меня спасти. Он взял меня домой к Камилле. «А где Мэрилу, чувак?»
«Шлюха сбежала». Камила после Мэрилу была облегчением; воспитанная, вежливая молодая женщина, и она знала, что восемнадцать долларов, которые ей прислал Дин, были моими. Но О, куда ты ушла, сладкая Мэрилу? Несколько дней я отдыхал в доме Камиллы. Из окна её гостиной в деревянном доме на Либерти-стрит был виден весь Сан-Франциско, горящий зелёным и красным в дождливую ночь. Дин совершил самый нелепый поступок в своей карьере в те несколько дней, пока я там был. Он получил работу, это была демонстрация нового вида скороварки на домашних кухнях. Ему дали горы образцов и брошюр. В первый день Дин был ураганом энергии. Я ездил с ним по всему городу, когда он назначал встречи. Идея состояла в том, чтобы быть приглашённым на званый обед, а затем вскочить и начать демонстрировать скороварку. «Чувак», – взволнованно кричал Дин, – «это даже безумнее, чем когда я работал на Синаха. Синах продавал энциклопедии в Окленде. Никто не мог от них отказаться. Он произносил длинные речи, подпрыгивал, смеялся, плакал. Однажды мы ворвались в дом Оки, где все готовились к похоронам. Синах встал на колени и стал молиться за освобождение умершей души. Все Оки начали плакать. Он продал полный комплект энциклопедий. Он был самым безумным парнем в мире. Хотел бы я знать, где он сейчас. Мы сближались с симпатичными маленькими дочерьми и чувствовали их на их кухнях. Сегодня у меня была маленькая домохозяйка на её маленькой кухне – я обнимал её, когда демонстрировал. Ах! Хм! Вау!»
«Так держать, Дин», – сказал я. – «Может быть, когда-нибудь ты станешь мэром Сан-Франциско». У него была целая речь о скороварке; он тренировался на нас с Камиллой по вечерам.
Как-то утром он стоял голым и смотрел на весь Сан-Франциско из окна, пока всходило солнце. Он выглядел так, как будто когда-нибудь он станет языческим мэром Сан-Франциско. Но его энергия истощилась. В один дождливый день продавец зашёл узнать, что делает Дин. Дин валялся на диване. «Ты пытался это продать?»
«Нет», – сказал Дин, – «у меня есть другая работа».
«Ладно, а что ты собираешься делать со всеми этими образцами?»
«Я не знаю». В мёртвой тишине продавец собрал свои печальные горшки и ушёл. Я ослаб и устал от всего, и Дин тоже.
Но однажды вечером мы внезапно снова слетели с катушек; мы пошли к Слиму Гейлларду в маленький ночной клуб Фриско. Слим Гейллард – высокий, худой негр с большими грустными глазами, который всегда говорит: «Верно-оруни» и «Как насчет небольшого бурбона-оруни». Во Фриско огромные толпы молодых полуинтеллектуалов сидят у его ног и слушают его игру на пианино, гитаре и барабанах. Когда он разогревается, он снимает рубашку и майку, и его в самом деле прёт. Он делает и говорит всё, что придёт ему в голову. Он запевает «Бетономешалка, Пут-ти Пут-ти» и внезапно замедляет ритм, и зависает над своими бонго, едва постукивая кончиками пальцев по коже, и все наклоняются вперёд, затаив дыхание; вы думаете, что он будет делать так в течение минуты или около того, но он продолжает, в течение часа, создавая чуть заметный слабый шум кончиками ногтей, всё тише и тише, пока он не исчезнет совсем, и звуки уличного движения не войдут в открытую дверь. Затем он медленно встаёт, берёт микрофон и очень медленно произносит: «Великие-оруни… тонкие-овати… привет-оруни… бурбон-оруни… все-оруни… как мальчики в первом ряду делают со своими девочками-оруни… оруни… ваути… орунирони… Он продолжает так пятнадцать минут, его голос становится всё мягче, пока вы его уже не слышите. Его большие грустные глаза сканируют аудиторию.
Дин стоит сзади, говоря: «Бог! Да!» – молитвенно сжимает руки и потеет. «Сал, Слим знает время, он знает время». Слим садится за пианино и берёт две ноты, две «до», потом ещё две, потом одну, потом две, и вдруг крупный басист просыпается от задумчивости и понимает, что Слим играет «Блюз на ноте до», и он ударяет по струне своим длинным указательным пальцем, и начинается большой гулкий бит, все начинают качаться, и Слим выглядит таким же грустным, как и всегда, и они полчаса дуют джаз, а затем Слим сходит с ума, хватает бонго и играет потрясные быстрые кубинские ритмы и выкрикивает безумства на испанском, арабском, перуанском, на египетском, на всех языках, которые он знает, а он знает бессчётное множество языков. Наконец сет окончен; каждый сет занимает два часа. Слим Гейллард идёт и встаёт у стойки, печально глядя поверх голов, когда люди подходят с ним поговорить. Вот и бурбон в его руке. «Бурбон-оруни – спасибо-овати…» Никто не знает, где пребывает Слим Гейллард. Однажды Дину приснился сон о том, что у него есть ребенок, и он лежит с синим раздутым животом на траве в калифорнийской больнице. Под деревом с группой цветных мужчин сидел Слим Гейллард. Дин повернул к нему отчаянные материнские глаза. Слим сказал: «Вот и ты-оруни». Теперь Дин подошёл к нему, он подошёл к своему Богу; он думал, что Слим был Богом; он поёрзал и поклонился ему и попросил его присоединиться к нам. «Ладно-оруни, – говорит Слим; он присоединится к любому, но он не гарантирует нисхождение духа на вас. Дин взял столик, купил напитки и неподвижно сел перед Слимом. Слим дремал над его головой. Каждый раз, когда Слим говорил: «Оруни», Дин говорил: «Да!» Я сидел там с этими двумя безумцами. Ничего не произошло. Для Слима Гейлларда весь мир был всего лишь одним большим оруни.
В ту же ночь я врубался в Лампшейда на углу Фильмор-и-Гири. Лампшейд – крупный цветной парень, который входит в музыкальные салуны Фриско в пальто и в шляпе с шарфом, прыгает на эстраду и начинает петь; вены вздуваются у него на лбу; он вздрагивает и выдувает большой пронзительный блюз из каждой мышцы своей души. Пока он поёт, он кричит на людей: «Не умирай, чтобы попасть на небеса, начни с Доктора Пеппера и заканчивай виски!» Его голос звучит над всем. Он гримасничает, он извивается, он делает всё. Он подошёл к нашему столику, наклонился к нам и сказал: «Да!» Затем он вышел на улицу, чтобы вдарить в другом салуне. А ещё есть Конни Джордан, безумец, который поёт и выворачивает руки, и в конце концов обливает всех потом, он пинает микрофон и визжит, как женщина; и вы видите его поздно ночью, измученным, слушающим дикие джазовые сессии в Джемсонс Нук с большими круглыми глазами и обвисшими плечами, с большим странным взглядом в космос и выпивкой перед ним. Я никогда не видел таких безумных музыкантов. Во Фриско все дуют. Это конец континента; тут им всё побоку. Мы с Дином дурковали в Сан-Франциско на такой манер, пока я не получил очередной ветеранский чек и не собрался обратно домой.
Чего я добился, приехав во Фриско, я не знаю. Камилла хотела, чтобы я уехал; Дину всё было побоку. Я купил булку хлеба и шницели и приготовил себе десять бутербродов, чтобы снова пересечь страну; к тому времени, как я добрался до Дакоты, все они уже гнили у меня внутри. Прошлой ночью Дин совсем рехнулся и отыскал Мэрилу где-то в центре города, и мы сели в машину и покатили по заливу через весь Ричмонд, ударяя по негритянским джазовым притонам на сомнительных флэтах. Мэрилу хотела присесть, и цветной парень вытащил из-под неё стул. Какие-то девки подошли к ней в толчке с предложениями. Ко мне они тоже подошли. Дин потел со всех сторон. Это был конец; я хотел уехать.
На рассвете я сел в свой автобус до Нью-Йорка и сказал гуд-бай Дину и Мэрилу. Они хотели, чтобы я поделился с ними своими сэндвичами. Я сказал им «нет». Это был гнетущий момент. Все мы думали, что никогда не увидимся снова, и нам это было безразлично.
Часть 3

1
Весной 1949 года у меня возникло сколько-то долларов, сэкономленных от моих ветеранских чеков, и я поехал в Денвер, думая поселиться там. Я видел себя в Средней Америке, патриархом. Я был одинок. Там не было никого – ни Бэйб Роулинс, ни Тима Грея, ни Бетти Грей, ни Роланда Мейджора, ни Дина Мориарти, ни Карло Маркса, ни Эда Данкела, ни Роя Джонсона, ни Томми Снарка, никого. Я бродил по Кёртис-стрит и Лаример-стрит, какое-то время работал на оптовом фруктовом рынке, где меня почти взяли на работу в 1947 году – это была самая тяжелая работа в моей жизни; один раз я и японские пацаны должны были переместить целый вагон на сотню футов вниз по рельсам вручную с помощью домкрата, который передвигал его на четверть дюйма с каждым рывком. Я вытаскивал ящики с арбузами на палящее солнце по ледяному полу рефрижераторов и кашлял. Во имя Бога и мира под звёздами, зачем это всё?
В сумерках я выходил на прогулку. Я чувствовал себя пятнышком на поверхности печальной красной земли. Я проходил мимо отеля Виндзор, где Дин Мориарти жил со своим отцом в тридцатые во время депрессии, и, как и прежде, я всюду искал грустного и легендарного жестянщика моего ума. Или вы отыщете кого-то схожего с вашим отцом в таких местах, как Монтана, или же вы ищете отца своего друга там, где его больше нет.
Одним сиреневым вечером я брёл по улицам, и каждая моя мышца болела, и это было среди огней на углу 27-й и Уэлтон в цветной части Денвера, и я хотел быть негром, ощущая, что даже в самом лучшем, что мне предложил белый мир, мне не хватает восторга, не хватает жизни, радости, кайфа, темноты, музыки, не хватает ночи. Я остановился у маленького киоска, где мужчина продавал острый красный перец чили в бумажных контейнерах; я купил немного и съел, прогуливаясь по тёмным таинственным улицам. Я хотел быть мексиканцем из Денвера или даже бедным трудягой-японцем, кем угодно, а не тоскливым разочарованным «белым человеком». Всю жизнь у меня были белые амбиции; вот почему я оставил такую славную женщину, как Терри, в долине Сан-Хоакин; я шёл мимо тёмных веранд мексиканских и негритянских домов; оттуда доносились мягкие голоса, иногда было видно сумеречное колено какой-то таинственной чувственной девочки; и тёмные лица мужчин в розовых беседках. Маленькие дети сидели, как мудрецы, в древних креслах-качалках. Мимо шла группа цветных женщин, и одна из молодок оторвалась от старших, годившихся ей в матери, и быстро подошла ко мне: «Привет, Джо!» – и вдруг увидела, что это не Джо, и побежала назад, краснея. Хотел бы я быть этим Джо. Но я был всего лишь самим собой, Салом Парадайзом, грустным, гуляющим в этом фиолетовом мраке, в этой невыносимо сладкой ночи, и мне так хотелось обменяться мирами со счастливыми, искренними, восторженными неграми Америки. Потёртые соседи напомнили мне про Дина и Мэрилу, они так хорошо знали эти улицы с детства. Как бы я хотел их найти.
Внизу на 23-и-Уэлтон играли в софтбол под прожекторами, освещавшими также топливные резервуары. Огромная толпа рёвом сопровождала каждую подачу. Странные молодые герои всех сортов, белые, цветные, мексиканцы, чистокровные индейцы были на поле, играя с разрывавшей сердце серьезностью. Этакие дети пустыря в спортивной форме. Никогда в своей жизни атлета я не допускал и мысли о том, чтобы выступать вот так перед семьями, подружками и соседскими детьми, ночью, при прожекторах; это всегда был колледж, на высшем уровне, с трезвым лицом; никакой мальчишеской, человеческой радости, как здесь. Теперь было слишком поздно. Рядом со мной сидел старый негр, похоже он каждый вечер смотрел игры. Рядом с ним был старый белый бомж; потом мексиканская семья, потом какие-то девочки, какие-то мальчики – всё человечество, тьма народу. О, печаль огней этой ночи! Юный питчер был похож на Дина. Симпатичная блондинка на трибуне была похожа на Мэрилу. Это была денверская ночь; я просто умирал.
Там в Денвере, там в Денвере
Я просто умирал
На той стороне улицы негритянские семьи сидели на своих верандах, разговаривали и глядели на звёздную ночь сквозь деревья и просто отдыхали в тишине и порой наблюдали за игрой. Машины проезжали по улице и останавливались на красный свет. Вокруг царило возбуждение, и воздух был наполнен вибрацией настоящей радостной жизни, которая ничего не знает о разочаровании и «белых печалях» и всём таком прочем. У старика-негра в кармане пиджака была банка пива, которую он стал открывать; и белый старик с завистью взглянул на банку и пощупал в кармане, чтобы узнать, сможет ли он купить себе тоже. Как я умирал! Я пошёл оттуда прочь.
Я пошёл на встречу с одной своей богатой знакомой девицей. Утром она вынула из своей заначки стодолларовую купюру и сказала: «Ты говорил о поездке во Фриско; вот возьми, езжай и хорошо проводи время». Так все мои проблемы были решены, и я взял в бюро путешествий машину за одиннадцать долларов на бензин до Фриско и помчался над землёй.
Эту машину вели два парня; они сказали, что были сутенёрами. Двое других парней вместе со мной были пассажирами. Мы плотно сидели, устремив свои умы к цели. Мы прошли через перевал Бертхауд, вниз на большое плато, Табернаш, Траблсом, Креммлинг; вниз с перевала Кроличьи Уши до Стимбот-Спрингс и на свёрток; пятьдесят миль пыльного объезда; затем Крейг и Великая Американская Пустыня. Когда мы пересекли границу Колорадо и Юты, я увидел Бога в небе в виде огромных золотых опалённых солнцем облаков над пустыней, он словно указывал на меня перстом и говорил: «Иди сюда и дальше, ты на пути к небесам». Ну и ладно, чёрт с ним, меня больше занимали старые гнилые крытые повозки и бильярдные столы, стоявшие в пустыне Невада рядом с киоском кока-колы, а ещё там были хижины с выцветшими плакатами, которые всё ещё трепыхались на призрачном пустынном ветру, сообщая: «Билл – Гремучая змея здесь жил» или «Энни – Рваная пасть здесь скрывалась годами». Да, вперёд! В Солт-Лейк-Сити сутенёры проверили своих девочек, и мы двинули дальше. Прежде чем я успел это понять, я снова увидел легендарный город Сан-Франциско в середине ночи. Я тут же побежал к Дину. Теперь у него был маленький домик. Я горел желанием узнать, что у него на уме и что теперь будет, ведь позади меня ничего больше не было, все мои мосты были сожжены, и мне всё было побоку. Я постучал в его дверь в два часа ночи.
2
Он подошёл к двери, совершенно голый, и он поступил бы так, даже если бы в дверь постучал сам президент. Он воспринимал мир во всей его наготе. «Сал!» – сказал он с неподдельным трепетом. – «Я не думал, что ты правда это сделаешь. А ты взял и приехал ко мне».
«Угу», – сказал я. – «Мои дела пошли прахом. А твои как?»
«Так себе, так себе. Но нам с тобой есть о чём поговорить. Сал, на-конец настало время поговорить и выяснить, что и как». Мы согласились, что это время настало, и вошли в дом. Мой приезд был словно явление странного зловещего ангела в дом под белоснежным руном, и наш бурный разговор с Дином внизу на кухне вызвал рыдания наверху. На всё, что я говорил Дину, ответом было дикое, приглушённое, дрожащее «Да!» Камилла знала, что будет дальше. Похоже, Дин несколько месяцев жил спокойно; теперь явился ангел, и он снова сходил с ума. «Что с ней?» – прошептал я.
Он сказал: «Ей становится всё хуже и хуже, чувак, она плачет и закатывает истерики, она не пускает меня к Слиму Гейлларду, она злится каждый раз, когда я поздно являюсь домой, а когда я остаюсь дома, она не разговаривает со мной и говорит, что я дикая тварь». Он побежал наверх, чтобы её успокоить. Я слышал, как Камилла кричит: «Ты лжец, ты лжец, ты лжец!» Я воспользовался возможностью осмотреть их замечательный дом. Это был двухэтажный шаткий деревянный коттедж среди жилых домов, прямо на макушке Русского холма с видом на залив; там было четыре комнаты, три наверху и огромная кухня внизу. Дверь кухни выходила на травяной двор, где были натянуты верёвки для белья. В задней части кухни была кладовка, в ней лежали старые туфли Дина, покрытые слоем техасской грязи толщиной в один дюйм с той ночи, когда Гудзон застрял на реке Брасос. Конечно, Гудзон исчез; Дин не смог сделать дальнейших выплат. Теперь он был без машины. Камилла была беременна вторым ребёнком; это произошло случайно. Было ужасно слышать, как она рыдает. Мы не выдержали, пошли за пивом и принесли его на кухню. Камилла наконец уснула или провела ночь, тупо уставившись в темноту. Я понятия не имел, что было не так – разве что Дин всё-таки довёл её до безумия.
После моего последнего отъезда из Фриско он снова тронулся умом из-за Мэрилу и месяцами кружил у её квартиры на Дивисадеро, где у неё каждую ночь был другой моряк, он подсматривал в прорезь почтового ящика и видел её кровать. Там он увидел, как Мэрилу валялась с мальчиком по утрам. Он преследовал её по городу. Он искал абсолютного доказательства, что она была шлюхой. Он любил её, он потел по ней. Наконец он достал немного плохой зелени, как её называют продавцы – зелёной, сырой марихуаны – совсем по ошибке, и слишком много её скурил.
«В первый день», – рассказывал он, – «я лежал неподвижно, как доска в постели, и не мог пошевелиться или сказать ни слова; я просто смотрел вверх над собой широко раскрытыми глазами. Я мог слышать гул в моей голове и видеть все виды удивительного цветного кино и чувствовал себя превосходно. На второй день всё пришло ко мне, ВСЁ, что я когда-либо делал, или знал, или читал, или слышал, или предполагал, оно пришло ко мне и перестроилось в моём уме совершенно новым логическим образом, и поскольку я не мог думать ни о чём другом, кроме внутренней заботы об удержании и принятии изумления и благодарности, я продолжал говорить: «Да, да, да, да». Негромко. «Да», правда тихо, и эти видения от зелёного чая продолжались до третьего дня. К тому времени я всё понял, моя жизнь была решена, я знал, что люблю Мэрилу, я знал, что должен найти моего отца, где бы он ни был, и спасти его, я знал, что ты мой приятель, etcetera, я знал, насколько Карло велик. Я знал тысячи вещей обо всех и повсюду. Затем на третий день начались ужасные серии бессонных кошмаров, они были настолько ужасными и скверными и зелёными, что я лежал там, обхватив колени руками, и говорил: «О, о, о, о, о…» Соседи услыхали меня и послали за доктором. Камилла с ребёнком была у родственников. Все соседи обеспокоились. Они вошли и нашли меня на кровати, с вытянутыми навсегда руками. Сал, я побежал к Мэрилу с этим чаем. И ты знаешь, что случилось с этой тупой тумбочкой? – те же видения, та же логика, то же окончательное решение обо всём, видение всех истин в одном болезненном коме, ведущее к ночным кошмарам и боли! Тогда я понял, что люблю её так сильно, что захотел её убить. Я побежал домой и бился головой об стену. Я побежал к Эду Данкелу, он вернулся во Фриско с Галатеей; я спросил у него о парне, у которого, как мы знали, был пистолет, я пошёл к нему, я взял пистолет, я побежал к Мэрилу, я заглянул через щель почтового ящика, она спала с парнем, пришлось отступить, он всё не мог решиться, я вернулся туда через час, я ворвался туда, она была одна – я вручил ей пистолет и велел меня пристрелить. Она держала его в руке, долго-долго. Я просил её о сладком смертном приговоре. Она не хотела. Я сказал, что один из нас должен умереть. Она сказала «нет». Я бился головой о стену. Чувак, я сошёл с ума. Она тебе расскажет, она отговорила меня от этого».
«И что было потом?»
«Это было несколько месяцев назад – сразу как ты уехал. Она наконец вышла замуж за продавца старых машин, тупой ублюдок обещал убить меня, если найдёт, так что мне придётся себя защищать и убить его, и я отправлюсь в Сан-Квентин, послушай, Сал, если я ещё раз так сорвусь, то отправлюсь в Сан-Квентин на всю свою жизнь – мне будет конец. Больная рука и всё прочее». Он показал мне свою руку. В волнении я не заметил, что он сделал со своей рукой что-то ужасное. «Я ударил Мэрилу в бровь, двадцать шестого февраля в шесть часов вечера – фактически в шесть десять, ведь я помню, что должен был сесть на товарняк через час двадцать – это был последний раз, когда мы встретились и последний раз, когда мы всё решили, а теперь послушай: мой большой палец отскочил от её виска, у неё даже не было синяка и она рассмеялась, но этот палец сломался у запястья, и жуткий доктор сделал сборку костей, это было трудно и потребовалось три отдельных приёма, двадцать три часа сидения в ожидании на жёстких скамьях etcetera, на последнем приёме мне вставили шпильку через кончик большого пальца, и в апреле, когда сняли гипс, шпилька заразила мне кость, начался остеомиелит, и он стал хроническим, и после плохой операции и месяца в гипсе мне в итоге ампутировали кончик этого пальца».
Он развернул бинты и показал его мне. Плоти под ногтём на полдюйма не было.
«Дела шли всё хуже и хуже. Мне надо было поддерживать Камиллу и Эми, и я должен был как бешенный работать вулканизатором в Файерстоуне на восстановлении шин, а потом грузить большие шины весом в пятьдесят фунтов с пола на верх машин – я мог работать только здоровой рукой, а больную держал в бинтах – снова сломал её, снова собрал, и она вся заразилась и снова испортилась. Так что теперь я забочусь о ребенке, пока Камилла работает. Видишь? Хиби-джиби, класс три-А, джазовый пёс Мориарти ходит с больной задницей, его жена ежедневно колет ему пенициллин для большого пальца, а на пенициллин у него аллергия в виде крапивницы. Ему надо принять шестьдесят тысяч единиц сока Флеминга в течение месяца. Ему надо принимать одну таблетку каждые четыре часа в течение этого месяца для борьбы с аллергией, вызванной этим соком. Ему надо принимать кодеин-аспирин, чтобы облегчить боль в большом пальце. Ему надо сделать операцию на ноге из-за воспалённой кисты. Ему надо встать в следующий понедельник в шесть утра на очистку зубов. Ему надо посещать врача-ортопеда два раза в неделю для лечения. Ему надо каждый вечер принимать сироп от кашля. Ему надо постоянно дуть и прочищать нос, который сломался прямо под переносицей, где его несколько лет назад ослабила операция. Он потерял большой палец на метающей руке. Величайший ходок на семьдесят ярдов в истории исправительной школы штата Нью-Мексико. И всё же – и всё же, я никогда не чувствовал себя лучше и прекрасней, и счастливей с миром, чем когда я вижу, как милые дети играют на солнце, и я так рад тебя видеть, мой славный, чудесный Сал, и я знаю, я знаю, что всё будет прекрасно. Ты увидишь её завтра, моя чудесная дорогая прекрасная дочь уже может стоять одна целых тридцать секунд, она весит двадцать два фунта, двадцать девять дюймов в длину. Я только что выяснил, что она на тридцать один с четвертью процент англичанка, на двадцать семь с половиной процентов ирландка, на двадцать пять процентов немка, на восемь и три четверти процента голландка, на семь с половиной процентов шотландка и на все сто процентов красавица». Он с любовью поздравил меня с книгой, которую я закончил, и она была принята в издательство. «Мы знаем жизнь, Сал, мы становимся старше, каждый из нас, понемногу, и многое узнаём. То, что ты рассказывал мне о своей жизни, я хорошо понимаю, я всегда понимал твои чувства, и теперь ты в самом деле готов встретиться с настоящей замечательной девушкой, если только сможешь её отыскать, взрастить и сделать так, чтобы она думала о твоей душе, как я старался с моими проклятыми женщинами. Дерьмо! дерьмо! дерьмо!» – выкрикивал он.
А утром Камилла вышвырнула нас обоих, вместе с вещами и прочим. Всё началось с того, что мы позвонили Рою Джонсону, старому денверскому Рою, и позвали его на пиво, а Дин в это время мыл посуду, присматривал за ребёнком и купал её на заднем дворе, но делал это не совсем аккуратно, из-за волнения. Джонсон обещал отвезти нас в Милл-Сити, чтобы найти Реми Бонкёра. Камилла пришла с работы в поликлинике и одарила нас всех печальным взглядом измотанной женщины. Я пытался показать этой женщине с её тараканами, что я не собираюсь встревать в её семейную жизнь, так что я сказал ей «привет» и разговаривал как можно теплее, но она знала, что это был такой трюк, и скорее всего, я ему научился от Дина, а потому лишь коротко улыбнулась. Утром произошла ужасная сцена: она лежала на кровати, рыдая, и посреди всего этого мне приспичило пойти в ванную, и единственный путь, которым я мог туда пройти, вёл через её комнату. «Дин, Дин», – воскликнул я, – «где тут ближайший бар?»
«Бар?» – сказал он, удивлённый; он мыл руки в кухонной раковине внизу. Он подумал, что я хочу напиться. Я объяснил ему свою дилемму, и он сказал: «Иди прямо туда, она так делает постоянно». Нет, я не мог так поступить. Я побежал искать бар; я обошёл все четыре квартала на Русском холме и не нашёл ничего, кроме уборщиков, прачечных, кафе-мороженых, салонов красоты. Я вернулся в их шаткий домик. Они кричали друг на друга, когда я проскользнул мимо со слабой улыбкой и заперся в ванной. Несколько мгновений спустя Камилла уже швыряла вещи Дина на пол в гостиной и велела ему убираться. К моему изумлению, я увидел над софой написанный маслом ростовой портрет Галатеи Данкел. Я внезапно понял, что все эти женщины проводят свои месяцы женского одиночества вместе, сплетничая о безумии мужчин. Я услышал маниакальное хихиканье Дина по всему дому вместе с воплями его ребёнка. Потом я увидел, что он скользит по дому, как Граучо Маркс, и его сломанный большой палец, обмотанный огромным бинтом, торчит вертикально, как недвижный маяк над безумием волн. Я вновь увидел его жалкий огромный потёртый чемодан с торчащими из него носками и грязным нижним бельём; он склонился над ним, бросая в него всё, что сумел найти. Затем он достал свой саквояж, самый драный саквояж в США. Он был сделан из бумажной клеёнки с рисунком под кожу, с приделанными петлями. Большой разрыв пробежал сверху вниз; Дин охватил его верёвкой. Затем он схватил свой брезентовый мешок и стал швырять вещи в него. Я взял свою сумку, набил её, и пока Камилла лежала в постели со своим «Лжец! Лжец! Лжец!», мы выскочили из дома и помчались вниз по улице к ближайшему канатному трамваю – скопище людей и чемоданов с огромным перевязанным большим пальцем, торчащим в воздухе.
Этот большой палец стал символом окончательного развития Дина. Он больше не заботился ни о чём (как и прежде), но теперь он также заботился обо всём в принципе; то есть ему было всё равно, он принадлежал миру и ничего не мог с этим поделать. Он остановил меня на середине улицы.
«Теперь, чувак, я знаю, что ты, скорее всего, весьма раздражён; ты только что добрался до города, и нас вышвырнули в первый же день, и ты задаёшься вопросом, чем я всё это заслужил и так далее – со всеми ужасными деталями – хи-хи-хи! – но взгляни на меня. Пожалуйста, Сал, взгляни на меня».
Я взглянул на него. На нём была футболка, драные штаны свисали на животе, рваные туфли; он не побрился, его волосы были дикими и густыми, налитые кровью глаза, и этот огромный перевязанный большой палец, который он должен был поддерживать в воздухе на уровне сердца, а на его лице была самая идиотская улыбка, которую я когда-либо видел. Он топтался по кругу и оглядывался по сторонам.
«Что видят мои глаза? Ах – синее небо. Лонг-фелло!» Он покачнулся и моргнул. Он потёр глаза. «Вместе с окнами – ты когда-нибудь врубался в окна? Давай теперь поговорим об окнах. Я видел несколько действительно безумных окон, они корчили мне рожи, и на некоторых висели занавески, и они подмигивали». Из своего мешка он вынул экземпляр Парижских тайн Эжена Сю и, одёрнув переднюю часть своей футболки, начал читать на углу улицы с педантичным видом. «Теперь и правда, Сал, давай врубаться во всё, что мы встретим на пути…» Он на мгновение забыл об этом и тупо огляделся по сторонам. Я был рад, что приехал, я был нужен ему сейчас.
«Почему Камилла вышвырнула тебя? Что ты собираешься делать?»
«А?» – сказал он. – «А? А?» Мы ломали мозги над тем, куда пойти и что делать. Это было превыше моих сил. Бедный, бедный Дин – сам дьявол никогда не падал ниже; в идиотизме, с заражённым пальцем, окружённый потёртыми чемоданами его не знавшей матери лихорадочной жизни через всю Америку и обратно бессчётное множество раз, раненая птица. «Давай отправимся в Нью-Йорк», – сказал он, – «чтобы подвести итоги всему по пути – да». Я вынул свои деньги и пересчитал их; я показал их ему.
«У меня есть», – сказал я, – «сумма в восемьдесят три доллара с мелочью, и если ты едешь со мной, давай поедем в Нью-Йорк – а потом в Италию».
«В Италию?» – сказал он. Его глаза загорелись. – «Италия, да, но как мы туда доберемся, дорогой Сал?»
Я обдумал это. «Я заработаю сколько-то денег, я получу тысячу долларов от издателей. Мы будем врубаться во всех безумных женщин в Риме, Париже, всех тех местах; мы будем сидеть в уличных кафе; мы будем жить в публичных домах. Отчего бы нам не поехать в Италию?»
«Отчего», – сказал Дин, а потом понял, что я говорю это серьёзно, и впервые посмотрел на меня боковым взглядом, потому что я никогда раньше не брал на себя обязательств в отношении его обременительного существования, и этот взгляд был взглядом человека, взвешивающего свои шансы в последний момент перед ставкой. В его глазах были триумф и наглость, дьявольский взгляд, и он не отводил своих глаз от моих долгое время. Я взглянул на него и покраснел.
Я сказал: «В чём дело?» Я ощутил себя несчастным, когда я это спросил. Он не ответил, но продолжал смотреть на меня таким же настороженным боковым взглядом.
Я пытался вспомнить всё, что он сделал в своей жизни, но там не было ничего, что могло бы вызвать сейчас его подозрение. Решительно и твердо я повторил то, что сказал: «Поедем со мной в Нью-Йорк; у меня есть деньги». Я взглянул на него; мои глаза слезились от смущения и слёз. Он продолжал смотреть на меня. Теперь его глаза стали пустыми и смотрели сквозь меня. Наверное, это был ключевой момент нашей дружбы, когда он понял, что я в самом деле провёл несколько часов, думая о нём и его проблемах, и он пытался соотнести это со своими чрезвычайно запутанными и мучительными умственными категориями. Что-то щёлкнуло в нас обоих. Во мне внезапно возникла забота о человеке, который был на несколько лет моложе меня, на пять лет, и судьба которого была связана с моей судьбой в последние годы; в нём происходило нечто такое, о чём я смогу узнать лишь по тому, что он сделает после. Он очень обрадовался и сказал, что всё замётано. «Отчего ты так смотрел?» – спросил его я. Ему было больно слышать, как я это спрашиваю. Он нахмурился. Дин редко хмурился. Мы оба ощущали неловкость и неуверенность. Мы стояли на вершине холма в прекрасный солнечный день в Сан-Франциско; наши тени падали на тротуар. Из жилого дома рядом с домом Камиллы вышли одиннадцать греков, мужчин и женщин, и они сразу же встали в ряд на солнечном асфальте, а ещё один отошёл на другую сторону улицы и улыбнулся им через камеру. Мы глазели на этих древних людей, а они справляли свадьбу одной из своих дочерей, может быть тысячную в непрерывной череде поколений и улыбок на солнце. Они были хорошо одетыми, и такими чужими. Всё было так, словно мы с Дином были на Кипре. Чайки пролетали в сверкающем воздухе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.