Текст книги "Похождения полковника Скрыбочкина"
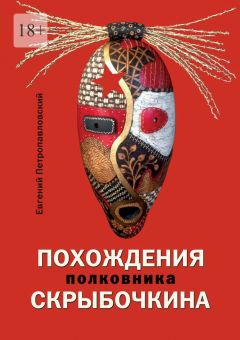
Автор книги: Евгений Петропавловский
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
На ловца бегущий зверь
В Екатеринодарском аэропорту его задержали.
Позже выяснилось, что таково было распоряжение желавшего избавиться от него полковника Мостыры, нынешнего начальника местного Управления безопасности, купленного наркомафией. Но в текущий момент полковник Скрыбочкин ничего не знал, а лишь догадывался: происходит что-то скверное. И после скоротечного рукопашного единоборства, стоя в наручниках и набедренной повязке перед незнакомым майором скудосочного телосложения, он ощущал, как его мозги едва не вскипают от негодования.
– Ты ответишь! – угрожал Скрыбочкин тяжеловесным отрывистым голосом. – Я сполнял свой долг взарубежом – дак што ж за это, сразу по морде? Нет, я тебе не какая-нибудь фуражка без кокарды! Запомни: нихто ещё безнаказуемо не дотрагивался до полковника Скрыбочкина! И тебе аукнется сторицею! Поймёшь, с кем имеешь дело, да будет поздно! Пожалеешь и обольёшься прокислыми слезами!
– Брось, не гони пургу, – скосоротился майор, дыша перегаром и пытаясь выковырять оставлявшей желать лучшего обкусанной спичкой неудобоваримую мясную жилу, застрявшую у него между зубов со вчерашнего ужина. – Полковник Скрыбочкин погиб, об этом писали в газетах. Так что можешь назваться хоть Наполеоном Бонапартовским, а хоть и президентом Соединённых Штатов Аргентины, всё равно на идиота не прокосишь. Раз упаковали тебя за терроризм и контрабанду наркотиков – значит, будешь отвечать по закону за свои художества.
– Да мне просто нелепо и мерзостно слушать твою инсинуацию! – не унимался задержанный. – Даже глядеть на тебя нелепо после таких слов! Настолько нелепо и мерзостно, што аж кровянка в руках-ногах учащается и гвоздит в висках! Нет, ну ты сначала вникни и во всём разберись, скрепка канцелярская, прежде чем невозможные обвинения передо мной выкладувать!
– Разберёмся-разберёмся, не беспокойся, мы тут не зряшными единицами числимся в штатном расписании. Работаем, гражданин, и в поте лица свой хлеб проедаем. Так что не советую орать. А тем более обзываться скрепкой канцелярской при исполнении государственной обязанности! Не то как бы тебе раньше всех о своей голословности не случилось пожалеть и раскаяться.
Майор проговорил это таким тоном, будто за его словами стояло нечто более значительное. Хотя на самом деле, конечно, не стояло ничего, кроме тягучей полупрозрачной скуки да протокольной усталости, присущих работникам всех силовых ведомств. Поставив локти на стол, он сплёл пальцы, упёрся в них подбородком и уставился на Скрыбочкина прищуренным взглядом. А тот ещё долго продолжал исходить криком, вспоминая права человека и своё неординарное место в иерархии внутренних органов. Но затем исчерпал членораздельные угрозы и утомился горлом. Тогда он решил принять кратковременную видимость внешнего спокойствия. И после этого его наконец отвели в одиночную камеру.
Сказать, что Скрыбочкин чувствовал себя не лучшим образом – это слишком бледно. У него перед глазами всё плыло от возмущения и обиды. Разумеется, он не ждал, что после его прибытия в родной город люди вывалят на улицы и будут стоять возбуждёнными толпами, с распахнутыми ртами и слезами радости на глазах, оттого что настал светлый день, когда мутное положение вещей в законном правопорядке переменилось, и в Екатеринодар воротился долгожданный полковник Скрыбочкин. Однако непредвиденная загогулина текущего момента оказалась гораздо загибистее, чем могло безболезненно выдержать его нервное устройство. Даже если б злоумышленные люди сожгли имя Скрыбочкина над огнём чёрной свечи, ему и то вряд ли стало бы хуже. В некоторые минуты полковнику вообще казалось, что в него ненароком вставили чужую душу, и теперь ей невесть какими высшими сферами предписано обретаться рядом с его собственной душой – бок о бок, в постоянном катастрофическом раздрае и в обоюдной борьбе за выживание.
От такого и камень дрогнул бы, усомнившись в собственной вменяемости.
А Скрыбочкин хоть и не представлял себя крепче камня, однако понял, что лёгкой дороги на волю для него не существует, по крайней мере, из данной точки времени. Значит, и терять ему пока было нечего. Следовало сосредоточиться и промыслить создавшуюся ситуацию, дабы найти из неё какой-нибудь выход.
***
Минут десять узник с возвратно-поступательной монотонностью расхаживал между вынужденных стен. Сосал тишину натянутой до предела грудной клеткой и разыскивал внутри себя незаметные входы и выходы для успокоительных мыслей. Однако ничего мало-мальски удовлетворительного найти не сумел. Нет, к тому, что человек – не более чем игрушка в судьбостремительном потоке неоглядных правд и неправд, к этому полковник Скрыбочкин давно привык. Равно как и к тому, что жизнь – штука странная, богатая на непредсказуемые, подчас совершенно умопомрачительные закорюки и покляпости. Но не до такой же степени, всему должен существовать здравомыслимый предел!
Состояние приятия новой действительности, а также её понимание казались Скрыбочкину недостижимыми даже в сослагательном наклонении. Тогда он постучал коленом в железную дверь и сказал проявившемуся в прямоугольной «кормушке» пухлощёкому сержанту:
– Чуешь, земеля, я голодовку покамест не санкционировал. Хватит страдать дурью, принеси-ка чего-нибудь пожрать. Оно ить не здря в народе говорят, што лучше помереть со скуки, чем с голодухи.
Надзиратель от такой наглости задохнулся, будто к его пяткам прижали раскалённое железо. Но быстро опомнился и остервенело закрутил багровыми ноздрями:
– Вот щас кликну хлопцев с охраны – отмолотим тебя как сидорову козлину. После того сразу образумишься как миленький и забудешь вспоминать о жратве!
И захлопнул «кормушку».
Скрыбочкин не стал спорить. Лишь кособоко крутанулись желваки на его лице, выдубленном солью времени. А потом по скудному пространству камеры зазвучали шаги босых ног задержанного: вперёд-назад, вперёд-назад, вперёд-назад…
Однако пускаться по течению случая и терять волю к дальнейшим действиям Скрыбочкин не собирался. Через несколько минут он вновь постучал в дверь – на этот раз не пяткой, а кулаками обеих рук попеременно, будто отрабатывал удары для борьбы с невидимыми врагами отечества. И – едва откинулась крышка «кормушки», плюнул через неё накопленную загодя слюну.
– А-а-а-а-а! – заорал прежний сержант, потемнев мокрым лицом, как человек, до полусмерти обкормленный корицей или ещё чем-нибудь похуже. – За что-о-о?! Мужики, идите сюда, здесь один беспредельщик мне в морду через «телевизор» харкнул!
Долго ждать не пришлось. Миновало несколько мгновений – и четверо блюстителей ворвались в камеру позади оплёванного сержанта.
Скрыбочкин терпеть не мог грубой несправедливости, но из-за лёгкого сердца на время позабыл об этом. А теперь вспомнил на беду своим обидчикам. Которых принялся избивать с радостным лицом природного нестрашливца и любителя изощрённых единоборств. Его старания длились минуты две-три, до тех пор, пока противники не поняли, что жизнь дороже оскорблённых погон, и ретировались, с трудом заперев дверь перед старавшимся выдавиться на волю заключённым.
После их позорного отступления в камере стало пусто и незаконченно со всех сторон, какие только можно представить человеческими органами понимания.
Полковник Скрыбочкин немного посидел на полу, давая просохнуть поту у себя на лбу и спине. Потом задумчиво покашлял и огляделся по сторонам, словно только что оказался в этом тесном узилище. Вокруг не было ничего, только несвежая параша, деревянные нары да забранная решёткой слабосильная лампочка в небольшой нише над дверью. Сквозь затянутое густой сеткой узкомерное окно, расположенное под потолком, струился холодный сырой воздух. Однако Скрыбочкин не обратил внимания на эти малые неудобства внешнего мира, поскольку ему вполне хватало гораздо более насущных неудобств внутри собственного сознания. С юных ногтей он привык относить себя к людям, которые стремятся надёжно держать в руках любые движения судьбы; но сейчас что-то неисповедимо разладилось и вышло из-под контроля. Оттого разочарование росло, и недовольство Скрыбочкина собой переливалось через край доступного разумению. В какую сторону грядущего теперь смотреть? Насколько далеко проницать его чуткими умственными колебаниями? И под каким углом к несуразности своей текущей несвободы? Эти вопросы возвышались перед полковником с безобразной актуальностью и отбрасывали жирные тени на всё остальное.
Впрочем, ему потребовалось не более нескольких минут, чтобы сложить в голове новую схему действий. А сложив её, Скрыбочкин, уже не медлил ни секунды: взобравшись на парашу, он подпрыгнул наискось и схватился за решётку, ограждавшую лампочку. После чего отпустил ноги, оставшись висеть на руках, точно примат. Его босые ступни теперь раскачивались как раз на уровне дверной «кормушки». Куда он и направил свой голос:
– Прощайте, люди добрые! Не для того меня родная матерь произвела на свет, штобы я маялся в местах заключения и тощал от непосильной диеты! Да здравствует общенародная демократия в полный рост! Погибаю, но не сдаюся клевретам и душителям свободомысленности! Не поминайте чёрным словом, штоб вам всем было пусто!
Вскоре «кормушка» открылась. Секунду внутренний сержант взирал на серые от недостаточной гигиены полковничьи ноги. Затем хлопнул себя ладонями по ляжкам и воскликнул:
– Гля, повесился, сукин потрох! Тьфу же ж ты, какая незадача, обратно начальство вздрючит… Эй, братва, приглядите кто-нибудь за моими камерами! Я – к Случкусу: у меня тут один овощ дуба врезал!
…Когда в камеру раздражённым шагом ворвался толстообразный начальник тюрьмы полковник Случкус в сопровождении молодой женщины врачебного вида и державшегося за скулу сержанта, Скрыбочкин задумчиво справлял нужду на казённой параше.
– Ну? – зловеще встопорщил брови Случкус, дожёвывая правой стороной рта остаток бутерброда с варёной колбасой. – Где повешенный?
– Вот он, – растерянно затряс лицом сержант в сторону погружённого в естественную надобность Скрыбочкина.
– Эй, придурок, – позвала заключённого медицинская работница. – Может, этот дурошлёп перепутал камеры? Ты сейчас вешался?
– Было б на чём, – развёл руками Скрыбочкин, зыркнув на неё исподлобья. И незамедлительно перешёл в наступление:
– Когда жрать дадите?
– Так, – начальник тюрьмы завершил пищеупотребительные эволюции и повернулся к пухлощёкому сержанту:
– Значит, ты, Шконкин, мать твою, будешь меня…
Что он хотел сказать, никто до конца не понял. Потому что из-за нервной слабости Случкус пренебрёг словесным продолжением и ударил сержанта в челюсть. Тот, лязгнув зубами, вылетел в коридор с видом беспочвенного предмета, готового разнести в щепки всё, что встретит на пути.
– Вот это правильно, одобряю, – подобрел глазами Скрыбочкин. – Ежли каждый незначительный челувек станет распускать ужасы и сказки на рабочем месте, во што тогда служба превратится? В бардак бездоказательный, страшно представить! Не-е-е, так нельзя. Я считаю: раз ты надел на плечи погоны, то должон закрыть на твёрдый замок все свои хфантазии, штобы стать по-настоящему беспристрастным блюстителем буквы законности и правовой порядошности.
После этих слов он попытался весомо рассмеяться, однако от застойного тюремного воздуха его смех, надломившись, перешёл в кашель.
Впрочем, рассерженный полковник Случкус даже не повёл ухом в сторону Скрыбочкина, а только размашисто утёр лоб носовым платком. И вслед за надзирателем Шконкиным покинул камеру в сопровождении своей врачебной принадлежности.
***
Ещё несколько часов Скрыбочкин жил будто на погосте, без питательного рациона, перерабатывая внутри себя один спёртый воздух. Никогда прежде он не чувствовал одиночества с такой остротой, как теперь, и с этим трудно было освоиться.
Разделив своё сознание на части, Скрыбочкин думал сразу о многом. Но не находил ни одной утешительной зацепки, ухватившись за которую, можно было бы попытаться выбраться навстречу свету и чистоте вольного мира, подобно тому как барон Мюнхгаузен вытащил себя за волосы из болота.
Самым лучшим сейчас казалось лечь спать и смотреть сны, дабы скорее двигалось время до нового поворота в положительную сторону. В детстве Скрыбочкин вообще мечтал научиться видеть чужие сновидения – хорошо, если б не только людей, но и зверей, и птиц, и рыб, и цветов, и деревьев. Но потом, когда вырос, он убедился: в жизни бывает столько всего, что никаких снов не надо. После этого Скрыбочкин стал понимать своё расплывчатое существование как нескончаемую цепь соприкосновений с посторонними снами, чаще плохими, но иногда хорошими, а подчас неправдоподобными и малопонятными. По случаю в них можно было наблюдать диковинных людей с удивительными способностями и разнопрочих существ, не изученных современной наукой – смешных, дурацких, но по-сказочному возбуждающих, как в далёком ребячестве. Тем не менее, приятнее всего было просматривать собственные сновидения – такие, от которых не требовалось, чтоб они сбывались. Правда, в описываемый момент Скрыбочкину спать не хотелось. Вопреки нежеланию он попытался-таки уснуть в сидячем положении, но это у него не получилось. Оттого время тянулось резиново, а настроение не поднималось выше самой муторной планки.
Порой Скрыбочкину казалось, что неистребимый враг предположительного характера, изловчившись, украл у него и вывалял в грязи, истоптал, испоганил самые святые чувства, слабознакомые и совершенно непонятные ему самому, однако всегда считавшиеся неприкосновенными… Как осуществить внутреннюю ревизию и восстановить потерю? Сколько ещё ждать и маяться ради дальнейшей ясности и полнокровной мести всем подряд? В конце концов, почему его нескончаемо преследуют незаслуженные безобразия и пакостные гримасы жизни? Этого Скрыбочкин не ведал. И спросить было не у кого.
Он попробовал скоротать одиночество, беседуя с самим собой.
– Отчего всё так хреново? – искажёнными от огорчения губами спрашивал Скрыбочкин своё воображаемое отражение в пространстве.
И отвечал:
– Кабы я знал об том – дак, наверное ж, спроворился бы перенаправиться в лучшую сторону. Но откуда узнать-то, откуда?
– Отвечать вопросом на вопрос, да ещё самому себе – это разве нормально?
– Ничего нормального, конешно. Всё равно што пить водку чужим горлом: навродеб-то совершаешь действия, суетишься организмом для выработки слюны, а удовольствия – полный ноль… Так ведь оно – какая жисть, такие и ответы на вопросы.
– Отделаться общею фразой и я бы мог, но от того никакой сути не прояснишь. Не говори ни об чём быстрее возможного, а лучше сначала подумай как следует и разложи всё по полочкам среди умственных изгибин – может, тогда удастся мало-мальски приблизиться к здравосмысленному осознанию каких-никаких соображений.
– Неправильно говоришь, невозможно объясняться о необъяснимом. В такой ситуации надеяться на осознание – это всё равно што искать беглую личность в неизвестном городе, без имени и адреса.
– Да обо всём возможно объясняться и надеяться! В конце концов, челувек ты или симулякр недоделанный, што нормального языка понимать не желаешь?
– А на себя погляди в зеркало – тогда, может, и прояснишься среди этого вопроса.
– Если бы тут ещё имелось зеркало, то я хучь в каком-нито чувстве юмора тебе не отказал. Но ить нет никакого зеркала. Однако ж и без него сразу видно, што ты народился на свет в дождливый день.
– Почему?
– Потому што мозговое вещество у тебя жидковатое, дюже разбавленное водой пополам с другими атмосферными выхлопами…
И далее в подобном роде.
Такая малоувлекательная беседа закономерным образом скоро наскучила Скрыбочкину. И он, частично утратив логическую связь между образными оборотами речи, стал просто выкрикивать громкие слова, ощущая их чрезмерную пересоленность, какая бывает у залежалой вяленой рыбы. Волей-неволей эти слова порождали ностальгические воспоминания с параллельной мыслью о том, что их – как, впрочем, и многое другое – лучше всего запивать холодным пивом свежего разлива, а то и ядрёным русским «ершом».
Увы, полнота удовольствий, вынырнувших из памяти по закону предательских ассоциаций, равно как и первоначальная незатейливая правда жизни в виде прохладительных напитков были недоступны. Это не могло не удручать пуще прежнего.
Наконец, утомившись шумным бездействием, Скрыбочкин умолк и решил заняться чем-нибудь полезным. Тогда, недолго думая, он изъял оконную решётку вместе с частью стены и постучал ею в дверь.
Не прошло и половины минуты, как крышка «кормушки» отворилась. Однако теперь наученный горьким опытом Шконкин держал свою лицевую часть на безопасном отдалении:
– Чего тебе, падаль обречённая?
– Да хучь бы чайку похлебать.
– Кровью упьёсся. Зубами своими будешь играть в худбол, паря.
– Ладно, крохобор, – согласился Скрыбочкин. – Пожирай, если можешь, мою баланду заместо дополнительного пайка. Но упреждаю: я на неё навёл порчу. Даже не сомневайся, саркастический челувек: издохнешь, как побитая собака, раз хочешь обделять пищей эхстрацэнсов.
Неожиданная информация удивила надзирателя до такой степени, что он невольно разинул рот. Но через две секунды, возвратив себя в прежний суровый образ, воскликнул:
– Это ты-то – эхстрацэнс? Врёшь, скотина бессовестный! От таких, как ты, слова правды дожидаться – всё равно что себя не уважать чёрным неуважением.
– Ха, – радостно перекособочив лицо, Скрыбочкин принялся сплетать и расплетать пальцы на животе. – Да я нутром чую отрицательный перехлюст и неудобоприятность в любом организме! И всякую хворобу сымаю голыми руками. За один сеанс! А не то – порчу и сглаз обеспечиваю ещё быстрее. Веришь, нет?
– Не верю, конечно!
– А здря. Ить я излагаю подноготную во всей прозрачности, хочешь верь, а хочешь не верь. И говорю это без риторических фигурностей заради жеста доброй воли перед твоим злокачественным недопониманием. Если круглее сказать, то предлагаю услугу из одного голого сострадания.
– Та ну тебя к чёртовой матери, совсем голову мне задурил! А поглядеть на тебя непереубеждённым глазом, так ничего порядочного ты из себя не представляешь, пшик на постном масле! Балабольная морда и язык без костей!
С этими словами Шконкин захлопнул «кормушку». И зашагал прочь по гулкому коридору, шевеля пальцами так, словно с безустанной тщетностью проворачивал ключ в замочной скважине, за коей таилась инакомыслимая боковая реальность с отгадками всех искривлений прошлого и будущего. На душе у надзирателя скребли кошки в мучительном темпе, точно желая уничтожить его изнутри, а затем, проковыряв дырку в теле Шконкина, выбраться наружу и сожрать всё живое окрест ради удовлетворения своих плотоядных инстинктов.
***
Миновало несколько минут. Которые Шконкин провёл в отчаянной борьбе с самим собой. Он не мог отделаться от ощущения своей затянутости в медленную трясину чужесердого коварства, без свободы манёвра и сколько-нибудь внятной перспективы. Разрываясь между желаемым и действительным, надзиратель понимал, что самым правильным было бы прислушаться к голосу осторожности. И он добросовестно напрягался, прислушиваясь. Однако осторожность молчала, отказывая Шконкину в своём руководстве… Тогда он, отбросив колебания, воротился к месту содержания Скрыбочкина. И с порывистым железным лязгом отворил камеру:
– Слышь, а ты не соврал?
При звуках этих слов его лицо прорезала кривоугольная улыбка, свидетельствовавшая то ли о неуверенности в ожидаемом ответе, то ли, наоборот, в злой решимости не отступать от необходимого и достаточного ни в какую сторону.
– Про што я тебе не соврал? – переспросил Скрыбочкин, нарочито растягивая слова, точно собирался уснуть и был недоволен помехой. – Давай, говори конкретно: чем интересуешься?
– Конкретно интересуюсь целительством, про которое ты говорил, будто бы им владеешь.
– Тоже мне, нашёл вопрос. Или думаешь, перед тобою челувек, который любит переливаться из пустого в порожнее? Нет, друже, не на таковского напал. Уж ежли што мною сказано – дак оно завсегда кристальная правда, иначе и быть не может. Между прочим, я не одним целительством, а ещё столькими вещами владею, што об некоторых успел уже и память потерять. Взять, к примеру, пистолет или автомат: ими я владею даже с закрытыми глазами, безо всякой памяти. А то могу и с танком управляться – на уровне пользователя, конешно…
– При чём здесь танк и пистолеты с автоматами, ерунду не городи. Говори по всей правде: ты по этой самой… ну… по области геморройных дел, случаем, не целительствуешь?
– Геморройные дела мне не дюже интересные.
– Не понимаю, – сержант нервно провёл указательным пальцем под воротником кителя. – Почему это геморройные дела тебе не дюже интересные?
– А потому што слишком простые заболевания. Не вижу смысла брать их в соображение и растрачиваться на ерунду, скушноватую для широкого специалиста.
– Да если б у тебя так жопа болела, – обиделся Шконкин, – посмотрел бы я, как ты сказал бы, что геморрой – это скушноватая ерунда!
– Дак без особенного ж утруждения вылечивается, оттого я и сказал по всей правде. А чего там: руки наложил – тепло пошло. Руки отнял – энергия освободилась от избытка всякой херомантии и утекла в космос. Хотя, конешно, это не каждый эхстрацэнс спроворится. Это тоже уметь надобно.
– Вот ты и давай его, этот геморрой проклятый – в космос, а? Могёшь? А?
Скрыбочкин весь перетёк в улыбку, оставив только глаза и рот для общения с собеседником:
– Приблизительно за две минуты могу. Если постараюсь – как говорится, не за страх, не за совесть, не за какое там ещё што-нибудь, а просто одним голым прикасанием с правильной стороны. Почувствуешь себя новой личностью, как с иголочки.
– И замечательно! – обрадовался надзиратель Шконкин, и его глаза сделались похожими на тухлые перепелиные яйца. – И постарайся от души! А я тебе вечерком баландочки тёпленькой поднесу, двойную порцию. Могу даже водяры… А лечиться давай прямо сейчас.
– А чего откладывать, – одобрил Скрыбочкин лёгким голосом. – Вполне можно и прямо сейчас, ежли горишь желанием. У меня как раз богатая энергия накопилась под ногтями. Сымай штаны.
– Зачем штаны?
– Затем, што я ж не голову буду тебе от геморроя исцелять. Потому предъявляй свою заднепроходную харизму во всей красе. Не дрейфь, скидывай галихфе и вставай раком, штобы проще было на твои унутренности рукоположиться.
Слова имеют большую силу, если их говорит подходящий к этим словам человек. Ощутив это, Шконкин жалобно хихикнул и принялся спускать форменные брюки. От мучительных сомнений и естественной мужской стыдливости его пальцы дрожали, а зубы выстукивали дробь с такой неукротимостью, что он прикусил язык.
– Ну? Долго будем тянуть вола за хвост? – властно поторопил Скрыбочкин. – Этак-то у меня скоро половина биополя уйдёт на воздух среди пустого ожидания. Нет, друже, я подобное расточительство приветствовать не могу, у меня привычное состояние, когда я вижу, што люди чувствуют всё в себе и себя во всём, понял? Ну, ежли и недопонял, не беда, потом допоймёшь, а сейчас давай, не верти гузном, как девка кокетная, а заголяйся по-военному, скорым темпом, и почнём с богом!
Чертыхаясь и сплёвывая кровь пополам со слюной, надзиратель беспрекословно подчинился: его галифе обвисли на коленях до самого пола, и он принял наклонную позицию. Сверхсрочный зад тюремного работника красноречиво свидетельствовал о питании ворованными у заключённых передачами.
Скрыбочкин сторожко скосил взгляд на слабо прикрытую дверь и усмехнулся. Затем сосредоточенно спрямил брови и от души влупил босой пяткой по ягодицам Шконкина. Надзиратель врезался головой в стену. Мир в его мозгу мгновенно подёрнулся густой молочной плевой, и он с закатившимися глазами тяжело сполз на плинтус.
Однако полковник Скрыбочкин этого уже не видел. Он летел по коридору, отмыкая все подряд камеры надзирательскими ключами и выкрикивая:
– Братцы! Увсех завтра в Чернобыль отправляют! Штоб саркохфаг из Украины изымать и транспортирувать в Россию силами заключённых! В обмен на газ! Отакое лихо на наши головы! Спасайтеся, пока не облучённые!
Шконкин очнулся, и ему захотелось, чтобы всё происходящее оказалось дурным сном. В спутавшейся нижней одежде надзиратель постарался исчезнуть. Однако его опознали незамедлительно появившиеся из камер заключённые. Хотя не били, а лишь скрутили члены полотенцами и с надетой на голову табуреткой повели заложником по коридору.
***
Бунт разбухал и ширился, приобретая всё более угрожающие очертания и разбрасывая свои нетерпеливые щупальца по гулким коридорам изолятора временного содержания. Сторонний наблюдатель, наверное, мог бы сравнить его с чудовищем, до поры скрывавшимся в мутной воде, но наскучившим самому себе среди тихого журчания струй и решившим наконец вынырнуть из придонного ила для кровавых развлечений и других противозаконных несуразностей на широком берегу времени. Недавние заключённые быстро овладели ситуацией, рукопашным способом сломив боязливое сопротивление тюремного персонала. Который незамедлительно оказался взятым в заложники. На свободе остался только полковник Случкус: по чистой случайности запершись в служебном клозете немного вздремнуть, он теперь находился в полном сознании, но его не могли выкурить даже обещанием, что бросят гранату. В мёртвом молчании полковник сидел на корточках, согнувшись под тяжестью внезапно свалившегося на него багажа неопределённости и прислонившись плечом к двери отхожего места, готовый провалиться сквозь покрытый грязным кафелем бетонный пол, лишь бы покончить с этим кошмаром.
Случкус ощущал себя слишком незначительным – как в прямом, так и в переносном смысле – для того, чтобы заполнить собой не только пустоту мира, но и сколько-нибудь заметное место в отхожем объёме своего сиюмоментного убежища. А всё же чудес на свете не бывает, и подеваться из угрожающего положения он никуда не мог. Лицо полковника, жёлтое, словно старая газетная бумага, выражало безуспешную попытку бодриться и выглядеть не хуже обыкновенного. Однако растерянность и бессилие быстро уносили из его памяти веру в завтрашний горизонт, подобно тому как настойчивые порывы осеннего ветра уносят всё дальше от родного дерева охапки сухих листьев.
В тёмной гуще рассудка Случкуса по-муравьиному копошились обрывки разных нелепиц и неразборчивых вопросов, среди которых жирным пятном выделялся один, застарелый, но обновлённый вынужденной ситуацией и потому до крайности болезненный: «Почему жестокость в людях всегда одерживает верх над законопослушностью и человеколюбием?». Впрочем, ответа на этот вопрос полковник даже не пытался предполагать. С упрямо закрытыми глазами он курил сигарету за сигаретой, втягивая в себя дым с такой силой, что его щёки плотно приплющивались к зубам – оттого Случкус мог бы показаться похожим на воротившегося из-под земли покойника, если б кто-нибудь исхитрился увидеть его в описываемое время. Непредсказуемая изнанка прежнего благопорядка поджидала его, многоруко притягивала и нашёптывала отречение от всего, что он ценил и любил до последнего дня своей совести.
Чего он мог ждать позитивного от дальнейшего развития событий? Абсолютно ничего.
Он и не ждал, трезво глядя правде в нутро. Лишь курил и курил, весь покрытый потом, густым и холодным вопреки удовлетворительной температуре в помещении.
Ему кричали через дверь:
– Случкус, падла, выходи!
– Оглянись и возьми в соображение, среди какого дерьма ты надеешься отсидеться! Долго всё равно не продержишься!
– Слезай с параши, не тяни волынку!
– Ща мы поглядим, как ты у нас обеими ногами встанешь на путь исправления!
– Чего молчишь, падла? Отзовись хотя б одним словом, падла! Чтоб мы знали, падла, что ты там не подох от страха!
– Выходи, кому говорят!
– Отворяйся по-хорошему, недоразумение рода человеческого, мы тебя тута ждём не дождёмся! А не то будет ещё хуже, чем ты даже думать себе представляешь!
Полковник не отзывался, пропуская мимо ушей любые слова. Которые, по круглому счёту, не имели для него никакого значения, сколько бы ни меняли их местами распалённые азартом бунтовщики.
Один раз к нему подступился Скрыбочкин. Он попытался выманить Случкуса хитростью, обратившись к нему сквозь дверь клозета с такими выражениями:
– Не дури, полковник, ты ж умный, насколько я догадуюсь, потому должон соображать, в какую нелицеприятность угораздился впопасть. Зачем тебе эта беспрестанная война нервов? Споглянь в собственную будущность и представь, што тебя там ждёт без нашей соучастности! Или ты предполагаешь выжить вообще без правильного взгляду вперёд? Без какого-нито было, хучь самого завалящего стратегического замысла? Тогда окстись, покамест не поздно. Ить на одной пугливой чуйке, на близкоглядном тактическом догадайстве далеко не уедешь. Обмысли это, приложа руку до сердечной мышцы, а потом ответь мне по всей правде: што дальше думаешь делать и как существовать за пределом выживания. Можешь мне ответить? А? Не можешь? То-то и оно: не мо-о-ожешь! Потому што ничего не знаешь! А я знаю и абсолютно верно тебе заявляю: выходи до нас из своей срамной схимы, не бойся. Мы тебя трогать не собираемся. Наоборот, гарантируем полную неприкосновенную безопасность. Без надругательств и других воздействий в пенитенциарном приложении. Ну, объяснимое дело, перенервничал ты, сполучил стресс из-за неожиданности, это я очень замечательно понимаю. Ты же не знал ничего об чистоте наших намерений. Но теперь знаешь! Выходи, не опасайся почём зря. Останешься здеся формальным начальником над всеми нами! Настало такое время, когда каждый порядошный челувек наперечёт. Во што больше верить, ежли не в порядошных людей, друже? Не во што больше верить, всё остальное – обман и предательство. Выходи, и вместе обмозгуем, как дальше быть в нашей ситуации!
Но Случкус ничего не выразил в ответ на увещевания Скрыбочкина. Он отродясь не был легковером, оттого никогда в жизни ни на что не поддавался: ни на какие уговоры и посулы, не говоря уже об угрозах и прочих предосторожных острастках. И теперь полковник Случкус, не изменяя себе, немым призраком оставался на месте без удовлетворительного результата для Скрыбочкина и сопутствовавших ему заключённых, и лишь продолжал сосредоточенно затягиваться горьким дымом.
Свергнутый начальник тюрьмы чувствовал себя подобным продрогшей перчатке, из коей беззастенчиво выдернули наполнявшую её теплом человеческую руку. И с ужасом представлял недалёкую минуту, когда сойдёт на нет последняя сигарета, и настанет пора прощаться не только с привычными полковничьими погонами, но и со всем белым светом, который останется существовать вполне ровно и беззастенчиво без его, Случкуса, участия. Собственные руки казались ему бессильными крыльями, обглоданными то ли неведомой болезнью, то ли наглыми паразитами давно забытой породы. С каждой минутой всё труднее становилось ему сосуществовать со своими воспоминаниями о будущем. Эта затяжная чёрная трудность была самой несносной пыткой, какую Случкус только понимал себе представить. И избавиться от неё полковник не видел вменяемой возможности.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































