Текст книги "Похождения полковника Скрыбочкина"
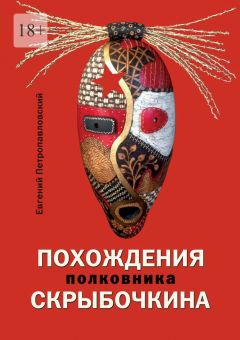
Автор книги: Евгений Петропавловский
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 39 страниц)
Порнуха, смех и слёзы
Это произошло первого мая, в давно считающийся недействительным день солидарности трудящихся.
Посреди нечаянного совокупления с работником екатеринодарского мясокомбината Фёдором Святославовичем Челнищевым скоропостижно скончалась Хафиза Абдулгафаровна Образяева, старший продавец посудохозяйственного магазина. Её скромная душа тихо, подобно первомайскому воздушному шарику, устремилась ввысь, пользуясь удачным моментом, когда о ней никто не думал. Отошла Хафиза Абдулгафаровна почти трезвая, без скандала, дай бог каждому. Обнаружив произошедшее несчастье, Челнищев вскочил с партнёрши и принялся нагишом бегать по комнатам, стирая отпечатки пальцев и бесконтрольно роняя избыток расползавшихся по половым щелям сперматозоидов.
С наступлением темноты он забрал последнюю оставшуюся недопитой бутылку вина «Анапа», осторожно выбрался наружу и, подпалив для верности хату, растворился в окружающей вселенной.
К этому моменту зрение Челнищева воспринимало немногое. Впрочем, многого ему и не требовалось, ибо Фёдор уже отчасти потерял собственное лицо. С которого не сходили мутная улыбка и блуждающая подозрительность.
…Дома Челнищеву открыла дверь его жена Антонина. Которую он чуть не сбил с ног, пытаясь обойти по безопасной кривой, и упал, проломив углом затылочной кости двухкамерный морозильный аппарат с запасом дачных витаминов.
– Что с тобой, Федюша? – испуганно всколыхнулась лицом Антонина. – Где ты отсутствовал? И почему так рано заявился с работы?
Но супруг даже не попытался подобрать достаточный ответ, обрывая зубами ковровую дорожку на полу. Антонина хотела удариться в скандал, однако Челнищев, привстав на локтях, начал смотреть на неё, и момент был упущен.
– Фёдор! – строго произнесла она, решив переменить тактику. – Какая муха тебя укусила?
– А? – стеклянным голосом поинтересовался он, одним краем сознания изготовившись к семейным несообразностям, а другим ощущая гнетущую густоту окружающего пространства. Разные диспропорции рисовались в его мозгу, однако все они не имели ничего общего ни с настоящим, ни с будущим, а казались поднявшимся из могилы прошлым, негаданно позабывшим себя и утратившим здравые цели и возможности.
– Фёдор, – повторила Антонина, пятясь в комнату, где на всякий случай хранились разные тяжёлые предметы. – Не знаю, про что ты имеешь в виду, но учти: я тебе не потаскуха какая, чтобы проливать на меня бездоказательные помои! Соседскую Верку, вон, третьим днём с ипподромовской конюшни выкинули за группенсекс, и то, знаешь, у ейного мужика достало благородства, чтобы…
– Так вот, – перебил её Челнищев, прислушиваясь к внутренним голосам и вспоминая. После чего прыгнул вперёд и с неистовством схватил супругу за грудки:
– Я чего тебе говорю-то, Хафка, то есть, тьфу, Тонька, сука, слушай и шевели извилинами, пока мне рядом с тобой не надоело находиться! Если кто спросит, где я сегодня был – скажешь, курва, что за протяжением всего праздника из нашей обоюдной постели я поползновений не испытывал, а с самого утрева, нажратый, тебя, как сидорову козу, вошкал!
– Да ты что, Фёдор! – воскликнула Антонина, в голове у которой всё перебаламутилось. Ей захотелось провалиться в истерику и потерять сознание; однако она воздержалась от того и другого, сказав себе: «Сейчас не время, сначала надо всё выяснить».
– Не чтокай мне, – набычил шею Челнищев. – Щас я для верности только синяков тебе на лицо понаставлю, и тогда никто в наших алибях не усомнится.
– Ой, Федь, не надо.
– Надо!
– Нет, не надо!
– А я говорю: надо!
– Но ты же не хочешь, чтобы все глядели на тебя как на сумасшедшего.
– При чём тут это, Антонина? Зачем твоё словоблюдие, и при каких делах тут наша ситуация?
– Да при таких, что не получится ничего.
– Почему не получится?
– Потому что я сегодня – от нашей партии – участвовала в первомайской демонстрации. Там даже телевидение присутствовало. После этого разве может идти речь о каких-нибудь алибях?
– Вот ядрёна плешь. Нет, после этого речь идти не может… И кто видел твоё участие?
– Моё-то?
– Ну! Ты – давай отвечай, а не переспрашивай!
– Да все ж и видели. Сколопендриха, например… И Древосякина из отдела доставки… И водители Дубогрыз и Карабузлов. И этот, жопастый, – ну, который халявщик из профсоюза…
– Ладно, хрен с тобой. По нужде-то у тебя отлучки имелись?
– Как без этого.
– Сколь разов?
– Да, может, разов пять. Или восемь – но я точно сейчас не скажу. Упредил бы сразу, тогда б я считала… А по какой нужде: по малой или по большой?
– Дура, по обеим, – Челнищев покосился на окно, чтобы никто не слышал. – Скажешь, в общем, что вместо всех разов ты до меня на таксях лётала – шпилиться, усекла?
– Не-а. Кому сказать-то?
– Ты поговори ещё у меня, прошмандовка. Кому надо, тому и скажешь, если хочешь оставаться в живом виде.
– Да поняла я, поняла всё, Феденька, зайчик мой. Ты бы прилёг пока, а? Устал ведь праздновать небось, намаялся, сердешный.
– Сейчас, – согласился неприхотливый Челнищев. – Лягу.
Он поднялся на ноги. И, сделав четыре шага через большую комнату, вдруг задрожал лицом, как холодец при тряской езде, а затем надломился и тяжело рухнул мимо телевизора. После удара всем телом об пол ему стало темно и жарко, и мало что понятно вокруг себя.
Он не был пьян, это Антонина сразу поняла. Он был истощён беспорядочностью жизни, с которой уже не мог ничего поделать.
– Собака ревнивый, – зло прошелестела она себе под нос. – Правду говорила мама, чтоб я ему не доверялась. Но откуда этот шельма мог распрознать обо мне всю правду?
И, убедившись, что Челнищев больше не собирается приводить себя в движение, а только плачет сухими слезами, тихо выскользнула за дверь.
Антонина ничего не понимала в решительных подозрениях мужа и торопилась посоветоваться со своим любовником. Природа наделила её богатым воображением, оттого она могла представить любую заколупину в предложенных случаем обстоятельствах. Оставалось только выбрать среди возможных вариантов наиболее вероятный, а затем измыслить способ защиты от грядущих нападок Челнищева. Который, к слову, не заметил её исчезновения. Единственное, чего жаждал Фёдор – это смежить веки и хотя бы на время отрешиться от путаницы в голове, а заодно от всего земного. Что он и сделал без промедления.
***
Домовладение усопшей в эту минуту ещё горело.
«…Жалко, что её дети в интернате, а то бы – сразу, одной метлой», – бормотала претендовавшая на две сотки образяевского огорода соседская старушка, умильно сидя перед окном с большим «Кубанским» пряником в руке и постепенно приходя к выводу, что следует позвонить в пожарную команду хотя бы через полчаса. Или, на худой конец, через час.
И случилось в описанный момент оказаться подле самого эпицентра событий гвардейскому прапорщику Парахину, сиявшему всеми своими внешними факторами от предвкушения близкой встречи с любимой женщиной.
Одет был прапорщик в новую лётную фуражку. На парахинской груди значились множественные отличия в боевой и политической подготовке, приобретённые у полкового писаря в обмен на спирт, а лицо его скрывала щедрая мужская растительность, образовавшаяся за две недели сидения на гарнизонной гауптвахте.
Прибыл Парахин круговым путём через проходные дворы, поскольку Хафиза Абдулгафаровна до самой своей кончины имела заключённого в исправительное учреждение мужа, который собирался через несколько лет воротиться домой и при неблагоприятных слухах со стороны соседей грозился произвести супруге телесные повреждения. В принципе, Хафиза Абдулгафаровна по старой привычке не боялась физического ущерба и, работая в посудохозяйственной торговле, устала общаться на короткую руку с грузчиками, отчего дополнительно содержала нескольких стабильных мужчин для души. Среди коих гвардейский прапорщик Парахин занимал далеко не последнее место, однако не имел полномочий аннулировать весь остальной список амурных претендентов, вследствие чего был обязан соблюдать конспирацию.
Парахина такое отношение не обижало, ибо он являлся человеком широкопанорамных взглядов, и все женщины проплывали по его жизни бледными рыбами, не заслуживавшими продолговатой памяти. Зато Хафиза Образяева носила домой казённый денатурат. Каковой с военной регулярностью употреблял прапорщик Парахин. Потому что собственного технического спирта со склада горюче-смазочных материалов ему не хватало. Общий интерес сближал двух на первый взгляд разнополых людей. Чего не могли представить ни хмурый милицейский наряд, ни пожарные работники, по сигналу прохожих прибывшие на место происшествия именно в тот момент, когда гвардейский прапорщик в обгорелом кителе, с закопчённым лицом судорожно разбрасывал пепелище и горестно выкрикивал:
– Ни одного пузырька! Боже ж мой, ни единого пузырёчка! Вот же стерва какая: дом подпалила – и концы в воду! А ещё говорила мне, гадская подстёга, шо не хочет оставаться в одиночестве среди смутных времён! Да зарекусь я сюда в следующий раз появляться!
– Зачем ты пожар во все стороны рассыпаешь? – меланхолично удивился пожилой пожарный, грустный оттого, что никакого добра для него здесь не сохранилось. – А ещё военный… Или в тебе проклюнулась тяга к приключениям? Гляди-тко, искры летят на суседей. Тебя бы штрафануть за такое.
– Искры летят? – оборотился к нему Парахин с покрасневшими глазными яблоками и вытаращенными зубами. – А может, пущай оно и горит всё белым пламенем, раз на свете больше нету правды? Не вторгайся в мою совесть, добром прошу! Может, падла, денатурат мой теперь какой-нибудь жлоб выжирает, так шо ж – думаешь, я жалеть его стану? Нет, братан, подвинься!
И он сунул под нос чуть не выпрыгнувшему из себя пожарному обгорелый кукиш.
От прапорщика веяло ночью и ужасом. Потому более вопросов к нему не возникло, и пожилой огнеборец от греха подальше вернулся к своим служебным обязанностям, приборматывая себе под нос:
– Злобственными сделались люди: им теперь хоть вопрос задай, хоть палец покажи – так и норовят окрыситься. Как будто это я ихние жилища поджигаю. Херострата знашли, делать мне больше нечего. Вот же раньше я от населения не видел ничего, кроме уважения за героическую работу, а ныне что? Ныне всё наоборот. Если так дальше пойдёт, скоро от недоброжелательности люди начнут кусать друг дружку без разбору…
Неизвестно, чем всё могло завершиться. Перебравшие портвейна пожарные никак не могли попасть в калитку, всё время промахивались, врезаясь в забор, и сваливались в беспорядочные штабеля; в конце концов они вызвали другую пожарную бригаду, которая уже и дотушила остававшиеся скудные головешки.
Тут подоспел патрульно-постовой наряд. Блюстители порядка обнаружили на пепелище женский труп. После этого они, не сговариваясь, набросились на подозревавшего себя обманутым Парахина – и, пока тот тщился отряхнуться от недоумения, надели ему на ноги и на руки две пары табельных наручников. Не снимая которых прапорщик и подорвался бежать.
Парахин остро ощущал близкую возможность несвободы, отчего двигал, наподобие возмущённого животного, одновременно всеми конечностями. Ещё слава богу, что не догоревшие при пожаре брюки обильно дымились позади, производя завесу – из-за неё полицейский автомобиль путался в узких переулках, повреждая заборы, а затем окончательно остановился вследствие нехватки бензина.
– Ничего, это жизня такая, – цедил сквозь ноздри прапорщик, не обдумывая под конкретными углами своих возможностей из-за недостаточного времени. – Все придурки не с Марса прилетели сюда и не с Луны свалились на мою голову. Они тоже матерями рождённые среди нашего общества. Потому нельзя мне убивать этих собак легавых за недопонюх табаку, пусть продолжаются как умеют, лишь бы не попались между буквами закона под мои горячие руки…
Разговаривая в подобном роде с окружающей пустотой, Парахин захлёбывался лунным светом и не ощущал в себе положительной мозговой деятельности.
Он быстро оторвался от погони. Но продолжал одиночное движение в черте города, благо все виды транспорта уступали ему дорогу, остерегаясь повреждений.
…Часовой караульной службы Вадим Храпов, охранявший технико-эксплуатационную часть родного парахинского авиаполка, оказался слабовразумительным и попытался спросонья выяснить причину внезапного появления на своём посту не соответствовавшей уставу личности. В связи с чем лишился четырёх зубов и две недели затем провёл в полковой медсанчасти.
А Парахин до утра силился избавиться от полицейского железа на теле, выговаривая сквозь злые слёзы и зубовный скрежет старинные народные лозунги приблизительно такого содержания:
– Не журись, казаче, нехай твой ворог плаче! Ништо! Надеючись, и конь копытом бьёт! Ага! Бережёного бог бережёт, а казака – сноровка! Терпеть не беда, было бы шо и куда!
Избавившись же от наручников, он всё равно ещё долго не мог возвратиться в себя – и, вероятно, совсем лишился бы рассудительных наклонностей, если б не предусмотренный на случай войны и стихийных бедствий неприкосновенный запас технического спирта. Которого хватило как раз на трое суток, после чего прапорщик всё равно снова угодил на гауптвахту, уже абсолютно ничего не помня о своём прошлом до самого детства. Таким образом, дальнейшие события фактически миновали его, как морская жидкость в отлив минует возвышающийся над ней гранитный утёс.
Лишь Вадим Храпов (который регулярно читал газеты, потому был в курсе уголовной жизни города) – когда случалось ему издалека завидеть гвардейского прапорщика – старался на время где-нибудь схорониться, констатируя (впрочем, слаборазборчиво – из-за подпорченной челюсти):
– Ничо-ничо, не обязательно утороплять события, чтоб они докатились до желательной точки. А они докатятся: настигнет и тебя демократия, самоуправец поганый!
***
Одновременно с проходившим независимо от него далёким пожаром молодой кандидат наук Семён Однорогий по обыкновению тихо дремал, сидя на холодном унитазе с недоеденным бутербродом в руке, когда раздался нежданный звонок в прихожей. Бутерброд по закону подлости упал маслом набок, а Однорогий, наоборот, вскочил и направился к двери, на ходу застёгивая брюки.
– Ты? – удивился он при виде Антонины Челнищевой. – Мы с тобой ведь уже ходили сегодня ко мне… Нет, ты как хочешь, а я в ближайшие три дня ни на что уже не способный.
– Да не надо мне ничего этого, – успокоила его Антонина. – Я к тебе совсем по другому вопросу, Сеня.
– По какому ещё другому? – встревоженно шевельнул умом Однорогий, для которого было непривычно видеть в женщине что-нибудь, кроме голого тела. – Только ты побыстрее излагай, а то у меня ещё доклад, вон, лежит недоработанный.
– Да плюнь на доклад, жизнь важнее.
– Моя, что ли?
– Общая наша, Сенечка, совместная!
– Но-но! – Однорогий коротко взмахнул пальцем. – Не надо на меня давить и тем более разговаривать в повышенном тоне. Совместная жизнь – она у всех под разным пониманием находится и требует конкретных дефиниций. А так-то – да, я не спорю, это закон естественной природы: мужчинам нужны женщины, а женщинам – мужчины, чтобы соединяться попарно в безогорчительной плоскости. Однако это не отменяет персональной свободы для каждого. Я ведь уже не раз объяснял тебе, что каждый отдельный индивидуум имеет право…
– Господи, Сеня, – перебила его Антонина, разрумянившись от нетерпения. – Прекрати умничать, я этих твоих турусов никогда не понимала, а сейчас тем более понимать не собираюсь. Ты лучше ответь по-простому: мы у тебя сегодня с утра в постели разговлялись?
– Ну, если допустить такие выражения…
– Выражения будешь допускать после. А сейчас давай-ка признавайся, кобель неподмытый, кому ты про нас говорил?
– Д-да-бль-дто… никому не говорил… – поперхнулся Однорогий, вопросительно забегав глазами. – А что?
– А то, что скотина мой, Челнищев, прознал откудова-то и теперь угрожает непонятным. Да ещё давление психическое оказывает: говори, мол, кричит, что мы с тобой дрючились на протяжении всей демонстрации!
– Кто это дрючились на всём протяжении – мы с тобой?
– Да нет, я с ним! А ты ведь помнишь: я не с ним была, а с тобой, Сеня, освежалась впечатлениями!
– Так… вродеб-то… со мной, да.
– Ну и скажи, что нам теперь делать? – Антонина перестала сдерживать испуг и, прерывисто дыша, бросилась Однорогому на шею. – Скажи, дорогой, что делать-то нам после этого? Я боюсь его! Он имеет какие-то виды против нас! И что же нам теперь, а?! Он ведь, Фёдор, иногда бывает совершенно как зверюга малахольный. Он же к убийству давно привычный – двенадцать лет, почитай, без отпусков на мясокомбинате скотину порешает в забойном цеху! Я боюсь его, честное слово, Сенечка!
– Погоди, не мельтеши языком. Давай спокойно разберёмся в твоём вопросе.
«Наверное, она хочет сделать из меня психа, чтобы бросить большую и непоправимую тень на всю мою дальнейшую жизнь, – предположил Однорогий, скользя по комнате разжиженным взглядом. – Или они вместе хотят сделать из меня психа, сговорившись на семейной почве… Но зачем это им понадобилось? Разве им от такого подлого оборота может быть польза? Хотя какая теперь разница. Главное – не поддаваться, я всё-таки интеллигент в четвёртом поколении, у меня иммунитет и потомственный дух противоречия».
– Поздно уже разбираться, надо действовать и предпринимать шаги! – напирала между тем Антонина, крепко держа его за шею. – Время не ждёт. Надо придумать экстренные меры или ещё к чему-нибудь прибегнуть!
– Да к чему конкретно прибегнуть-то?
– Я не знаю, к чему конкретно, ведь это ты из нас двоих являешься настоящим мужчиной, вот и действуй поскорее! Или хочешь пустить нашу безопасность на самотёк? Или тебе всё равно? А может, ты просто перестал в меня верить?
– С какой стати я должен перестать в тебя верить? – прямолинейным голосом соврал Семён Однорогий. – Нет, я верю, верю. Но в пределах доступного, разумеется.
После этого кандидат наук вспомнил, что он младше своей любовницы на четырнадцать лет. И сделал в уме посильную поправку: «Как ни крути, мы с Антониной различаемся во времени. Это, разумеется, если брать с относительной стороны. А если взять большее приближение, то всё в человеческой природе относительно. С возрастом одни люди становятся гуще, а другие – жиже. Это, опять же, зависит от духа, ни от чего другого. Надо иметь внутренний стержень!»
Шея Однорогого устала держать постороннюю тяжесть. Но упасть перед женскими глазами вместе со всем своим достоинством ему не позволяла жизненная позиция. И он опустился на четвереньки. Затем умственные колебания Однорогого высветились по-новому:
– Слушай, Тоня. Я тебя официально спрашиваю. Твой Фёдор моё имя называл под каким-нибудь соусом? Или фамилию?
– Нет, не называл пока.
– А кому угрожал-то? Тебе?
– Да мне, кому же ещё.
– Вот именно, – Однорогий лёг на пол и, перевернувшись на спину, закрыл глаза с видом окончательного умственного удовлетворения. – Теперь я всё понял. Иди домой и сама разбирайся с ним. Это супружеская жизнь, она меня не касается
– Что-о-о? Нет, ты надо мной издеваешься?
– Отнюдь.
– Значит, в постели мы с тобой кувыркались вместе, а разбираться теперь мне самой?
– Да, – согласился он. – Мужик-то – твой, не мой. К чему тогда нам пустое словокупление? Прекрати мозолить эту тему, ты знаешь моё кредо, я не уронюсь до мелких дрязг.
– И ты говоришь это с полным сознанием и чистой совестью?
– Абсолютно.
– Вон ты какой, оказывается! – Антонина задохнулась от всасываемой обеими ноздрями атмосферы, и румянец схлынул с её щёк. – Значит, такое твоё настоящее лицо, да? Такой моральный облик, что ни в какие ворота не пролазит? А я-то всей душой отдавалась и верила тебе, как мужчине, дура!
– Дура, – покорно подтвердил Однорогий, прикрыв руками голову от возможных ударов.
Но Антонина не стала его бить. Лишь гордо задрала подбородок и направилась к двери с мертвенной пустотой в животе.
Напоследок обернулась и добавила одеревеневшими губами:
– Прощай.
Семён Однорогий не снизошёл до ответа. Наоборот, продолжая лежать на полу с закрытыми глазами, он стал вполголоса напевать песни из репертуара давних лет, дабы не слышать надоевшего голоса беспокойной любовницы.
Впрочем, на Антонину песни не произвели впечатления. Она вылетела за порог, спустилась на два лестничных пролёта, а затем, не утерпев, закричала на весь подъезд:
– Только запомни, мой сердешный: если дойдёт до рукоприкладыванья, то я одна эту горьку ягоду есть не собираюсь! Каждый самостоятельно поимеет ответственность за свои погрешения! А то – ишь ты: французскую любовь ему, как ненормальная, соглашаешься, а если вдруг возникает потребность употребить силу с его стороны, чтобы женщину не обижали, так у него сразу кишки тонкими оказываются! Ничего! Ещё, может, вместе полежим в морге!
И удалилась, оставив в глубоком обмороке местную пенсионерку Агриппину Даниловну Швабрину, которая в любое время суток перестилала половичок для обуви перед дверью своей квартиры, дабы находиться в курсе происходящих в подъезде событий. За текущий месяц Агриппина Даниловна стала свидетелем четырёх пьяных драк, двух групповых изнасилований, шести актов курения анаши и доброй дюжины кровавых семейных ссор. Однако на сей раз старушкино бдение завершилось отрицательным образом: мчавшаяся вниз по ступенькам разгневанная Антонина со всей силой недовостребованной женственности врезала ей коленкой по харе – и Агриппина Даниловна вместе с проломленной дверью провалилась внутрь собственной квартиры, обрызгавшись кровью из расшибленной губы и досадно обмарав почти новые рейтузы, кои она по большому счёту уже седьмой год старалась сберечь для похорон.
На мимолётное препятствие в образе любопытной старушки Антонина не обратила внимания, ибо её ум занимали переживания поважнее. Как покидают тонущий корабль сначала крысы, а потом и команда, так расстроенную женщину покидали поочерёдно остатки равновесного настроения, семейные планы на завтрашний день и надежда перетечь из текущего момента в ближайшее будущее с минимальным ущербом для своего морального облика.
А лежавший на полу кандидат наук между тем исчерпал свои скромные вокальные ресурсы и на излёте очередной песни незаметно для себя погрузился в нервозную дремоту. Которая то густела, то разжижалась, а то и вовсе заплывала в извращённый сон, посреди которого он, Семён Однорогий стоял на праздничной трибуне, улыбаясь и приветственно помахивая рукой, а мимо него плыли колонны демонстрантов; над неспешно-полноводной человеческой рекой реяли разноцветные флаги, надувные шары и транспаранты с лозунгами нового времени: «Даёшь победу капиталистического труда!», «МРОТ – в массы!», «Вечная слава нашим олигархам!», «Гражданское общество было, есть и будет есть!», «Мир, труд, санкции!», «Всё лучшее – всем!», «Дайте нам точку опоры!», «Профсоюзы – за всеобщее воцерковление!», «Социальные гарантии – баян!», «Наша сила – в потребительской корзине!», «Прекратите немедленно!»… Однорогому скоро надоело читать зажигательные лозунги; ему с каждой минутой всё настоятельнее хотелось покинуть трибуну, оттого он дрожал коленями и подёргивал бёдрами во сне, и едва слышно всхлипывал, и поскуливал, но не мог сдвинуться с мёртвой точки и продолжал, улыбаясь, приветственно помахивать рукой толпе празднично разодетых демонстрантов…
Антонина в это время продолжала шагать по улице, удаляясь от выпавшего из реальности Однорогого. Она смотрела на себя со стороны и болезненно удивлялась: зачем такая красивая, умная и во всех отношениях замечательная представительница человеческого рода существует не в виде произведения искусства, а в примитивном физиологическом образе, если ей не дано беспроблемных наслаждений от рождения до самой смерти, и за каждое скудное удовольствие приходится платить изворотливыми фантазиями, регулярными драками с мужем и долгими изнурительными слезами? Не проще ли сразу покончить с собой, чтобы остаться лишь в памяти престарелой мамы, полуслепой и беззубой, но продолжающей любить свою дочь почти так же, как живущих у неё в квартире девятерых кошек, четырёх собак и попугая Навуходоносора? Впрочем, покончить с собой никогда не поздно. Гораздо справедливее будет сначала спровадить в преисподнюю ползучего гада Челнищева, воздав ему по заслугам за свою загубленную молодость, а также за все грядущие годы, которые он пока не успел спустить коту под хвост. А после Челнищева неплохо бы поквитаться и с Однорогим: расчленить его на мелкие кусочки, например, или хотя бы сделать проклятому обрезание под корень, дабы после этого ни одной достойной кандидатуры не нашлось ему в любовницы.
Так, обуреваемая мстительными грёзами, Антонина двигалась по городу, кусая губы. Она не знала, что торопиться не имело смысла, поскольку её супруг дома отсутствовал: не успев как следует проспаться, он ушёл на встречу с шантажистом.
…История шантажа уходила корнем в одну пьянку прошлым летом, когда Челнищев – сам не помня деталей – случайно оказался в парке «Солнечный остров» с незнакомой прошмандовкой. Там его в процессе скоропалительного адюльтера на скамейке запечатлел фотоаппаратом местный умалишённый по кличке Тормоз, живший в соседнем с Челнищевым подъезде, вследствие чего теперь ежедневно звонил тому, требуя выкупа (за фото плюс недоносительство Антонине) в размере двух тысяч долларов. Жалея денег, Фёдор всё же дважды соглашался откупиться и назначал встречу в надежде отобрать у Тормоза фотографии силовым методом. Но оба раза единоборство заканчивалось синяками и шишками отнюдь не в его пользу. Потому сегодня после привычного звонка вымогателя Челнищев сторговался на половине требуемой суммы и, достав из-под половицы тысячу «зелёных», поехал в ресторан «Кавказ» – как наказал Тормоз – для окончательного расчёта.
Умалишённый уже дожидался его за столиком, потягивая из бокала пепси-колу и возбуждённо посмаркиваясь в бумажную салфетку. Фёдор вошёл в ресторан и уселся рядом с Тормозом. Заказывать ничего не стал, а просто получил от шантажиста долгожданные фотоснимки в обмен на валюту. И уже собирался удалиться, когда услышал над своей головой:
– Ого, Тормоз! Я гляжу, ты неплоховато сегодня наподзарабатывал!
Это был шеф екатеринодарской безопасности полковник Скрыбочкин. Которого сопровождал свежевыпущенный с гауптвахты прапорщик Парахин, состоявший с полковником в многолетней дружеской связи. Полковник не умел равнодушно проходить мимо чужих денег, поэтому намекнул Тормозу безапелляционным голосом:
– Нельзя получать от судьбы дюже крупные гонорары в полной единоличности. Потому как крупные куски имеют обыкновенность вставать поперёк горла. По случаю барыша полагается выставлять магарыч порядошным людям. Живи сам и давай жить другим, а не загребай всё под себя без остатка… Эй, официант! Неси сюда три… нет – четыре бутылки коньяку! И штобы качеством подороже! А ещё – графин водки!
***
Тормоз с детства не брал в рот спиртного. Однако, опасаясь тюрьмы и свинцовых кулаков Скрыбочкина, покорно заказывал все напитки, которые приходили на ум его текущим сотрапезникам. Нелепо сжигать себя опасными поползновениями, если можно сохраняться и существовать в неприкосновенности – такова была его твёрдая точка зрения.
Через несколько часов Парахин, Скрыбочкин и Челнищев достигли достаточно расширенной конфигурации сознания, когда всё внутри себя кажется прекрасным и в некоторой степени слабореальным, если не сказать фантастическим.
– Хорошо сидим, – сказал Челнищев после очередного тоста.
– Это ты правильно выразился, – согласился Скрыбочкин. – Когда кумпания подходящая – оно завсегда неплохо.
– Вот кабы всегда так было, шоб сидеть без суеты и недостатка в средствах, то ничего другого и не надо, – добавил Парахин, с мечтательным видом шевеля вилкой, отчего спагетти под соусом болоньезе в художественном беспорядке сползали с тарелки ему на брюки.
– Без недостатка в средствах – это да, – покивал Скрыбочкин. – Хотя, ежли оттолкнуться от твёрдой почвы под ногами, то никогда заранее не знаешь, скудова и што появится, и куда потом этому всему назначено исчезнуть. Через такую непонятность челувек недополучает радости, которую мог бы иметь в полном объёме при своём полнокровном отстранении от неясных факторов.
– Ага! – мелко закивал Тормоз, потевший от скуки и жалости к деньгам. – Эге-ге! Ого-го-го!
Изо рта у него потекла слюна, и он, засмущавшись, утёрся рукавом. А Скрыбочкин ободряюще похлопал его по плечу и присовокупил:
– Слава богу, в обществе завсегда знаходятся хорошие люди, готовые позаботиться об нашей кумпании. А што ж, по приходу не стыдно расход держать.
– Ещё час назад я был бы рад просто лежать, припав щекой… – поделился воспоминанием Челнищев, с ублаготворённым прищуром глядя на собутыльников поверх ободка стакана. – М-м-мда, припав щекой… К чему? Да не важно к чему, лишь бы не беспокоили, не заставляли страдать чрезмерным мнемонизмом. А теперь – вон насколько к лучшему всё обернулось. Хоть и за собственные деньги, а всё равно хорошо сижу, никакого негативизма не чувствую. А главное, ни перед кем не надо оправдываться. И благодарить никого не требуется.
– Благодарить – это нетрудно, – высказал соображение Парахин.
– Мало ли што нетрудно, – возразил Скрыбочкин. – Ежли мне, допустим, светят солнце, луна и звёзды, то што ж я теперь, должен говорить им «спасибо», проливая благодарственные слёзы на каждом шагу? Нет, друже, извини-подвинься, не такой я простомозглый, штоб удивляться закономерным естественностям среди общего нагромождения вещей в природе. Вот когда бы небесные светила благоприятствовали мне одному или исхитрялись каким-нито особливым способом проявлять субординацию и уважительность по моему адресу – тогда другое дело, язык у меня не отвалился б высказаться встречными словами. Но без причины я не согласен. Никаких следствий не должно возникать без причин, а тем более с моей помощью, нет в этом натуральной правды. Хотя, ежли глянуть с другой стороны, то доподлинной правды вообще нихто не знает, однако ж она живёт в каждом: и в тебе, и во мне, и даже в любой случайной инфузории, на которую ты не обращаешь внимания из-за её малых габаритов.
– Лично мне сейчас никакой правды обнаруживать не интересно, – тонким от ублаготворённости голосом признался Парахин. – Потому шо в посторонние предметы и понятия вникать неохота, а на всех окружающих людей я вообще склонный глядеть как на формальные создания моей фантазии, так оно проще и не шибко удалённо от истины…
В это время случилось зайти в ресторан «Кавказ» Семёну Однорогому, не столько расстроенному потерей дамы сердца, сколько побаивавшемуся мстительных кляуз Антонины. На почве упомянутых опасений он теперь искал подходящее место, чтобы напиться… Завидев полковника, кандидат наук повернулся мыслями к иной проблеме. Которая состояла в том, что в минувшем году Однорогого посетил по месту жительства внушительный работник международной компании с предложением подключить его квартиру к суперскоростному интернету. По причине дешевизны Семён поторопился в ту же секунду оформить договор с этим работником и передал ему деньги… На этом всё и закончилось. Потому что ускоренного интернета кандидат даже издалека не увидел, а в ответ на все его хождения по инстанциям чиновники только матюгались и объясняли своё негативное отношение отсутствием каких бы то ни было однороговых заявлений. Ежедневные жалобы в полицию также не принесли плодов, кроме подтверждения визуальной экспертизой фальшивости вручённого ему договора… На всякий случай Семён Однорогий захаживал и в Управление безопасности – жаловаться Скрыбочкину на бездействие органов правопорядка… Словом, узрев полковника в ресторане, кандидат наук устремился к нему, дабы напомнить о своей залежавшейся жалобе – и вдруг… замер от неожиданности, вперив взгляд в Тормоза. В нём Семён Однорогий узнал того самого сотрудника международной компании, который оказался мошенником!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































