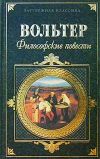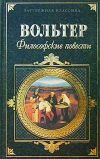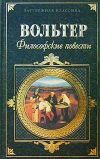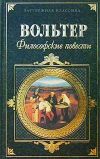Текст книги "Малороссийская проза (сборник)"

Автор книги: Григорий Квитка-Основьяненко
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 50 страниц)
Смутно и невесело было в одно утро в славном сотенном местечке Конотопе. Хотя до восхождения солнца пока еще и месяц не совсем зашел, поднялся было по всем улицам шум, бегание, говор, крик, но и стихло, и весь народ исчез, так что ни в хатах, ни по улицам нет никого. Только и слышно, что коровы, сколько в них есть духу, ревут затем, что хозяйки не идут их доить и не думают выгонять их в поле; телята по хлевам, слыша, что их матки ревут, себе ме-е-кают и подают голос, как будто упрашивая, чтобы и их скорее выпускали; овечки мекекекают; козы, тоже себе за ними, да стучат ногами, да бегают по загороде, ищут, куда бы выскочить и за собою овечек повести; кони ржут на все село так, что эхо по заре далеко раздается; по хлевцам гуси кге-кгекают, утки кахкают, наседки куд-кудакают… потому что всякое дыхание без человеческой помощи страждет. Слыша такой шум, собаки то лаяли, а то уже начали выть. Малые дети, такие, что еще не смогут ходить, лазят вокруг своей запертой хаты да, оцепившися ручонками за призьбу, силятся подняться на ножки и, нашедши на призьбе щепочку, возьмут в рот и смокчут вместо косточки; да как станут ее в руках поворачивать, не удержатся, да… плюх!.. опять на землю да и заплачут; а тут щенок, ходя близко, подойдет и облизывает ему слезки и под носом и во рту вылижет языком, то дитя, не умея защититься от щенка, еще крепче заплачет, надеясь, что кто-нибудь прибежит его оборонить и утереть… Так что же? Хаты по всему местечку заперты; возы, плуги, бороны, рала, где были с вечера приготовлены, так себе и стоят; волы, поевши свою солому и видя, что никто не гонит их на водопой и не запрягает, сорвались и пошли себе по улицам, и где завидят калачики или ромашку и всякий бурьянчик, то там и пасутся…
Подле дьяковой школы хоть бы тебе один школяр! И пан Симеон, во ожидании их, ходит около школы, приготовляясь на похороны и вспоминая про кутью с медом, да прилежно присматривается во двор старого Кирика, что вчера уже и маслосвятие над ним служили; так не дымит ли у него из трубы, что, может, уже и обед на помины варят, когда уже он умер; так ба! И труба не дымит, и во дворе никто не шевелится…
«Экхе, экхе! Неужели восстанет от одра болезни?» – думает пан Симон и рассуждает, ходя по двору:
– «Какие-то люди теперь крепки на здоровье да долговечные стали!» Вспомянет про холеру, как-то было им тогда прибыльно жить… да вздохнет тяжело, войдет в хату да и станет розги вязать на школяров, чтоб над кем-нибудь гнев свой выместить…
На огородах бурьян и великонек, да никто же его и не думает полоть, хоть лопатки и лежат подле него. А между грядками с капустою, бураками и прочею овощию славно управляются, хрюкая, свиньи с поросятами, и не думая, чтобы что оставить хозяйкам; все выедят и носом роют такие новые грядки, что после них хозяйка с трудом в два дня в лад все приведет; теперь же некому их и выгнать, потому что нет никого…
Да и что же? И в самых шинках пустешенько! Шинкарь дремлет себе на лавке, потому что никого не то чтоб горелку пить, да и жены с невестками нет; так потому-то никто не мешает ему и дремать. Посуда у него, как еще с вечера переполоскал да порасставлял, так она и стоит, и никто не навернется в шинок ни ногою…
Отчего же это так в славном местечке, в Конотопе? Отчего так стало тихо и смутно, что не слышно ни от кого никакого гласа? И ни на одной улице не повстречаешь ни одного человека; как будто – сохрани бог! – все люди во всем местечке повымирали, или – и то не лучше смерти! – крымские татары всех похватали? Где это они девались и отбежали от хозяйства своего и маленьких деточек? Да пусть уже женщины: им хоть целый день, собравшись в кучу, болтать и из пустого в порожнее переливать, а что мужья их и дети без обеда, так это им и нужды нет… Так не только женщин, но ниже одного мужчины нет в селе… да что еще: и такого дитяти, что уже бегает, и такого не повстречаешь! Где же это они есть?..
Эге! Ан вон-вон все собрались вокруг пруда и смотрят… А на что смотрят, так ну-ну! Такого зрелища вряд ли и самый старый, кто есть в нашем Конотопе, чтоб помнил, какое теперь будет совершаться… Да что же там такое?..
Посреди пруда вбиты четыре сваи толопенских и вверху связаны веревками, да опять как-то хитро и мудро перепутано. В каждой свае вверху дыра, и туда просунута веревка… А по пруду ездят люди в лодках; а они не рыболовы, потому что на лодках их нет ни сетей и ятеров, чтоб ловить рыбу, а только веревки… А что на берегу? Так вот там-то весь народ из славного сотенного местечка Конотопа еще собрался, как и солнце не всходило и месяц не совсем зашел… Вот там-то и матери, что пооставляли и хаты, и маленьких деточек, и поросяток, и птиц, и коров, и в печах не топили. Вот там-то и мужчины, что оставили дома больных жен и скотину и позабыли, что нужно ехать в поле… Все, все собралися смотреть, какое тут будет зрелище…
Мало ли их тут было? И по всему берегу, и кругом на бугорках; вот как набрать в мешок зерен, так всем им там тесно было. А мальчишки да подростки, которым из-за взрослых ничего не видно, так даже на вербы послазили и покрыли их, как галки…
А крик, а говор от того народа, батюшки!
Как будто вода шумит весною, прорвавши плотину: все, все вдруг говорят, и никто никого не слушает; а уже никто, как наши женщины-щебетуньи! Вот там-то и шинкарка с невестками своими, что без них шинкарю только и выспаться: говорят, щебечут, рассказывают, кто вчера у них был в шинку, на сколько выпил за деньги, на сколько кто в долг взял, кто что заложил, кто с кем и как побранился, кого – пришла жена – да прогнала из шинка; кто жену в затылок погнал и очипок с ее головы сбил, и она волосом на всю улицу засветила; как девки, обманывая, вместо того, что будто для отца, для себя покупают горелку да по огородам тихонько с парубками пьют.
– Полно же, не все рассказывай! – зашумела шинкарка на невестку, так та и замолчала…
А там, на другом конце, подле вербы, школяры вместо того, чтоб в школу идти да кому из часослова, кому из псалтыря уроки твердить, а кому «мно-тло» складывать, они, собравшись в кучку, сложили виршу на своего пана дьяка, да тихонько и распевают ее. Как же врежет их пан Симеон розгою, что из дому принес, да как погонит их в школу; а сам, гоня их, божится, что за эту песнь, кроме субботы, что по закону подобает, будет их пороть каждый день чрез весь месяц…
А там, подле мельницы, вот там что творится! Ну, ну! Тридцать казаков, кто с нагайкою, кто с надежною дубиною, кто с веревкою, а кто с колом, да все же эти храбрые казаки держатся крепко за веревки; а теми веревками связано семь баб… А что-то за бабы, так я вам расскажу.
Первая, изжившая век, Приська Чирячка. Смолоду не раз сидела в куне[201]201
Куна, железная цепь, висевшая всегда у дверей церкви. В нее заключали на несколько часов во время служения воров явных, колдунов, развратных и т. под. Остуда, насланная на парня или девку, после чего никто ее не сватает и за него никто не идет замуж, пока колдунья не снимет остуды. Сонячницы, холера со всеми ее признаками и последствиями. Знахарки их заговаривают и славятся сим искусством. Замирать, принимают на себя старики и старухи, узнав, что во время болезни они сутки или более были в бесчувствии. Тут-то сплетают они разные нелепости: рассказывают, что видели на том свете; награждения добрым и наказания злым – и все по своим понятиям. На кого сердиты, для тех видели приготовленные мучения; а для приятелей или благодетельствующих им приготовлено место для блаженства. Распустив свои басни, пользуются уважением от всех, и мнение их решит каждое дело. (Прим. автора.)
[Закрыть]; свела на тот свет всех трех своих мужьев и все имение перевела на травы, да на коренья, да на всякие лекарства; да и лечит людей от лихорадки ли, от заушниц[202]202
Заушница — воспаление околоушной слюнной железы, то же, что свинка. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть]; снимает с девок и парней остуду, переполох выливает, слизывает от уроков, сонячницы заваривает… И чего-то она не знала! К ней изо всех мест, даже верст за двадцать, приезжали болящие: иному, кому жить, то и поможет; а кому умереть, то тотчас после ее воды и умрет. То Приська и говорит:
– Не так он болел, чтоб ему живым оставаться.
Раз пан Пистряк просил ее, чтобы дала ему любощей, чтобы его всякая девка ли, молодица ли, на какую он оком накинет, чтоб его и полюбила. Вот же то он выпил тех любощей да и пошел на вечерницы; да только было что развеселился… как же сделается ему дурно!.. Так и к дому не добежал. Вот с того часа и стал на нее гонитель.
Другая была Химка Рябокобылиха, стар-человек; замирала на своей жизни. Уже когда у кого что пропадет, то и не думай идти к ворожее: она самую умелую изобличит во лжи, а скажет на того, на кого хочет да на кого сердита. А ей как не верить, когда она, замирая, видела, какое на том свете есть мучение и ворягам, и табачникам, и лгунам, и потаскухам; так было кого поймавши на бакше с огурцами или в амбаре с салом, приведут к ратуше, то, когда Химка скажет, что не он украл, то его тотчас и отпустят да принимаются за того, на кого Химка скажет, хотя бы его в то время и в селе не было. Вот так сказала было раз и на пана Пистряка, что будто бы он у человека пчелу подрезал. Ему оно так и прошло, известно, как писарю. Только уже он на нее с той поры и наметил.
Третья – Явдоха Зубиха, старая и престарая! Самые старые деды, что уже насилу ноги волочат, рассказывают, что, как они были еще подпарубочими (подростками), так она уже и тогда была такая старая, как и теперь; так что, если бы не солгать, было ей лет пятьдесят от роду. И говорят про нее люди, что она как днем, то и стара, а как солнце заходит, так она и молодеет, а в самую полночь станет молоденькою девочкою; а там и станет стареться и ко всходу солнца опять станет такая старая, как была вчера. Вот она, как помолодеет, то и наденет белую сорочку и косы распустит, как девка, да и пойдет по селу доить коров, овец, коз, кобыл, сук, кошек, а в болотах лягушек, ящериц, змей… Уже такая не выдоит, кого задумает! Раз пан писарь Григорьич читал перед громадою какое-то предписание от начальства, и, хотя перед тем дней с пять пил, а тут слова складывал порядочно и уже было взялся по верхам читать, как вот и идет Зубиха, да и глянула на него – и только всего, что усмехнулася – так что ж? Он тотчас бумагу оземь, полы подтыкал, рукава засучил, да и пустися перед громадою скакать «векгери» (детская игра, скачут вприсядку с приговорами). Смех был такой, что не то что! Вот с того часу и стал пан Пистряк только хоть погуляет, то тут же и немного поженет химеры. Вот такая-то была эта Явдоха!
Четвертая, Пазька Псючиха, не так стара. Так та все тихомолком, не хвалясь, колдует. Только и видят ее, как все положатся спать: вот она и выйдет на двор, да и махнет рукою. То, куда махнула, оттуда и облака – хоть и не теперь и не скоро еще, но пойдут. А кто бы к ней ни пришел, чтоб или поворожила, или дала каких лекарств, или хоть что-нибудь такое, так что бы ей на поклон ни принес, ничего не возьмет и говорит: «Я ничего не знаю, идите себе прочь». Ну, ну! Такая-то и не знает!
Пятая была Домаха Карлючкивна. Как смолоду еще была девкою, так была так хороша, что и рассказать не можно. Ростом себе невеличка; хоть в какую хату не войдет, а головою потолка достанет; сухая; на долгих ногах; волоса на голове, как волна на гребне; а когда разинет рот, так лопата войдет; носичек как у ястреба; а как смотрит глазками с Конотопа, так одним глядит в Киев, а другим в Белгород, – да и те как будто сметаною залеплены; а личком беленькая, как чумацкая сорочка; да еще к тому, словно граблями, вся рожа исцарапана. Вот с такою-то красою сидела она в девках, сидела. Прежде ждала поповича, после спустила на писарей из ратуши; потом желала бы выйти и за хлебороба, так ба! и личман (пастух) не смотрит! Нечего делать: повязала седую голову, перешла жить в пустую избу на лугу, при болоте, да и стала волшебствовать да людям пакости делать. Уже и не думай никто ее затрогать; вот только не поклонись ей учтиво, или, не приметивши, толкни, или что-нибудь, то тотчас и затрещит:
– Будешь меня, песий сын, помнить, подожди-ка!
То так и есть: или ходючи споткнешься, или за обедом подавишься, или пьяный что-нибудь потеряешь, а уже не пройдет тебе так; хоть – как говорят – не теперь, а в четверг, хоть через год, только уже ее похвалка не пройдет тебе даром… Даже страшно про нее больше и рассказывать! Цур ей!.. Еще, чтоб не приснилась…
Шестая была Векла, старого Штыри – когда знаете – невестка; а седьмая Устя Жолобиха… Так пускай уже кто другой рассказывает, а мне некогда. Чего-то конотопский народ зашумел и закопошился, и перед кем-то расступаются и дают к пруду дорогу… Так уже ведь не до поросят, когда свинью смалят…
Смутен и невесел, надувшись, как тот индейский петух перед своими курами, храброй конотопской сотни пан сотник Никита Власович Забрёха, важно выступая, идет к конотопскому пруду. Хотя на нем и синяя черкеска с закинутыми на спину рукавами и татарским поясом подпоясана, и нож на цепочке за пояс заложен, и лицо умыто, и борода подбрита, и на голове шапка, да как у него глаза были заспаны и обдуты, то и видно было, что он целую ночь куликал. Да и правда же была: с печали целую ночь пил наливку. Та к после такой работы, когда не выспишься, то и будешь долго чмелей слушать; я уже это знак. Так как же ему не быть смутным и невеселым? Хоть и подошел к людям, которые перед ним все шапки сняли и покланяются ему!..
А он идет, надувшись себе, и ни на кого и не смотрит, только щеки раздувает, чтобы все знали, что он тут-здесь есть старший.
Вот подошел к пруду, окинул глазом сюда-туда да и крикнул грозно:
– А что?
– Совершение уготовася! – отозвался к нему конотопской сотни писарь Прокоп Григорьич Пистряк, стоя подле караульных, которые берегли ведьм, быстро приглядываясь, чтоб которая из них не превратилась или в сороку, или в свинью да не ушла бы. Как же услышал голос своего начальника, так тотчас, снявши шапочку, и подошел к нему, и, поклонясь ему низко, сказал:
– Вожделенного умоисступления, с дневным местопребыванием вам, пан сотник, утре-усугубляем!
– Спасибо! – сказал Власович, не понявши, что ему наговорил пан Пистряк, тоже не умевший к ладу слова сказать, а так, что на ум взбредет; да при этом слове только немного приподнял шапку с головы, да скорей и наплюснул ее опять на голову, да и сказал важно, всех оглядая и ни на кого не смотря:
– Здоровы!
А это уже известно и везде так поводится, что чем кто глупее, тем он горделивее и знай надувается, как кусок кожи на огне.
– Здоров будь, батько, вельможный пан сотник! – заклекотала громада, загудели мужчины, затрещали женщины, запищали дети, да и поклонились ему все низехонько…
Вот Григорьич и шепчет пану Никите на ухо:
– Сотворяйте же делоначинание; угобзите в нашей палестине порядок…
– Цур дурня, да масла кусок! – сказал ему в ответ Власович. – Как мне укобзить или, как там ты говоришь, когда я ничего и не понимаю, что это такое и есть.
– Так не творите же мне восклонения ни во едином деле, – сказал писарь и пошел к своему делу.
Эге! Да хотя наш пан сотник Никита Власович и не имел в голове девятой клепки, но еще столько рассудку стало, чтоб разобрать, что коли чего не разумеешь, за то и не берися. Совсем не понимал дела, так и не перечил ни в чем, не так, как наш генеральный судья – царство ему! Тот было – и не думай его остановить – к делу ли, не к делу, знай подписывает, что попадет. Писарь было останавливает, так куда! «Не хочу, – говорит, – чтоб дело валялося. Подпишу, вот ему и конец». То писарь было, как только увидит, что судья в коллегию идет, тотчас и прячет все бумажки, а то он их сразу все и поподписывает, а тем и испортит нужные. Раз – о смех был! – я еще служил тогда в коллегии и как был малый по девятнадцатому году, то уже учился склады писать. Писаренки взяли да и написали такую бумагу, чтоб судье отказаться от света, а его жену выдать замуж за пана обозного, что с нею частенько в лесок за грибами ходит. Ну, да и положили тот лист перед судьею; только-таки что он вошел, сел, увидел тот лист, потянул к себе, перекрестился да и говорит:
– Чтоб не долго морить! Пускай мне благодарят, что скоро дело решил, а виноватый пусть желеет на себя…
Да чирк! И подписал рукою властною. А мы все: ких, ких, ких, ких! Насилу писарь нас взашей прогнал и, растолковав судье тот лист, порвал его на куски… Ну, да нужды нет; будем свое договаривать.
Вот пан Власович стоит себе, взявшися в боки, как тот ферт, что в киевском букваре; как вот и подошел к нему Фома Калыберда, стар человек, да, снявши шапку, поклонился ему раз пять, а потом, осмелясь, говорит:
– Спасибо вам, пан Власович, что поддерживаете старину. Еще покойник дедушка ваш, Афанасий Забрёха таки – пусть над ним земля пером! – и тот не давал нас обижать. Чуть немного было засуха подхватит, то он в ту же пору за проклятых ведьм возьмется; да как трех-четырех утопит[203]203
Так точно бывало – и безответно. (Прим. автора.)
[Закрыть], так где тот дождь возьмется!.. И все было хорошо! Что-то старина! Любезное дело!
– Будет и новина не худая, – сказал важно пан Забрёха да и отступился от Калыберды, чтобы тот не очень приставал к нему и чтобы иногда не запанибратался с ним; а чтоб скорее отделаться от него, отозвался к Григорьичу й спросил:
– А что?
А тот, управившись совсем, идет к нему, покашливает и усы закручивает, – это уже была примета, что станет говорить из писания, – вот и говорит:
– Приспе время совокупление учинить и погрузить нечистоту во источники водныя. А ну-те, братие, дерзайте!
Караульное казачество, услышав писарское повеление, тотчас и отвязали от ведемской связки Веклу Штыриху; схватили ее скорее за руки и за ноги крепко, чтоб не вырвалась, да хохоча и потаскали ее к лодкам… Она кричит:
– Помогите!
Деточки бегут за нею и плачут, как будто она уже и не жива, старый Штыря туда же за ними подбегает да плачет и бранит и казаков, и сотника, а наиболее писаря… Но их никто и не уважает, и еще кое-кто с кучи кричит:
– Держи-ка, Осип, крепче, видишь, вырывается. А иной говорит:
– Попалась! А что?.. Это тебе не коров в полночь доить!..
Да и много кое-чего приговаривали, пока ее к лодкам донесли и втащили в одну из них. Тут еще крепче держали. Как же довели к сваям, тут связали ей руки и ноги славно, да веревки и протянули в петли, что на сваях, и, подтянувши ее веревками кверху, бухнули разом в воду… Так как камень, пошла на дно… Только пузырьки заклокотали!..
– Тягните назад, тягните!.. Не ведьма она, не ведьма!.. – завопила громада в один голос; а кто помоложе и ближе стоял, так бросились даже помогать тем, кто были при веревках…
– Погружайте, погружайте паче и паче тресугубо окаянную дщерь ханаанскую! – как вол, ревел Прокоп Григорьич и удерживал людей, чтоб не вытаскивали назад Веклы.
– Слушайте меня! – со всех сил кричал Власович. – Ведь я же сотник. Я повелеваю, тяните назад! Она не всплыла наверх, так она и не ведьма.
– Не ведьма, не ведьма, не всплыла… не ведьма… тяните назад! – кричал весь народ, и уже писаря никто не слушал, и вытянули Веклу совсем мертвую, отвязали от веревок и, не кладя на землю, стали на руках откачивать.
Пока это делалося, пан сотник, отдохнувши после крику да хлопот, подозвал к себе Григорьича и спрашивает:
– Скажи мне на милость, за что ты повелел ее топить? Женщина еще не старая, и богатого, честного рода; не слышно было за нею никаких шалостей.
– Сужду по правоте и без всякого уклонения действую, – сказал Григорьич. – Оная суть хотя еще и без старости жена, но имать пенязей до беса! Просих, занимах и не поверила; страхи предах и не откупалася, яко-же другия-прочия. Сего ради размыслих ю погрузити и не исторгнута оттоле, дондеже не даст мне чего и колико прошу. Живуща, тресугубо живуща. Зрю, что уже ее откачали. А воздайте сюда Устю Жолобиху! – крикнул Григорьич караульным.
Притащили Устю, и то же все было, что и с Веклою. Только Устя, как пихнули ее в воду, так тут ей и аминь! Хотя и трясли, и качали, но ничем не помогли, так и осталась.
Спрашивал пан сотник у писаря и про эту; так тихонько ему признался:
– Желах, говорит, совокупится с ея дщерию, Одариею, крепко лепообразною; а она тресугубо нечествия, вместо желаемой девицы, восклонила в карман мой тысячеклятую тыкву и покри предняя и задняя моя срамотою, аки рубищем. Так это за оное дело такова ей пинфа…
Как вот помешал им Талемон Левурда, кланяясь низко, и просит:
– Будьте ласкавы, пан сотник Власович! Может, окунули бы немного и мою жену, потому чуть ли она не ведемствует…
– Давай ее сюда! – как будто пропел, так проговорил пан Забрёха. – У нас не попадайся: тотчас проучим; а наибольше тех, кто добрых людей, вместо рушников, кормят тыквою.
И вспомнил свое дело, вздохнул тяжело и, потупив голову, стоит.
А Прокоп Григорьич, еще только услышал, о чем Левурда стал просить, так и задрожал, как цыган на морозе; глаза у него засверкали, рожа вспыхнула, губы затряслись и едва-едва мог проговорить:
– А как ты… а за что… твою жену потоплять?.. Разве же она волшебствует?
– А как же не волшебствует? – говорил Левурда Власовичу. – Вот слушайте сюда, добродею! Раз десять такое мне привидение было, что в самую глухую полночь кто-то стучит ко мне в окно. Стучит-стучит, пока моя Стеха, знаете, жена моя, проснется. Вот как проснется да и выйдет из хаты, а я и засну; да уже перед светом воротится. Вот и я спрашиваю: где ты, – говорю, – была? – А она и говорит: ходила, – говорит, – к коровам, да вот это озябла и лягу. А я говорю: ложись; а она и ляжет, да, – говорит, – озябла, а сама, как огонь. Так это видите, добродею, она не для коров вставала, а колдовать, наверно, колдовать. А то, вот на той неделе, так я уже именно видел черта, вот я как вас, пан сотник, – пускай вы здоровы будете! – вижу. Вот видите, как: поехал я на ярмарку и располагал пробыть там три дня, но как сделался нездоров, так я в тот же день поздно ночью и воротился. Стук-стук в хату, жена не отпирает и с кем-то разговаривает да хохочет, и огонь горит у них; я как рванул дверь, так крючок и отскочил. Я вошел, смотрю… ан у нея в гостях черт… да вот, как видите, точь-в-точь как Прокоп Григорьич – пускай здоров будет! – такая ему и рожа, и одежда и все такое же. Я к черту, а он от меня; я за ним, а проклятый чертище в сени; я сенную дверь задвинул. Черт видит, что беда, да в трубу… Я как испугаюсь, как вбегу в хату да в постель… и что-то! И тулупом покрылся, а сам дрожу с перепуга, что видел черта и что моя жена с ним дружит. Вот я вам и говорю: не простая моя жена, совсем не простая. Всполосните ее хоть немного, авось дождь пойдет.
– А что ж? Так и всполоснуть! Пан писарь, а ну! – так сказал сотник Григорьичу… Как же тот прикрикнет на него, так что ну!
– Или вы обуяли? Или вы так просто одурели? Вам не довлеет никакого решения испускать без потребности моей; потому что надо всякое дело угобзить и законное присовокупление соединить. А ты, аспидова Левурда! Вот что касательно тебя, закон повелевает: оного неключимого Талемона Левурду, наваждением своим приведшего сожитие, свое, сиречь жену, до дружелюбия с сатаною, не при вас, Власович, говоря, убо подобает забити нозе в кладу. Агов, хлопцы! Поймайте его и водворите в ратушу и присовокупите нозе его до клады, поелику сам сознание учинил, что видел и осязал черта; следовательно, он есть колдун, волшебник. Воутрие киями избию сицевого грешника!
Пока это Пистряк рассказывал, а сердечного Левурду уже и потащили к ратуше. А Григорьич повел глазом, да с какою-то молодицею оглянулся, усмехнулся, закрутил ус да и крикнул на караульных казаков:
– А ну-те, водворяйте в преисподния воды Домаху Карлючкивну!
И после Карлючкивны только пузырьки вскочили… А громада, видя, что она не всплывает, зашумела:
– Нет, она не была ведьма… не была!
И Приську Чирячку, и Химку Рябокобылиху, и Пазьку Псючиху топили; и некоторых утопили вовсе, а других оттрясли. Народ же о полы руками бьет да удивляется:
– Да где ж, – говорит, – эта ведьма? Вот всех топили, и всякая тонет, а ведьма не открывается!
Никита Власович даже дремать стал; по его рассуждению, так уже пора бы и домой: будут ли дожди идти или нет, ему нужды мало, не станет своего хлеба, ему принесут, Конотоп не малое село; без ссоры, брани и позывов не обойдется, а все же прибегнут к сотнику. Так рассуждая, все знай зевает да поглядывает на своего Пистряка, что задумался и знай пальцем себе тычет то в лоб, то в нос. Думал-думал да и крикнул:
– Водвори сюда Явдоху Зубиху!
Притащили и ту, подвезли лодкою к сваям, подвязали веревками, потянули вверх… плюх!.. как об доску, так наша Явдоха об воду, и не тонет, а как рыбка сверх воды, так и лежит, и болтается связанными руками и ногами, и всем телом выворачивается и приговаривает: купочки-купуси, купочки-купоньки!
Весь народ так и ужаснулся!
– Вот ведьма, так-так! – закричали все. А Никита Власович, зевнувши, увидел этакое чудо, так рот у него разинутый и остался. А Прокоп Григорьич так даже танцует на берегу да знай на работающих кричит:
– Возтягните еще! Верзите во тьму водную!
Так что же? Как ни кричит, а Явдохе ничего не сделает. Подтянут, бухнут ее, сколько силы, в воду… так и не тонет, да и не тонет; да еще и смеется над всеми и все свое продолжает: купочки-купоньки!
– А вознесите семо камений и плинфоделания! – вздумал пан Пистряк. Так и явилась целая куча кирпичей и камней всяких, что хлопцы, услышав приказ, сразу бросились и нанесли.
– Возложите камения на нечестивую выю ея, и на руце и нозе ея, и паки потопляйте ее.
Так командовал Григорьич, подскакивая около пруда, да с сердцов даже зубами скрипит.
Проворнейшие навязали целую кучу каменьев на веревку, и, подвезши на лодках, всилу три человека подняли ту связку, да и наложили Явдохе Зубихе на шею, и думают: вот потонет. А она, вражья баба, и не думает; плавает поверх воды, да что освободили ей руку из веревки, так она ею плескается и подсмеивает:
– А что же? Намисто мне на шею навязали, а перстней и нет? Эге! Видишь, какие добрые! Дайте-ка и перстней на руки и вместо башмачков чего-нибудь на ноги.
– Сокрушайте тресугубо окаянную кощунку ханаанскую, дщерь халдейскую! – кричит как обваренный Прокоп Григорьич, да даже запенился как бешеный, видя, что ведьме ничего не сделает и что она над ним смеется.
Навязали на руки и на ноги каменьев, – божился тот человек, что мне про это рассказывал: а кто и говорил, когда знаете, Ефим Хвайда, что давно уже умер, а он слышал от своего деда – так божился, что пудов двадцать навязали ей на шею, на руки и на ноги да, освободив ее от веревок, так ее и пустили в воду… Так что же будете с бабою делать? Так и плавает сверх воды, и руками и ногами болтается, да знай приговаривает: купочки-купуси! А потом, вражья баба, отозвалася и к писарю, да и начала его кликать:
– А иди, Прокопочку, сюда! Будем вместе купаться… Иди же, не стыдись. Вот и тебе надену намисто, и перстней тебе дам…
А Григорьич даже весь чуб оборвал себе с сердцов, что и дрянная же баба да над ним насмехается… Потом бросился к Власовичу и говорит:
– Несомнительно, сия баба суть от баб египетских. Она, ехидна прелютая, похитила дождевые капли и скрыла у себе в чванце[204]204
Чванец – сосуд, посудинка. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть] или в ином месте. Повели, пан сотник, возмутить ее розанами[205]205
Розан – роза. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть], да претерпит до нестерпимости, и да распустит хляби водныя, и да оросится земля.
– Не пойму, пан писарь, что вы говорите, а скажу вам: делайте, что знаете, только скорее, потому что уже обедняя пора. Я бы уже давно улепетнул бы, так хочется смотреть на эту комедию, что на бабе целехонький воз каменья, а она не тонет, а плавает сверх воды. Делайте себе, что знаете, а я буду на готовое смотреть; я на то сотник в Конотопе.
Повелел Григорьич поймать в воде ведьму Явдоху, так куда же! Хлопцы лодками и не догонят ее; и веревками накидывают, так все ничего: так быстро плавает, как та щука, только впереди и сзади волна плещется. Известно, как ведьма плавает, уже вовсе не по-нашему! Плавала, плавала, юлила, юлила да как видит, что всех измучила, так и поддалась…
Что же? Взрадовался народ, как схватили ведьму Явдоху Зубиху! Все кричат, шумят, бегут навстречу к ней и за ней, всяк хочет туза или подзатыльника ей дать, да и есть за что: пускай не крадет с неба туч, не прячет дождей у себя в поставцах… Вот, как все бегут около нее и за нею, и ее даже несут на руках, боясь, чтобы она не вырвалась и не ушла, а она и ухом не ведет! Она поет свадебные песенки, как молодая, с дружками ходит. А наш Григорьич впереди ее, да даже бежит с радости, что таки напал на ведьму и что он ее теперь свернет в рог и вымучит из нее, чтоб отдала назад дожди те, что выкрала; да с радости такие балясы точит, что не только кто, да и сам себя не понимает, что он говорит. Потом и закричал:
– А дадите семо вербовых, и удвойте лозовых, и возглумите ее, елико силы вашей будет!
Где и розги взялись. Скрутили ведьму Зубиху Явдоху. Только чтоб класть ее, она как-то освободила руку да и повела ею кругом по народу; вот же слушайте, что из этого будет. Вот и положили ее; по два парубка сели на руки и на ноги, и два взяли пребольшие пучки розог да и начали хлестать; дже-дже, дже-дже… даже задыхались, бивши… Бьют-бьют, даже прутья летят… А что ж Явдоха? Лежа под розгами, сказку указывает:
– Был себе человек Сажка, на нем серая сермяжка, войлочная шапочка, на спине заплаточка. Хороша ли моя сказочка?
– Да бейте себе окаянную ханаанку! – заревел Пистряк. Хлопцы дерут, сколько силы, а Явдоха свое.
– И вы говорите; да бейте окаянную ханаанку! И я говорю: да бейте окаянную ханаанку. Был себе человек Сажка, на нем серая сермяжка, войлочная шапочка, на спине заплаточка. Хороша ли моя сказочка?
– Да дерите крепче! – крикнул, что есть силы, сам пан сотник конотопский Никита Власович Забрёха, что уже его крепко беспокоил тощий желудок и печенки к сердцу подступали, потому что и до сего времени не обедал.
Хлопцы переменились, взяли новые пучки и стали пороть… А Зубиха знай свое толчет.
– И вы говорите: дерите крепче! И я говорю: дерите крепче! Был себе человек Сажка, на нем серая сермяжка, войлочная шапочка, на спине заплаточка. Хороша ли моя сказочка?
– Соплетите розонацию из терния и удвойте удары! – командовал пан Пистряк, долго думавши, что бы с нею делать.
Хлопцы чешут Явдоху терновыми, и Явдоха свое…
Да и до вечера не переговоришь всего, что там было! Уже не только Григорьич Пистряк, но и сам сотник Забрёха начал сердиться, что нет конца делу: бьют, бьют бесовскую бабу, сколько рабочих переменилося, сколько розог перебрали, и вербовых, и березовых, и терновых, а ей и не досталось ничего, как будто только что легла и ни малейше не бита, и знай толкует себе «человека Сажку».
Вот же, как это все делается и аспидову Явдоху бьют, пролез сквозь обступивший Явдоху народ Демко Швандюра, стар-человек и не простой. Посмотрел-посмотрел, покачал головою и говорит:
– А что это вам за игрушка досталася? Или это пану сотнику знать скучно стало, так вы его забавляете, как малое дитя, что розгами порете, как будто кого порядочного, а не больше как вербовую колоду[206]206
Колода – обрубок бревна. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть]?
– Как колоду? Что он это говорит? Где там колоду бьют? – загудела громада и расспрашивает с удивлением.
– Где колода? Не видите! Смотрите же, – сказал Швандюра да и повел рукою по народу против солнца… Так что же? Удивление, да и полно!.. Тогда все увидели, что лежит толстая вербовая колода, перепутана веревками, и на ней сидят четыре пресильных хлопца и держат ее как можно, чтоб не вертелась; а четыре бьют ту колоду изо всей силы добрыми розгами как будто кого порядочного. А подле той колоды лежит сама по себе Явдоха Зубиха, и не связана, и хохочет, глядя, как хлопочут люди вместо нее над колодою. Так скажете, что и не удивление? Это она, как ее клали сечь, так она рукою повела, да на всех, кто тут был, напустила мару (обморочила); а Демко со свежими глазами пришел и увидел, что творится, и как кое-что знал и умел против чего что-нибудь сделать, то он и отвел мару от людей. Вот тогда только увидели, что били не Явдоху, а вербовую колодку…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.