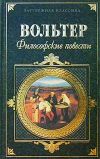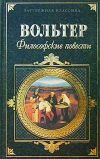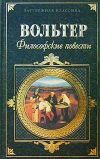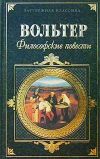Текст книги "Малороссийская проза (сборник)"

Автор книги: Григорий Квитка-Основьяненко
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 50 страниц)
– Итак, изволите видеть, – говорил он любопытствующим, – мы все одного происхождения.
Процесс с паном Тпрунькевичем он ведет с постоянным жаром. С товарищем же своим «по дипломатике» Осипом Прокоповичем рассорился формально. Тот вздумал поздравить его с успехом христиносов и с истреблением карлистов навсегда…
– Зачем забегать вперед? Я еще не начинал газет сего года читать. Хлопнул дверью и ушел. И с тех пор дипломаты наши уже не видятся. Осип Прокопович, расправляя манжеты, углубляется в европейскую политику и, сидя за своим бюро, растерялся над журналами, нагружая память свою иностранными словами, весьма слабо и смешно заменяющими русские слова.
Фенна Степановна, продолжая с Мотрею хозяйничать, не наудивляется Кириллу Петровичу, как он, человек с таким умом, тратит столько денег на процесс с Тпрунькевичем и издерживает на «этого дармоеда Хвостика-Джмунтовского», который ничего больше не делает, как пишет ябеднические просьбы.
Аграфена Семеновна не находит ни в самом Пирятине, ни в окрестностях его ничего подобного с Петербургом и скучает.
Эвжени все ожидает, чтобы ее какой жоли офисье пригласил уехать и обвенчаться.
Тимофей Кондратьевич Лопуцковский, отдохнув после неудачного сватовства, опять вояжировал из Чернигова уже в Коренную ярмарку, сделал там себе новую пару и, возвратясь, часто выезжает и чванится своим туалетом.
О Шельменко вскоре после свадьбы зашел разговор в семействе Шпака. Когда всякий высказал его услугу, то и открылось, что он действовал как Шельменко. А как последовали от него и новые проказы, то Иван Семенович и отправил его в полк, разжаловал из капитанских денщиков в рядовые. Он и теперь еще не приноровится в меру повернуться. Либо недовернется, либо перевернется.
Сердешная ОксанаЛюбій моїй жінці Анні Григорівні Квітка
Ничего нет в свете чище, нежнее, святее – и потому Богу приятнее, как чувство матери к детям! Сколько бы их ни было у нее, благословил ли Бог хотя бы десятью, или одно было бы, они для нежности ее все равны: каждого равно любит, равно печется и о каждом в одинаковой мере беспокоится. Девять здоровых, веселых, игривых круг нее, а одно мрачно, стонет, морщится, недугует – и она беспокоится о нем, тревожится, боится, чтобы еще сильнее не занемогло, чтоб не сообщило и из прочих кому своего недуга… Жаль страдающего, опасно за здоровых. Сердце ее разрывается на части!.. Ей не тяжелы никакие труды, заботы, лишения, лишь бы тем могла она доставить им спокойствие, утеху, отвратить скорбь. Ничто не тяжело ей в таких заботах, ничто не трудно в пожертвованиях. В резвостях, в шалостях детей она, не как отец, начнет унимать, увещевать, уговаривать – но и тут прокрадывается ласка: «Не делай так, миленький. Ты мне этим досаждаешь… Глядя на твою неисправимость, я тужу о тебе…» В большей вине она уже говорит сыну: «Ты меня заставил плакать, мне жаль ласкать тебя равно с другими детьми моими… Успокой меня, исправься». И над каким ожесточенным сердцем не произвели бы такие слова своего действия?
Вспомним свое детство; кто из нас не был тогда шалостлив, неопрятен, ленив, упрям, непослушен? Вспомним, что больше служило к нашему исправлению: отцовское ли взыскание или материнские выговоры, приправленные ласкою? А если к тому увидишь или только заметишь слезы, в дорогих для себя глазах ее… Господи милостивый! все глупости бросишь, все злое, нехорошее оставишь, и изо всех сил стараешься добрым поведением заставить ее забыть нанесенное ей огорчение. Она же прежде тебя все забыла. Святое дело, мать! Милосердый Господь в небесах, вместо себя, дал нам любовь родительскую на земле: отец наставляет со взысканием, и чтоб молодой человек от строгого преследования не пришел бы в уныние и не потерялся бы от строгостей, постоянно им испытываемых, тут благое провидение даровало ему нежность, кротость материнскую, с любовью и снисхождением, как есть Сам Господь милосердый к нам грешным.
Вот небольшой пример любви, кротости и снисхождения сердца матери при самом сильном поражении его.
Была вдова – оставим при них собственные имена, хотя трудные для произнесения взлелеянному французскими словами выговору; – но такие же люди, подобные Эрастам, Адольфам, Луизам, Эвелинам, носили их, пусть заинтересуют хотя странностью своею: – была Векла Ведмедиха. И что за женщина? На все село, где жила, разумная, рассудливая, богобоязненная и хорошего, честного рода. Сам сельский голова частехонько к ней за советом приходил, и она так рассуждала обо всем, что не только он, но и все старики не придумают так, как скажет она, и глядишь, все выходило хорошо. Она не хотела вмешиваться ни во что, не ходила к волостному правлению, никогда не расспрашивала, зачем собралась громада и о чем раду ведут; и не вмешивалась ни во что, но сама по себе знала все, и что к чему и для чего пригодно. Крепко разумна была!
Была достаточна. Имела землю, рабочего скота несколько, ветряную мельницу; оставшись же вдовою, распорядилась всем: землю отдала обрабатывать с копны, мельницу с мерки; и все условия сделала с честными, богобоязливыми людьми, чтоб не обидели ее, сносили условленное в срок и не приводили бы ее жалеть, что с недобрыми людьми имеет дело. Скотину продала и начала жить деньгами, без дальних хлопот, тяжких для женщины.
Умер ее Охрим, а тут объявилась ревизия. Вот после Семенова дня (1-го сентября) пришла она в волостное правление, поклонилась, как долг велит, голове и всем судящим и говорит:
– А что, пане голова, и вы, панове громада! Вот уже и Семена прошло, Святой Покрови дождемся скоро, а десятник не приходил ко мне ни одного раза и не заказывал о взносе подушного.
– Да твой Охрим умер! – сказал голова.
– И состоит исключённым из ревизских сказок и из общественных ведомостей! – так подхватил писарь, оставивши писать свое и потрясши кудрями.
– Знаю больше всех, что он умер, – говорила Векла, – знаю и то, что он стоит заключенным у ведомости, как пан писарь называет по-письменному, по-грамотному; но я все-таки хочу платить за моего Охрима, пока сама живу. Благодарю Бога, есть из чего взносить мне за него! И мне веселее будет, что я плачу за моего Охрима – пусть он царствует там! Притом же буду чваниться, что и я, словно мужчина в свет, туда же за добрыми людьми взношу царское и на войско, что нас оберегает. Да из общественного не выписывайте: пусть и я взношу, почем там у вас положено с души.
– Как это можно, – говорил, удивляясь, голова.
– Казусное дело? – отозвался писарь, толча себя пальцем в лоб, – не имеется примера. Нужно-надобно испросить разрешения от их высокоблагородия, господина земского исправника.
– Не нужно никому и разрешаться, – сказала вдова, – и ты, пане писарь, не разрешайся и не дури; а вот что, панове громада, сделайте: выпишите какого калеку или бедного сироту, а с меня взыскивайте. Пусть-таки и я не даром живу на свете.
– Разве так! – ну, когда так, так и так!
Загудела громада обычное свое на сходке слово «так», чтоб не долго придумывать свое, и пос тановили по желанию Веклы. Вот и пошла по всему селу слава, что Векла стоит в ревизии и платит подушное; а она говорит на то: «Так и надобно. Лучше же мне от достатка платить, чем последнее взыскивать с сироты или убожества. Ведь же и я у царя нашего и обережена, и успокоена, как и всякий человек: смогу тянуться за людьми. Отдам дочь, приму к себе зятя, тогда и за двух платить буду».
Она уже вот-вот ожидала зятя. Вот-вот, в Филиповку, после праздника Зачатия Св. Анны (9-го Декабря), как следует, по порядку, начнут швандять по селу старосты и высватывать девок, и будут у нее, потому что ее дочь, Оксана, как дождем Рождественского мясоеда[301]301
Рождественский мясоед или Домочадцев день. Этот день напоминал о том, что семейное согласие – самое дорогое, что может быть у человека.
[Закрыть], будет уже шестнадцати лет. А что же это за девка была? Беляночка, живая, проворная, ко всему скорая, на речах бойкая, против всякого учтивая, приветливая. Где она, там от нее смех и хохот, игры и забавы. Как у матери не было никакого хозяйства, а жила все с копейки, то Оксане нечего было работать. Управилась ли с хлебами, посадила их в печь, скорее к подругам: те ждут ее, ожидают, как ласточки весною, потому что Оксана как защебечет, как забаляндрасит, так весело всем, всяк готов хоть целый день слушать ее; а рассмешить – ее подавай! Если бы мертвый мог слышать, как она точит балясы, то и тот расхохотался бы; а о живых и говорить нечего, что, где она в беседе и ращебечется, там ложатся от смеха. На улице, на вечерницах, в колядке наша Оксана всем перёд ведет; без нее не знали бы, что и делать.
Мать начнет было удерживать ее:
– Сиди, доню, дома; чего ты бегаешь? Зачем не работаешь? Возьми, да либо пряди, либо шей; до сей поры ничего не умеешь.
И она кинется к матери на шею, начнет обнимать, целовать ее, приговаривать:
– Матусенько родненькая, рыбочка, голубочка, перепелочка! Не удерживай меня. Как я еще молода, то пусть погуляю, словно как птичка на свободе под небесами летает. Буду вспоминать свое девованье, что я у тебя, как рыбка в речечке, гуляла, свободна, весела; куда хотела, туда плавала да благодарила тебя, что ты, моя матиночка, была ко мне жалостлива, добрая, баловала меня. Вот уже как выйду замуж, вздену очипок, тогда уже некуда гулять; тогда остепенюсь, примусь работать, рук не положу, мужа и деточек буду обшивать, и тебя, мамочка, что ты у меня была такая добрал, жалела меня, всюду пускала гулять.
– Когда-то еще будет? – станет мать говорить, – привыкла бегать да гулять, так кто присадит тебя за работу? И умеешь ли ты еще сработать что? Нитки не выведешь…
– И уже ты, мамо, мне этого не говори. Я и смотревши, как ты работаешь, всему научилась. Дай-ка гребень сюда.
И тут же выхватила у матери гребень и начала прясть… веретено шумит у нее, а она выводит нитку… тонкую, долгую, ровную, а сама весняночки припевает. Старуха смотрит да удивляется.
– А что, мамочка, скажешь теперь, что прясти не умею?..
И кинет гребень, примется за рушник, что мать вышивает ей на приданое; и начнет такие же цветки вышивать, как и мать, а сама почнет петь свадебные песни, припевая к себе, будто она идет замуж. Тут мать только всплеснет руками и рада бы то, что такое добро растет и весело, отрадно ей быть с нею, держать при себе, но жалеет, чтоб она не скучала, не затосковалась бы… боится и отпускать ее, чтобы иногда… девочка молоденькая… чтоб не погубила славы… Подумавши и се и то, потом, едва сквозь зубы, начнет говорить:
– Иди же себе…
А та уже вскочила, уже на шее у матери, ужо выцеловала ее, уже и выбежала… и дверей не затворила… уже только слышно, что идет по улице и песенки распевает.
Пускай же мать хотя немного поморщится, что или не здорова, или о чем взгрустнёт; тут уже Оксаны не выгонишь ничем из хаты: все забыла, все покинула; хотя бы самая первая приятельница просила бы ее в дружки, не пойдет ни за что уже от матери ни на шаг: все глядит ей в глаза, все спрашивает: «Что у вас, мамочка, болит? Не хотите ли чего? Не рассердила ли я вас чем, да вы не говорите, а только стонете и жалеете меня?» И уже как пристанет, то и отведет от матери всякую тугу, печаль, и хотя бы точно мать была чем не здорова, то Оксана ее разговорит, развеселит до того, что больная забудет свою беду.
А как бы весела ни была, но лишь увидит старца, калеку или потерпевшего от пожара, тут она оставит все, тотчас к нему, распытывает (расспрашивает), возьмет за руку, поведет к себе, накормит, наделит чем бог послал, даст на дорогу и проводит за село: только и видно ее, как она около бедности увивается да все слёзочки утирает. Наделила, проводила, слёзки утерла… бежит… уже опять в беседе и опять верховодит по-прежнему: весела, жива, говорлива, как и была.
Только же настает весна и теплое солнышко слижет с бугорков снег, Оксана и собрала свою команду; бросилась из конца в конец села, ведет целую свору девок и приговаривает:
– Зачем вы будете сидеть в хатах? Бог даст весну, солнышко пригревает, и самый ветерок тепленький. Полно вам по-за печью тереться. Неужели не наскучило вам сидеть на одном месте через долгую зиму? Будете старые, тогда належитесь на печках, нассоритесь с мужьями, набранитесь с детворой. А чем станете вспоминать свои молодые лета? А чтоб вам весело было! (Это у нее самая сильная брань была.) Нуте-ка, давайте, побежим!.. беритесь парами, в хрещика, ворона, поведем кривого танца, коровода, кострубонька, в жены.
И пошло у них веселье! – и что же вам сказать? Все девки красивы, убраны, разряжены… да ба! ее заметно от всех. Такая же байковая юбка (корсет) с рукавами, такая и плахта и запасочка, и косы так же прибраны, и, кажется, так же рушником подпоясана, все-все так и у нее, как у прочих девок… эге! да что-то не так. Все на ней так ловкенько, опрятненько, ощипано, всем девкам краса: только на одну ее и смотришь.
И вот, лишь заслышали девичьи песни на улице, то и полезли из хат старые деды и бабы, а молодые женщины даже выбегают; да что? детвора вся высыплет из хат, и все говорят:
– Пойдем-ка на вдворья (посидеть за воротами), уже Оксана разгулялась. И посядут все на улице на призьбах хат, на колодках и где можно под плетнями. А парубочетво (молодые парни)? Те, вырядившись по-своему, шапки набекрень, люльки закурят, купами ходят кругом девок и, глядя на Оксану, только облизываются. Они, и весь народ, что собрался на улице смотреть, ее одну видят, на нее одну смотрят, про одну ее говорят… Вот девки и спаровались играть в хрещика, вот и гробы (пара, которая должна ловить других) стали… и пустились… только посвисти: фить-фить!.. Не родился тот человек, кто б поймал Оксану! Кто бы ни стал гробами, хоть бы из парней шибко бегающий, и не говори, чтобы поймать ее! Кто ее знает? Все бегают, то под ними даже земля стугонит (гудит); сами задыхаются, засапаются, спотыкаются… Побежит же Оксана, так на удивление! Бежит, точно муха летит, до земли не дотрагивается, только и заметно дробит ножками, а рученьками не размахивает, а будто и протянет, чтоб поддаться, но только лишь бегущего допустит к себе близко; вдруг… скок, скок, скок… только и видел ее! Сама же не согнется, не сгорбится, точно, как струночка!..
Набегались в хрещик, заморила всех; давай хороводы водить. Повела «кривого танца», так что ж? других девок и не видно за нею. Как зоренька вечерняя, между всеми звездочками, как уточка, плывя по воде, так она выклоняется, головкою поводит и веселенько поглядывает на всех… а как начнет петь песенки, знаете, что при хороводах поют, так точно флейточка или серебряный колокольчик… Все прочие поют во все горло, во весь рот, а она и губонёк не растворяет, да ее голосочек слышен из-за всех… да так за сердце и берет… все бы слушал ее одну…
Каково же было Векле, матери ее, глядя на свою доченьку, что, хоть и дитя ее, а каждой матери свое дитя лучше всех, а тут сама видит, слышит, что ее Оксана – краса всему селу, и что все люди собрались затем, чтоб глядеть на одну Оксану, и что все, в один голос, не умолкая, хвалят ее милую Оксану. Когда вечером придет Оксана уже домой, тут мать целует-целует свою доню и приговаривает:
– Ты моя доненько… моя ластовочка!.. ты моя краса… ты моя слава, через тебя я и весела, и здорова, и от людей в почет!.. Ты веселишь мою старость, ты держишь меня на свете!.. – и всякими такими приговорками долго-долго ласкает дочь свою.
А Оксана будто и молчит? Ну, ну! и она, отвечая ласками на ласки матери, также приговаривает:
– Мамочка, голубочка, моя родненькая! я же вся в тебя… у меня твоя натура… Лишь бы ты была здорова, весела да не переставала любить меня, так я земли под собою не чувствую; мне так легко, полетела бы я, словно птичка. Оттого, что ты так любишь и жалуешь меня, я такая веселенькая и ни о чем не думаю, только чтоб угодить тебе и развеселить тебя. Ты же у меня одна, матусенька: нет у меня ни батеньки, ни сестрицы; ты мне и солнышко, и месяц, и здоровье, и счастье!.. Знаю, что и я у тебя одна, как та порошинка в глазе, то и я держу себя так, чтоб ты веселилась через меня до конца веку своего, чтоб радовалась, глядя на меня и слыша добрую славу обо мне. Мамочка моя родненькая! не отдавай меня замуж! Мужа надобно любить, а я не хочу, не умею, не умею никого любить, как только одну тебя, матусеньку мою, зореньку мою!..
Векла слушает ее и не наслушается. Смотрит ей в те глазочки, что блестят, как синее небо; смотрит, любуется… поцелует их, перекрестит дитя свое, вздохнет, возведет глаза к Богу милосердному, подумает: кому такое добро достанется? всплакнет – и станет молиться Богу.
Такая девка, как наша Оксана, неужели не занимала парубков? Не знаю! Был ли хоть один из них, чтобы не дорожил ею? Каждый бы заслал сватов к ней, так боялись «гарбуза» (тыкву получить, в знак отказа). Не один решался затрогать ее, так, знаете, жениховским делом… так куда? ни приступу! В беседе говорит со всеми, хохочет, подсмеивает, и что хочешь говори ей, она будет слушать. Попробуй же затрогать ее, или пихнуть, или ногу подставить, когда идет она, чтобы споткнулась (первый приступ познакомиться с девушкою), как водится у парубков с девкою, нравящеюся ему… Не знаю! она так отбреет, так пристыдит всякого, что не будет знать сам, на какую ногу ступит.
Которые посмелее, так те так, напрямки станут говорить:
– Оксана! Я тебя полюбил щиро (искренно), крепко полюбил. Вот у меня такое и такое имущество, есть то и то. Знать нужды не будешь… скажи: присылать сватов?
Она тут же и отвечает:
– Благодарю тебя, добрый человек, что ты меня заметил между многими и думаешь, что я могу сделать твое счастье. Мне весело, когда обо мне такие люди, как ты, думают так. А сватов не беспокой. Не то, что именно за тебя, я и ни за кого не хочу.
Так было и матери скажет, когда к ней придут сами отцы или матери, чтоб сватать Оксану за сына. Векла людей разговорит с ласкою, попотчует да с тем и отпустит, а сама пристанет к дочери:
– Сделай милость, скажи ты мне, Оксана, где твой разум, где голова? Отчего ты нейдешь вот за этого жениха? Ты отказала наотрез тому и тому (тут и напомнит ей всех, кто сватал ее), а вот и тут тоже. Когда бы сказать, люди какие-нибудь, а то люди на все село. Что ты думаешь с собою, милое дитя мое?
– А то думаю я с собою, мамочка, что не хочу замуж за мужика.
– Что ты это вздумала, доню! – даже вскрикнула Векла, всплеснув руками, – не одурела ли ты? За кого же думаешь ты выйти?
– Ох, мамочка родненькая! Часто я и сама про себя думаю, что чуть ли не обожеволила (помешалась) я! А уже как хочешь: брани меня, хоть бей, и как вздумаю выйти за мужика, так мне и свет не мил! Видишь ли что? Как и поднялась я на ноги, росла, выросла, то и от тебя, и от людей слышу, и сама вижу, что я хороша и красива так, что и в селе нашем нет такой. Да как еще и натура у меня такая веселая, что меня все любят, так у меня и зароилося в голове: не мужику владеть мною; не хочу за него и не хочу! Вышедши за мужика, бросить надобно думки, как убраться, как нарядиться, а ступай на огород, в поле, дома возня с хозяйством, толкись с детворою и только и знай, что стряпай, мужу угождай, слушай его и уважай; когда же и побьет, так ты терпи. Нет, не хочу за мужика!
– Кого же тебе надобно? За кого ты думаешь выйти?
– А вот, мамочка, что. Когда бы мы жили в городе, то я, с своею красою, скоро нашла бы себе какого паныча. Как же мы живем здесь, в селе, то только и надеяться можно выйти за какого купца или поповича. Ох, матусенька моя! Если бы мне такое счастье! А как люблю я жить в роскоши! Не нужно ни о чем хлопотать, о работе и не вспоминай; только ешь и пей все хорошее, и наряжайся, сколько душе угодно. Вспомнив же, как я тогда буду тебя в старости лелеять, так от радости себя не помню! Буду тебе угождать, нежить тебя, чего только пожелаешь, все буду доставлять тебе. Сама ни съем, ни сопью, только о тебе буду заботиться. Мужик же не доставит мне такого счастья.
Долго и быстро смотрела на нее старуха Векла, потом как заплачет, как вскрикнет:
– Господь милостивый! В самом деле, Оксана, ты не о своем уме! Откуда такие думки нашли на тебя?.. Я, я виновата, что натолковала тебе о твоей красе. Матери свое дитя всегда кажется лучшим от всех. Положим, что и так: да разве же наши красивые девки выходят за панычей? Нимало! Будет хороша, как тот цветочек, а таки выходит за хлебороба; с ним работает в поле и дома хлопочет; краса ее не пропала, деточек народила и благодарит Бога! дочери ее так же красивы, как была она. Вот и я же: и я была девка на все село. Не только славилась в своем селе, но и проезжающие даже паны, как увидят меня, что даже из коляски выглядывают, смотрят и все хвалят; иной даже шапку снимет да скажет: здравствуй, красавица! Так я же не подумала ничего и не загордилась, и как случился человек достойный из наших, вышла за твоего отца, за Охрима; хотя он был уже вдов, но как честная душа была, то я, по своей охоте вышла за него и, хваля Бога, жила с ним благополучно. Эй, доню! кинь такие гордые думки. Это тебе смущение от нечистого… Господи, оборони нас от него! Гляди только, чтоб тебя эти думки не завели в погибель, от чего да сохранит тебя Матерь Божия!
Тут обняла дочь и начала ее крестить и целовать.
Оксана говорит:
– Как хочешь, мамочка, а эти мысли не отходят от меня! Буду слушать, что ты станешь говорить мне, и сама разбирать буду.
Часто так толкуя все об одном, мать то просьбою то слезами довела-таки дочь до того, что она сказала:
– Что ж, мамочка! выйду уже и за мужика… лишь был бы честный и уважительный против тебя…
Как вот и случился скоро парень важный. Один себе, ни отца, ни матери, некому будет управлять. Сам себе хозяин: и добра всякого, скотины ли, поля и прочего, всего немало. Парень молодой, друзяка, работящий, смирный, не пьющий, и уже ни с кем не зассорится, не завздорит; собою чернявый и красивый.
Старуха Векла обеими руками схватилась за него. Петром звали; да и сама Оксана, нечего было сказать, сяк-так, принуждена была сказать:
– Пойду… только пусть осенью.
– Нужды нет, мы и подождем! – обрадовавшись, сказала Векла. Далеко до осени! – и рассказывать не хочется.
В это село, где жила Векла, пришли солдаты на постой. Что тогда сталось с девками! Не помнят сами себя от радости!.. Вспомь-ка, братцы, и мы свои молодые лета. Как весело встречали и радушно принимали нас девушки в новом месте, где мы появлялись. На своих же, местных, и смотреть не хотели. Известна девичья натура: сегодня любит красное, завтра зеленое, а красное бросает и не думает о нем… А уж наиболее как увидят военных… У-у-у! тут они сами не свои. Лишь бы как завидеть мундир, а еще пуще «усы», тут все забыто! Ничего не слышит, не видит, ни о чем не думает, кроме «усов». Такая натура у всех девушек. Премиленькая!
Так было и теперь. На своих парубков никто из девок и не глядит: все у них солдаты и солдаты на уме. Подавай их и на улицу гулять, и на вечерницы, и везде. Как же! Царские служивые не то думают: ему надобно амуницию исправить, мундир приготовить, отдохнуть, так гулять с девками им некогда. Мало ли они света прошли, и везде им девки вешались на шею, так и стали для них нипочем… Девки же, видя, что постояльцы не затрагивают их, принялись за свои хитрости: уберутся, разрядятся так что ну! и в самую тихую пору, как солдаты соберутся на ученье, вот Мелашка схватит ведра и идет за водою. Как раз против солдат повстречалась с Наталкою, идущею за чем-то к дядьке. Вот как встрелися да и давай балагурить то о скиндячках (головных лентах), то о черевичках, да и не знать о чем, как тут – глядь! оттуда Домаха, отсюда Ивга, а там Феська, да Федора, да та, да эта – и насобирается их немало. Балагурят между собою, а чаще все говорят, и никто никого не слушает, да и посядут на колодках, сложенных на площади, и продолжают болтать… а на солдатов будто и не глядят; как напротив, жилки дрожат, думая: когда б вот тот высокий да чернявый затрогал бы меня. Так и каждая сидит хоть до позднего вечера. А матери их одно: ждут дочек – нет их. Нечего делать: сама старуха воды принесет, печь растопит, ужин сварит, все думая: «Ничего! пусть девка погуляет!»
– Где ты это, доню, так долго была? Ведь уже не рано. Отчего так запоздала? – спрашивала мать Оксану, воротившуюся домой вовсе в сумерки.
– Где была? – отвечала она, раздеваясь, и снимая свои уборы, и упрятывая по своим местам. – Где была? Смотрела с девками на москалей. Как они славно выкидывают муштру, точно, как один человек. Это все учит их старший. Говорят, что и из всей команды нет старше его. Да какой он, мамочка, разумный! Да как его все слушают! Что скажет, так все и поспешают делать. Когда крикнет на них, чтоб подняли ружья, то они, как раз и поднимут, даже забренчат все… Так весело, что не можно! А куда скажет им идти, направо или налево, только крикнет, так никто и не поспорит, стеною так и идут. То-то, я думаю, он разумный! А что уже красив, так и меры нет… Ты, мама, солила… дрова?
– Что ты, что ты, что ты? Бог с тобою! – крикнула Векла на дочь, увидевши, что та набрала в горсть пшена и начала посыпать по припечью, словно как будто солит что. – Или ты одурена, или обожеволила? Что ты это делаешь?
И отнявши у нее, сама занялась стряпнею.
– Видишь!.. Тьфу!.. – опомнясь, сказала Оксана и, схватив веник, начала мести хату… Тут опять крикнула мать на нее, попрекая, что делает вовсе не то, что надо.
– В своем ли ты уме? Выметать хату, когда я готовлю все к варенью. Напылишь и все испортишь. Вот это уже насмотрелась на солдат, и они у тебя в голове…
– Нет, мамочка, чур им! Будто уже все на них и глядеть, как учит их вот тот… А как громко кричит! Его далеко слышно. Уж так это голос! Как станет перед ними, то словно орел!.. Сам же высокенький, пряменький, как стрелочка, усы есть небольшие, красивенькие… собою чернявый…
– Кто там такой чернявый? – заправляя борщ, спрашивала мать у Оксаны, сидевшей на подмостках, сложивши ручки, и все рассказывавшей только о своем.
– То я, мамочка, так себе… то я про старшого… – И задумается… А потом опять примется говорить; да начнет с Наталки, а сведет на старшого; рассказывает про Мелашку, а сведет… все-таки на старшого. Мать же, знавши, что ее белоручка, как не захочет, то не примется ни за что, оставила ее, сама варит и хлопочет, не слушая, что рассказывает дочь.
И за ужином Оксана намекала про старшого, но как мать не расспрашивала и вовсе не слушала рассказов ее, то она и замолчала… и уж, наверно, всю ночь нашей Оксане снились солдаты… а не так солдаты, как их старший…
Утром, сработала ли что или нет, а уже по привычке побежала к подругам, подговорила их опять собраться и смотреть на ученье, условилась и весела. Не совсем пообедала с матерью, а уже и побежала, уже на колодках, уже смотрит… Собравшиеся офицеры и капитан, в ожидании пока солдаты собирались, начали с девками разговаривать, шутить, смеяться. Капитан же, заметив Оксану, начал хвалить ее, какая она красавица.
– Сколько, – говорит, – ни походил по свету, сколько чего ни видал, а такой красавицы не видал и между барышнями. Это, – говорит, – чудо!
Все это слышала Оксана и, как на огне, горела. Потом подошел к ней… она желала бы сквозь землю провалиться, исчезла бы, забежала бы на край света…
Вот он и начал расспрашивать ее… так что же? Спрашивает:
– Где ты живешь? – а она отвечает:
– Ок… са… на.
– Есть ли у тебя мать? – а она говорит:
– После… обеда.
И сама не помнит себя, не только чтобы знать, как отвечать. Потом он потрепал ее по щеке и сказал:
– Не стыдись, душенька; мы познакомимся с тобою. Тут она чуть-чуть не сказала:
– …Я уже вас полюбила!..
К счастью ее, язык не поворотился… застыдилась и света не взвидела… Прочие же девки, подруги ее, уже хохочут, даже познакомились с другими офицерами, не как Оксана, что не подберет слов, как отвечать ему. Пока солдаты учились, капитан частенько поглядывал на Оксану, а она глаз не сводила с него, везде преследовала его взором, и сердечко в ней так и бьется, как рыбка, поймавшаяся на удочку; в душе ей так весело, превесело, что и рассказать не можно!..
После всех девок Оксана пошла домой. Солдаты разошлись, и когда капитан, идучи на квартиру, поравнялся с нею и сказал:
– Прощай, красавица!
Так она, не помня себя от радости, прибежала к матери, рада, веселенькая, смеется, щебечет, бегает, сядет, опять вскочит, кинется матери на шею, рассказывает, где была, что видела, с какою девкою говорила, как солдаты муштру делали, а про старшого ни полслова! Около него что было, все рассказывает, и только б назвать его, она и замолчит, задумается, вспыхнет вся, как жар… Тут закраснеется, застыдится, рученьками закроется, перемолчит… и опять за свое; бросится прибирать, того и гляди: то разольет, другое опрокинет, иное разобьет… Мать станет ворчать на нее, а она шутит, хохочет… и развеселит старуху.
На другой день Оксана прежде всех побежала глядеть на муштру солдатскую. Что же… ее капитан уже с другою девкою стоит: шутит, затрагивает ее… а девка эта – видишь какая? При людях, среди улицы и, куда еще до вечера, она смеется, хохочет от радости, что подружилась с капитаном… Так думала Оксана, глядя на нее; да – или ей досадно было на капитана, что он, где завидел девку, и начал ее затрагивать – и стыда ему нет! Так думает она; или стыдно за девку, что не уходит от него, а сама стоит с ним и разговаривает; – только она от этого побледнела, затряслась и скорее воротилась домой… Но, если правду сказать, Оксана и сама не понимала себя. Она полагала, что справедливо думает, а на поверку ей было досадно, что капитан затрогал другую и говорит с тою, а не с нею… Знаете, в ней сердечко молоденькое, сама себя не поймет: полюбила капитана, защемила сердечко, да как в первый раз, так она и не понимает, что делается с нею…
Вот в таком-то горе воротилась она домой и едва-едва дошла… И все у нее на мысли эта девка, что не постыдилась разговаривать при всех с капитаном… Да и капитан… видишь какой? Пусть бы возился с своими солдатами; какое ему дело к нашим девкам? Разве мы ему ровня?.. Играй он с своими барышнями!.. Да оно и не было бы ничего, если бы она ушла, а то стоит и хохочет… У! Бесстыдница!.. Повидела б ее мать, что бы тогда было ей?.. Вот так-то она все сердилась и винила то девку, то капитана, и в хату свою вошла, как будто не она. Смутна, не весела, глаза потупила, сидит, с места не двинется и молчит, как стена.
Чего ни спросит мать: «Не знаю… не видела… не слышала… не присматривалась». – Вот и весь разговор. Мать занялась ею:
– Может, хочешь сего-того? – развлекает ее, а Оксана и не слушает. Не захотела ужинать и, лежа, все вздыхала тяжело… у ней была все одна думка… как подумает, что девка не по берегла себя, а капитан будет смеяться над нею, так у нее даже запечет в сердце, и она – сердешная! – не раз принималась плакать… все о чужой беде, как думала она…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.