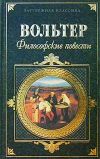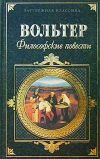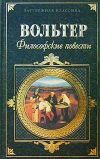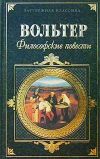Текст книги "Малороссийская проза (сборник)"

Автор книги: Григорий Квитка-Основьяненко
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 50 страниц)
Страдает наш Левко в оковах, заперт в «холодную». Проходит день, другой и третий. Караульные не пускают Ивги и близко. Она приносит ему есть, а больше всего ей хочется выспросить, на что он брал эти проклятые деньги? Хотела посоветоваться, как бы выпутаться из этой беды и затушить все дело. Так караульщики гонят ее прочь… Воротится, сердечная, домой и за слезами света не видит!
Тимоха же не нарадуется, что упёк Левка, принялся хозяйничать, сам не уважая ни в чем горюющей Ивги, а все водится с писарем… И вот чудно: не Тимоха угощает, а писарь все потчивает Тимоху и все обнадеживает, что Левка сошлют в Сибирь, наказавши плетьми:
– Я, – говорит, – так заправил делом, написал все и даже то, что он сам во всем сознался; все хорошо обработал и избавлю тебя от врага и супостата. Сестру же, хоть принудь, а выдай за меня. Мне не нужно ни имущества и ничего, только одну ее, все тебе оставлю.
Хотя же он так и говорил, но обманывал Тимоху: ему не Ивга нужна была, а имущество. Как же его было очень много, так он располагал Тимоху за худое поведение отдать в солдаты, а самому управлять всем; со старым же Макухою думал управиться так:
– Подведу, чтобы его, как богатейшего в селе, избрали сборщиком податей, да и запутаю его в счетах. Тогда отберу у него все. Когда поддастся, то и оправлю его дела, а если нет, то не отвернется, упрячу его на поселение. Туда ему и дорога! Ивгу приколочу раз несколько, поневоле не будет мне мешать ни в чем… Тогда, разбогатевши, при моем даровании, наверно буду заседателем… Хем, хем!
Писарские замыслы!
Дня четыре не было ничего… Как вот прибежал передовой казак с известием, что за ним едет и сам пан исправник. Бросились собирать у хозяев кур, яйца; послали в город накупить и ренского (виноградного вина, какого бы ни было, все называемого «ренским») и за французскою водкою. Как же назавтра была пятница и пан исправник в этот день ни за какие блага скоромного не кушал, то и приказано купить кавьяру (икры), крымских сельдей, свежепросольной осетрины, лучшей рыбы свежей, раков и булок.
– Известно, их высокоблагородие для нас трудится и беспокоится, так и нам, со своей стороны, должно во всем его успокаивать.
Так объяснял голова с писарем на сходках при часто случающихся издержках подобного роду.
Как вот прискакал и пан исправник, с двумя колокольчиками, с письмоводителем и в препровождении двух казаков…
– Где квартира? – спросил он грозно.
Повели к Макухе. Но прежде выгнали всех остановившихся там проезжающих, которых уже, без Ивги и Левка, не очень много было: от непорядков начали оставлять этот постоялый двор.
Войдя в хату, исправник прежде всего помолился Богу, а потом и закричал:
– Есть ли что обедать?
– Есть, ваше благо… тее-то… ваше высокоблагородие, – отвечал писарь с унизительною покорностью. – Но не соизволите ли прежде всего следствие…
– Пошел вон, дурак! – закричал на него его высокоблагородие, затопал ногами и следствие, которое писарь подносил, соизволил швырнуть ему в рожу:
– Что ты меня моришь делом? Я и без того измучился. Сними с вора допрос и подай мне после, а я теперь хочу обедать.
Поплелся наш писарь, ходя на цыпочках, боясь обеспокоить его высокоблагородие шумом ног своих. Вышел в сени, за хату, и начал писать допрос, будто записывая слова самого Левка, которого он со дня заключения и в глаза не видал. Пан исправник же между тем соизволил обедать знатно! Только что изволил откушать, как уже писарь и подбежал к нему на цыпочках.
– Не соизволите ли подписать допрос, ваше высокоблагородие?
А их высокоблагородие соизволил, стуча крепко ногами, выругать еще его, что мешает ему лечь отдохнуть после обеда, и прогнал его, повелев повальный обыск об арестанте учинить и кончить к пробуждению его.
После отличного мирского обеда пан исправник «опочивал», потому что много трудился с курятиною и яичницею. Письмоводителя же Тимоха Макушченко, употчивавши, сколько можно лучше, пригласил купаться и потом полежать в лесочке, куря трубки. А между тем пан писарь собрал людей большое число, привел к волости и начал спрашивать:
– А что, люди добрые! Кто знает, есть ли за Левком, приемышем Макухи, какие качества?
И замолчал, только пером поводя по бумаге. Старики пожали плечами; кто покашливает, кто палкою землю ковыряет, но все молчат. Наконец один из них вышел и сказал:
– Это про Левка?.. Про Макухиного приемыша?.. Есть ли у него качества?.. Гм, гм!.. Пускай Бог сохранит! Нет за ним ничего. Я дам присягу и должен сказать по правде, что он дитя доброе, хлопец смирный, работящий, и если бы не он у Макухи присматривал с Ивгою за порядком, то до сих пор ничего бы не осталось…
– Так ли все говорите? – спрашивал писарь, а самому крепко досадно было, что хвалили Левка, но… нечего делать!
– Все, все в одно слово говорим, как присягали… – зашумела громада.
– Хорошо же, хорошо. Давайте руки и идите по своим домам. Отобравши от них руки и отпустивши их, начал писать по своей воле, что такие-то из-под присяги показали, что Левко воряжка, бездельник, бродяжничает по другим селам, к домостроительству не способен, в воровстве, пьянстве, драках и прочих качествах упражняется частовременно и что им довольно известно, что хотел обокрасть хозяина своего, и потому они не желают принять его на жительство и просят или отдать в солдаты, или сослать в Сибирь на поселение. Такой обыск не побоялся пан писарь греха подписать за всех тех людей, что давали ему руки в одобрение Левка, а он, видите, как дело искривил!.. О писарская душа!..
Такие же точно и свидетельские показания написал: кто вынимал деньги из кармана, кто их пересчитывал, как Левко их отнимал, как в том признавался – и все, все списал и подписал за них, чего они и не думали говорить. Собрав следствие, явился у квартиры исправника.
Тот, выспавшись любезно, вызевавшись, вытянувшись раз десять, встал и велел потчивать себя чаем. Подливая французской водки, пьет чай и курит трубку. Как вот, после седьмой чашки, крикнул:
– Писарь! Поди сюда!
Вошел наш писарь, тихо ступая, и стал у двери, быстро глядя в глаза пану исправнику. А мысль так и бегает у него сюда и туда, что о чем бы то пан исправник его ни спросит, чтобы тотчас и отвечать: о недоимке ли, о дорогах, или о проходящих командах, или о наделении жителей землею; у него все уже подобрано, на все ложь готова – и, как его ни расспрашивай, он изворотится, отбрешется.
– А что следствие? – спросил пан исправник.
– Окончено, ваше бла… тее-то… ваше высокоблагородие! И допрос, и свидетельские показания, и метрика, и обыск…
– Покажи. Это письмоводитель производил?
– Нету, ваше высокоблагородие! Их благородие отлучался ради телесной чистоты в оное место, сиречь, на речку, измыть плоть свою. Так я, дабы неудержанно…
Пан исправник долго переворачивал листы и потом сказал:
– Исправно, хорошо. Так и наш заседатель Марко Побейпечь не сведет концов… Хорошо, я все подпишу дома. Вели запрягать лошадей… Кто там хнычет на крыльце?
То плачет наша бедная Ивга, что нетерпеливо ожидала исправника, надеясь, что он, по обязанности своей, защитит ее Левка. И когда он приехал, так она не отходила от «холодной», ожидая, что поведут Левка к исправнику, так и она пойдет за ним и будет слушать, что он покажет при допросе: какой нечистый научил его отбить отцовский сундук и взять деньги?
На вопрос исправника пан писарь проглотил душу и собрался лгать. Пригладил чуб, кашлянул, подтянул пояс и, слыша, что «когда человек лжет, так те человечки, что у каждого в глазах находятся, станут вверх ногами», так он, чтобы скрыть эту улику, опустил глаза в землю и начал говорить:
– То, ваше высокоблагородие, хозяйская дочерь. Есть прослышенный рекрутский набор, так она ужасается, чтоб ее единоутробного брата не возымели…
– Разве он худого поведения?
– Нет, ваше высокоблагородие, за ним качеств никаких не имеется и суть двудушная сказка. Но женское дело, глупость, свойственная…
– Скажи ей, чтобы не боялась ничего. Вели подавать лошадей. Арестанта отправляй в город тотчас. Пока я приеду, чтобы он был там. Я его тотчас решу. За таким в дороге надо смотреть построже, чтобы не ушел.
– Подозвольте, ваше высокоблагородие, мне самому препроводить его и квитанцию получить. К тому же и дело в суд имеется…
– Хорошо, веди сам. Пошел. Пошли мне голову.
Пан писарь повернулся на одной ноге, словно юла, только чуб заболтался… и исчез.
Тотчас за ним вошел к исправнику голова и плотно притворил за собою дверь. Что-то долго говорили они между собою. Слышно было, что и звенело кое-что… Кто говорит, поличное, с которым схватили Левка, пересчитывали; а кто говорит, что чашки звенели, а может, и то и другое. Мы там не были, так и не знаем, да и не наше дело. Мы рассказываем про Левка и про Ивгу, а между их мы не мешаемся, чтобы иногда чего лишнего не сказать или не недоговорить. Оставим их, пойдем пока за писарем, будем смотреть, как тот хитрит.
Выскочивши от исправника и увидя стоящую на крыльце Ивгу и горько плачущую, он сказал ей:
– Не плачь, голубка! Проси убедительно их высокоблагородие пана исправника. Он помилует, может, оставит Левка дома. Лишь бы в солдаты не взял. Проси, сколько можно!
И побежал к своему делу. Караульные и провожатые мигом у него поспели; не дали Левку и опомниться, схватили, связали руки и повели в город. Пан писарь же едет назади и наблюдает, чтоб все исправно было…
Их высокоблагородие пан исправник, кончивши свое дело с головою, вышел садиться в повозку, как тут на крыльце Ивга бросилась ему в ноги:
– Батечку, голубчик! Не отдавайте моего Левка! – И заголосила.
А исправнику и нужды нет, кто Левко, кто Марко, и, полагая, что она просит о своем брате, чтоб его не брали в солдаты, пихнул ее ногою и закричал на нее:
– Чего ты, дура, боишься? Не возьмут, не возьмут…
– Прикажите его отпустить, ваше сиятельство! – голосила Ивга, бежавши за ним к повозке и хватая его за полы сюртука. А он, куря трубку, вскочил на повозку и говорит ей:
– Прикажу, прикажу. Его не возьмут… – Пошел от нее скорее… Кони помчали, колокольчики зазвенели, два казака впереди и третий еще сбоку поскакали, а их высокоблагородие, пан исправник, произведя следствие, протянулся в повозке и начал думать свое. А письмоводитель, выкупавшись хорошенько и погулявши в лесочке, сел в свою повозку и поехал, думая свое… И скоро скрылись.
Чего, снесенного с миру на четверг и купленного на пятницу, не докушало их высокоблагородие, все осталось голове. Куда же бы его и девать?
Ивга, услышавши такое милостивое решение от пана исправника, не помня себя от радости, скорее к «холодной»…
«Как уже его и отпустили? – так она думала. – Дверь отворена, сторожей нет…»
Она в волостное правление… Какой там нечистый будет, когда уже проводили пана исправника? Теперь их в три дня не соберешь. Не случится ли еще чего, так, ожидая вновь исправника или заседателя, только тогда будут у своих мест.
Нашей Ивге так весело на душе, что она ни о чем и не беспокоится. Думает, что когда Левка, по приказу исправника, выпустили, то он, может, побежал к реке выкупаться, а там еще зайдет к дядине, пообедает… В таких мыслях пошла скорее домой и, ожидая Левка, вновь принялась за хозяйство. То съели, то выпили, то забрали, того недосмотрели… Разорение, да и полно! Всплакнула немного, нечего делать, принялась; прибирает, собирает, прячет, хлопочет и все ожидает Левка… Может, остался полдничать у дядины? И хорошо сделал – что бы я тут нашла ему? Как будто после татарского набега, ничего нет! Вот и вечер. Может, он там и переночует, чтоб хорошенько отдохнуть, а завтра придет и примется за дело…
Вот и утро… Не идет Левко!..
«Эге, – все думает Ивга, – знаю, знаю. Это он пошел к людям за деньгами, что должны ему; видно, хочет после такого беспокойства кончить скорее наше дело и чтоб выйти нам от отца на собственное хозяйство. Когда б же скорее собрал и пришел. Пан-отец обещался тотчас нас обвенчать и, по нашей бедности, немного взять за венец…»
И обед, и полдник кончился, а Левка нет. Ввечеру начала Ивга тужить: одно то, отец очень сердится, ходил к голове, спорил с ним за какие-то деньги, что не возвращают. А голова говорит, что-то поличное, которое, по порядку, никогда не возвращается хозяину. А то и Тимоха… Кто его знает, откуда он уже берет деньги! Все с людьми водится и к себе наводит. И когда бы же люди порядочные, а то негодяи, как и сам. Наведет их полную хату, то если и покажется какой проезжающий, он его выгонит, пьет, гуляет, музыка, песни; бьет окна, чарки, бутылки; на сестру кричит, словно на работницу, и не дает ей, сердечной, порядком за что взяться. Верховодит и толчется, как Марко по пеклу (в аду). Нет ей ни в чем воли, а тут еще и Левко не идет, не с кем ей и посоветоваться…
Так она ожидала его день и другой. Нет, не идет, не возвращается Левко! Может, от стыда, что его теперь все будут называть «вором», так он боится глаза показать? Пошла бы к тем людям, что должны ему, да расспросила бы их, приходил ли он к ним, так не знает, кто именно ему должен. На третий день вздумала идти к его дядине; та, наверное, знает, где он находится и что думает делать с собою. Вот и пошла.
Как же увидела ее Горпина, Левкова дядина, так и затрещала на нее:
– Съели, съели моего Левка! Где вы его девали? Разве за тем взяли бедного сироту, чтоб вовсе погубить его? Взял ли там сколько денег или еще только сбирался взять, а вы его скорее и погубить? Да хоть бы и взял сколько-нибудь, так разве он вам не заслужил того? Приемыш живет, как сын у отца, а он был у вас, как крепостной; ночь и день все работал, присматривал, хлопотал, словно за своим добром. Хорошо же вы ему отблагодарили, что человек, бывши в крайней нужде и знавши, что никто ему не поможет, решился тихонько взять… Ну, и нужды нет: поймали на воровстве, так было дома и наказать по воле, а то заперли в «холодную» на целую неделю…
– Да уже его, тетушка, выпустили оттуда, сам исправник приезжал и отпустил…
– А чтоб выпускала лихая година да несчастливая и вашего исправника, и старого лысого Макуху со всем вашим скверным родом и приплодом! – так вопила Горпина. – Выпустили! Вот так ты выпускай! Руки связаны, ноги в железах; сторожей да караульных с преужасными дубинами, как будто за душегубцем, настоящим разбойником… Повели сердечного! Может, до города ему не дадут нисколько и отдохнуть.
– С какими дубинами?.. До какогого… города? – едва могла проговорить Ивга, а сама помертвела, и ноги и руки затряслись…
– С какими дубинами? – дразнила ее Горпина. – Ты, голубушка, и не знаешь ничего? С такими, что если бы из них, хотя одною, один раз угреть твоего глупого батька, так он бы и не встал; а бедного хлопца в препровождении десятка таких повели…
– Да куда же повели?.. Говорите скорее, титуся!..
– Куда? Туда, где козам правят рога, куда бы сослать и твоего батька и брата, Тимоху развратного, и тебя, славную панночку, что умела хлопца только одуривать тем, что будто выйдешь за него, и все для того, чтоб он работал вам. Как же увидели, что уже без него справитеся, так тогда и можно есть человека. Иди же теперь, других одуривай!.. – И начала Горпина плакать о своем племяннике.
Глядя на нее, плакала горько и Ивга и просила Горпину, что, хотя бы на нее не сердилась; и рассказала все, что у нее происходило с исправником и как он обещался отпустить Левка…
Понемногу смягчилась Горпина и объяснила ей, как повели Левка в город, за каким караулом и с какими провожатыми, и повели прямо в острог…
Как это поразило Ивгу! Не сказавши ни слова Горпине, она пошла от нее домой… Долго и горько плакала… Потом, что вздумала? Начала собираться: навязала в мешок, что ей было надо… Денег нужно – своих нет. Что приобреталось по хозяйству, отдавала отцу, а у него просить не хотела, чтоб не стал выспрашивать, для чего ей нужны деньги. Пошла к соседям, заложила намисто, дукаты, кресты и лучшие плахты, запаслася деньгами, увязала все, как должно; мешок нацепила на себя, подпоясала свиту, взяла палку в руки, помолилась в церкви Богу. Горько, горько заплакала и… пошла!
Уже довольно далеко отошла от своего села, а с самого утра не пила, не ела ничего. Куда ей есть? Ей и на мысль ничего не идет! Идет, идет… Как вот… увидела и узнала писаревых лошадей, навстречу к ней едущих. Полагая, что он тут, она скорее спряталась в высокую траву и прилегла в ней. Он, не видя ее и поя во все горло псалму: «Склонитеся, вики, со человики!» проехал мимо нее.
Когда уже совсем писаря не видно было, она хотела встать… Так что же?.. Совсем не может! Горло пересохло, не евши отощала, ноги не служат, а в мыслях все беда и горе!.. Встала, силится, едва-едва переступает… И, как на беду, никто не встретится, чтоб подвезти ее… Поздно вечером насилу добрела она до города: там была у нее приятельница, вдова. Она к ней… Ее приняли, накормили и успокоили.
Утром, рассказавши приятельнице, за каким делом она пришла в город, и посоветовавшись с нею, пошли вместе к острогу. Получив от них грош, солдат пошел доложить, что такому-то арестанту пришли подать рубашку и булочку. Когда же вышло дозволение, так еще дали гривну, пока их впустили в острог. Тут к ним вышел Левко… Мати Божия! Он ли это? Рубашка на нем грязная, вся в дырах; босой, оброс бородою; половина волос на голове вдоль выбрита, совсем как у каторжного… Ивга и не узнала бы его, если бы он не отозвался к ней:
– Ивга! Ты меня еще не забыла? И здесь нашла!
Ивга стоит, как окаменелая, трясется, и свет бледнеет в глазах. Едва могла проговорить:
– Что ты это наделал?..
– Знаю, что я сделал. Не боюсь Бога милосердного, не боюсь и суда. Почему с меня допроса не снимают? Как бы меня спросили в суде, я бы все рассказал…
– Расскажи мне… Пускай я буду знать, зачем ты это сделал…
– Тебе всю правду расскажу, но и допрос надобно же с меня снять. Вот слушай и судьям скажи: когда я остался в светлице…
– А зачем арестант разговаривает с бабами? – увидевши их, закричал сержант. – Гоните их вон! Подали милостыню, ну и далее.
Тотчас и увели Левка. Насилу успела Ивга отдать ему принесенное. Солдат взял их за руки и вывел из острога…
Что теперь делать Ивге? Левка еще не допрашивают в суде… Он что-то имеет рассказать… и оттого он не боится ничего… Что будет, то будет: пойду в самый суд, попрошу, чтобы скорее его допросили. Вот тогда, когда он не так много виноват, то его и отпустят…
Не знаю, другая на ее месте осмелилась ли бы идти в суд? Как бы другая и доспросилася, а ей и нужды мало: живая, проворная, смелая, в словах бойкая без болтовни – а все тихо, учтиво, скромно. Ее никто не одурит, не испугает, не остановит, ни с намерения не собьет; когда что придумала, так уже она не остановится, доведет до конца; ума в ней было много: от матери своей набралась. Так такая не дойдет, куда ей надо и куда задумала? Оглянувшись туда-сюда, перекрестилась и… пошла!
Спрашивая у встречающихся с нею, наконец доискалася, где тот суд, что исправник присутствует. Вошла… Писарей немало, а народу столько, что и пробраться нельзя. Тут привели арестантов; тут солдат о квартирах; тут человек жалуется, что чужой скот выбил у него гречиху; тут старая мать с просьбою на детей, что не хотят кормить ее; тут о ворах, тут о пожаре, о скоропостижно умершем, и о всякой, всякой нужде хлопочут, а судящие только порядок всем дают.
Осмотревшися, наша Ивга, прислушавшися и приглядевшися ко всему, стала между народом пробираться. Вот и дошла до какого-то пописушки в затрапезном халате, поклонилась и спрашивает:
– Если бы вы, паныченько, сделали милость да скорее допросили бы моего Левка.
– Какого там Левка?.. Поди себе и с ним! Тут некогда, а она носится со своим Левком.
Не оробела Ивга, а тотчас на хитрости. Она подумала, что это еще, должно быть, невелика птица, когда в халатике. Зассорюся я с ним, тогда старший подойдет. Вот она на него с упреком:
– Чего же вы тотчас сердитесь? Я вас прошу, а вы, не знавши человека, тотчас и посылаете его сюда и туда. Сами б проходились…
– Что? Ты еще смеешь и кричать на меня? Сторож, вытолкай ее!
– И, нет, вы меня не толкайте, – еще громче начала говорить Ивга. – Я пришла за делом. Так если вы письменные, то вы не выталкивайте, а выслушайте…
– Да что же ты тут расщебеталась? Я тебя тут за косу… – крикнул было пописушка да и прикусил язык, увидев вышедшего кого-то, – как пересказывала Ивга: рожа у него красная, оброс бородою, лысый, в очках, в кафтане с пуговицами, в руках держит бумагу, перо за ухом, и очень видно, что много нюхал табаку. Вошедши спросил:
– Кто смеет здесь кричать?
Пописушка тотчас с ябедою, что вот девка учинила смятение. А Ивга, видя, что достигла до своего, вызвала старшего, осмелилась и говорит:
– И, нет, паныченько, не брешите.
И рассказала, как было дело, и тут напомнила о деле Левка. Вышедший же был секретарь.
Он оставил их разбирать и скорее спросил:
– Какой это Левко? А! Это тот, что двести рублей украл у хозяина?
– Нет, сударь. Еще допросите его, он при допросе вам все расскажет, что и для чего он это делал. Пошлите-ка за ним и при мне допросите. Может, он не совсем и виноват.
– Вот так еще! – сказал секретарь, – для тебя станем его десять раз приводить и допрашивать? Он уже повинился; он уже и не в нашем суде.
– Где же он, добродиечко?
И при этих словах душа у нее замерла, когда услышала, что Левко уже во всем признался…
– Там, где должно. Мы дело о нем послали далее, – сказал секретарь и, поворотясь, пошел к своему месту.
Что теперь Ивге делать? Совсем беда! Левко говорит, что его не допрашивали, а в суде сказали, что он во всем повинился, и уже не в сем суде. Где же?
Ивга в большой тоске вышла из суда и думает:
«Пойду к Левку, потоскуем вместе и посоветуемся, что мне теперь делать?»
За обедом у хозяйки поела ли чего или нет, скорее отобрала всего съестного и понесла к Левку в острог…
– Не ходи! – отозвался к ней солдат, ходящий с ружьем около острога.
– Это я, господа служба, пришла к Левку. Меня и утром пускали…
– Утром пускали, теперь не велено.
– Кто же не велел?
– Из суда принесена записка: не допускать к нему никого.
– Будьте ласковы, господа служба, скажите, водили ли сегодня Левка в допрос?
– Нет. Сказано, что он такого наделал, что ему и без допроса худо.
– О, господи милостивый! – заплакавши, сказала Ивга, – что он такого наделал? Совсем положили погубить человека!.. Да уже!
За слезами не видела, куда и идти.
Как ни крепко горевала Ивга, как ни страдала, а таки доспросилася, в каком суде Левко судится, кто судящие и где живут. Один человек посоветовал ей сходить к каждому в дом и просить. А то, говорит, как пойдешь в суд, то или тебя не допустят, или не выслушают хорошо, у них не одно дело. Утром пошла Ивга к одному.
Дом хороший, она вошла… Сидят молодые люди вокруг стола, трубки курят и в карты играют, по замечанию Ивги, по-пански: кто остался дураком, тот и платит деньги. Она судила, что и нет другой игры, как в дурачки.
Ивга, не понимая ничего, всем поклонилась и начала жалобно просить:
– Паны мои милые, паны мои любезные! Кого из вас просить мне о моем Левке?
Как же взглянули на нее эти молодые люди, как захохочут, начали подсмеивать над нею и шутить над просьбой ее до того, что бедная Ивга не знала, куда и деваться ей. Оправясь немного, она сказала:
– Не грех ли вам, паны, смеяться над бедною девкою, которой, видно, большое горе, что сама к вам пришла просить о своей нужде? Пускай же вам сей и той. Когда по моему делу в вас вся сила, мне нужды нет: я дойду везде, не будет по-вашему. А только скажу, что вам стыд и срам: вы паны, вы письменные, вы читаете в книжках, как должно помогать несчастному. А вы, вместо того, не расспросивши, чего я и зачем, начали смеяться надо мною! Разве на то Бог удостоил вас быть судьями таких же людей, как и сами вы, и общество вас избрало, как я, добрых, чтоб вы, забывши свое дело, играли в дурачки и без внимания оставляли бедного страдать? Играйте же себе, играйте! Пускай невинные бедствуют в острогах; вам некогда…
И много такого резала им Ивга отходя, пускай слушают на здоровье. Не справедливо ли она говорила? Когда ты судья, так оставь карты, игры и пляски. Дал Бог день, иди к своему делу и рассматривай прилежно, чтоб поступить по всей справедливости, а потом уже гуляй. Вот солдат: он оставляет все и идет на ученье, откуда не возвращается, пока всего не кончит. Так и тут… Но… не наше дело учить панов; зацепи их только, то и сам не рад будешь. Будем лучше про Ивгу рассказывать.
На другой день пошла она к судящему. Смотрит: панок плохенький, невелик, сухой, худой, седой, ходит себе по горнице и думает что-то. Ивга, приметив, что он глядит, как добрый, поклонилась ему низко и говорит:
– Позвольте, добродею, просить вас о нужде.
– А о какой нужде? – спросил пан, остановясь и наклонив голову.
– У моего отца, – говорит Ивга, – был приемыш Левко. Отец и брат мой тяжко не любили его и довели до того, что он, на беду себе, потянул из отцовского сундука денег. Так его взяли и здесь держат в остроге, а допроса не снимают. Так будьте ласковы, повелите снять с него допрос да и делайте, что знаете…
– Где же твой отец? – спросил судья важным голосом.
– Да мой отец дома, в селе.
– Как же мы с него снимем допрос, когда он дома?
– Да нет, не с отца, а с Левка.
– Ведь же отец твой Левко?
– Да нет, Левко приемыш, а отец-таки отец.
– Ведь же Левковы деньги украдены, так зачем же с него допрос снимать?
– Да нет, у моего отца деньги Левко украл или что, так сидит в остроге. Я его видела, и он мне говорил, что его не допрашивали.
– Ну, а теперь выпустили тебя из острога или как?
– Да нет. Не сидела я в остроге, а сидит Левко. Так допросите его, на что он брал деньги моего отца?
– Как же это? Обокрал отца, и отец сидит в остроге?
– Да нет, не отец в остроге, а Левко.
– То-то же, то-то же, я понимаю. Сын пошел в острог вместо отца, по своей охоте, что ли?
– Да нет – вот не понимают! Не сын, а приемыш.
– Что же ты мне десять раз рассказываешь и все не так. Отец с приемышем тебя обокрал? Так?
– Да нет. Подозвольте, я вам все сначала расскажу. – И опять все рассказала подробно и ясно, хоть на бумаге пиши.
А пан судящий только все кивает головою и приговаривает:
– Так-так, понимаю, знаю. А потом и брякнул:
– Вот теперь так. Как рассказала, так и я знаю. Видишь ли же ты, чего просишь? Этого не можно. Ты просишь, чтобы брата твоего выпустить, а наместо его посадить Левка. Нет, нет, голубушка, этого не можно. Кто заслужил, пусть тот и отвечает. Я на неправду не пойду.
– Да нет! – даже прикрикнула сердечная Ивга, уставши толкуя, – Левка допросите, Левко виноват…
– Опять говоришь, Левко виноват. Тебя и с десятью головами не поймешь. Иди себе домой. Ты мне вот этакую голову натурчала. Рассказывает и все не так. Меня к неправде не подведешь. Я все вижу. Иди, иди себе домой. Я и сам пойму, что мне должно делать.
– Вот уже лихая година с такими судящими! – сквозь слезы говорила Ивга, возвращаясь к хозяйке. – Вот никак не поймет, что ему толкуешь. Беда и полно!
– Пойди еще к самому судье, – сказала ей хозяйка. – Говорят, что в нем вся сила, он над всеми наистарший. И знаешь ли что, Ивга! Понеси ему что-нибудь. Все-таки учтивее.
– Что же я понесу ему, когда у меня нет ничего?
– Бубликов связки две[274]274
Бублики, род баранок, гораздо большего размера. Пекутся на постном масле и маке; в связке шесть бубликов. (Прим. автора.)
[Закрыть]. Он у нас не разборчив: я когда-то отнесла ему по делу пяток печеных яиц, не поцеремонился, спасибо ему, взял и дело сделал.
Купила Ивга две связки бубликов и пошла с ними к судье. Вошла. Он ростом высокий, толстый, мордатый; нос кверху поднявшийся; глаза, как фонари, да и во всем так же хорош. Он собирался уже идти в суд.
Ивга помолилась Богу, поклонилась судье и, положивши бублики на стол, начала рассказывать и просить о своем деле. Лишь только судья увидел бублики, так и бросился на них и начал жрать. Рот большой, щеки толсты; так бублик целый так и впихнет в рот, не очень пережевывает, разом глотает. Давится, из глаз слезы текут, а он спешит управиться с ними. Видите, как он поспешает на службу!
Когда же Ивга рассказала ему все, а он между тем поглотал все бублики, то Ивга и говорит ему:
– Что же вы мне, ваше благородие, скажете?
– А вот что я тебе скажу, – говорил судья, дожевывая остатки, – а вот что ты мне скажи… Где ты таких знатных бубликов купила?
– Кушайте на здоровье, ваше благородие. Где купила? Известно, на базаре. Что же вы скажете о моем деле?
– Вот бублики, так-так! – облизываясь и чавкая, говорил судья. – О твоем деле? И, что я люблю, маку много… О деле? И масла много… Вкусны, очень вкусны!.. О твоем деле? Да поджарены!.. Я еще твоего дела не знаю, приди завтра, я завтра скажу тебе. – И с сим словом, кончивши бублики, вышел из хаты, все прихваливая: – Вот бублики! Будь я бестия, если и дома ел такие!
Вот теперь нашей Ивге стало легче на душе, что понравились судье бублики, и она в полной уверенности, что он сегодня дело кончит и завтра выпустит Левка. Уж хотя бы и посекли его, лишь бы тут, а в село не водили б; меньше бы стыда от своих. Тут уже его никто не знает, так и нужды нет. Веселенькая пообедала, благодаря хозяйке, пошила ей кое-что, напряла немного и побежала к острогу. Так что же?
– Не велено пускать, – закричал солдат, и, расспросивши, Ивга узнала, что его вовсе не водили в допрос.
Беда и полно! Бьется, сердечная, как щука об лед, и ничего не сделает! Пошла утром к судье. Сказали, что поехал в свой хутор; праздники подошли, не будет суда.
То скуя и плача, дождалась Ивга будней. Приехал судья из хутора. Она пошла к нему и понесла четыре связки бубликов, печенных на одном масле и густо маком осыпанных.
Судья только увидел ее, тотчас бросился к бубликам, начал жрать, а ей говорит:
– Да как много!.. Я за раз не поем… А против тебя виноват: совсем позабыл про твое дело! Да уж потерпи… Решу и дело… вот как и…
– Не забудьте, ваше благородие, хоть сегодня!
– Забуду, ей-богу, забуду. У меня столько дела, столько дела, что некогда носа утереть. Вот это поспешаю в суд.
И начал собираться, как же бубликов не мог съесть, так прятал в карман.
Ивга, увидевши это, и говорит:
– Вот же берете в суд бублики и, когда станете их кушать, то и вспомните, кто их принес, и про меня вспомните.
– Пожалуй! – отвечал судья, – кушать между делом буду да вспомнить не надеюсь. У меня дела много: все надо подписывать, и я тогда ни о чем уже не помню, только подписываю. А лучше всего, вот что: иди, душка, и ты к суду и дожидай там. Я увижу тебя и вспомню. – С сим словом и пошел.
Нечего делать – и Ивга за ним пошла…
Ходит около суда. В сени войдет – не видно ей судьи; не вспоминает он про нее; не шлют за Левком.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.