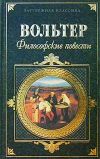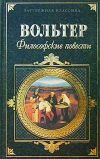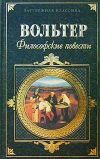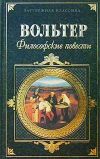Текст книги "Малороссийская проза (сборник)"

Автор книги: Григорий Квитка-Основьяненко
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 50 страниц)
Смутная и невеселая убиралась в своей хате панна хорунжевна, Осиповна Олена, на своем Безверхом хуторе, что на сухой балке. И убирается, и не убирается; нужно бы и поспешать, потому что в селе прозвонили уже к утрене в один колокол и начали трезвонить; нужно ей поспешать к церкви, потому что вчера на «договорах» (девичнике) так положили, чтоб ей тут и свенчаться с конотопским сотником, паном Забрёхою, Никитою Власовичем; а от хутора до села, где венчаться, будет верст пять или две. Вот и нужно ей поспешить, чтоб выспеть… Так руки не поднимаются! Уже она и расчесалась, уже и длинные толстые свои косы в мелкие косички поплела, стала ленты на голову накладывать… глядь! что ни лучшая лента, то ей подарил пан судьенко… Ее так и подрало морозом по спине!.. Вспомнила его, ей взгрустнулось, и она немного всплакнула. Зубиха же тут так и рассыпается! И сюда мечется, и туда бросается, и намисто навязывает Олене на шею, и голову цветами убирает; а нарядила ее совсем, то и выбежала скорее из хаты, повернулась на одной ноге против солнца, три раза пошептала что-то себе, обвела рукою в ту сторону, где село, и сказала:
– Кто думает поспешать, пускай не выйдет из хаты, и чтоб до восхода солнца не нашел ни дверей, ни оконца.
Вошедши опять в хату, стала снаряжать панночку Олену к венцу; велела ей три раза поклониться в ноги отцу и матери, коих для такого случая приискали, а потом и братцу родному. Старшей дружке дала пару свеч пятикопеечных, венцы держать, платок – руки связать, рушник под ноги и грош под рушник пономарю за светильник. Потом тихохонько, чтоб никто не видел, дала той же дружке какую-то косточку да какой-то репеёк и научила ее, что и когда с ним сделать. Вот и пошла наша молодая со старшею дружкою в село, поспешая к заутрене, чтоб там венец принять с паном Забрёхою, конотопским сотником, Никитою Власовичем.
Что же делала Явдоха, оставшись на Безверхом хуторе? Там девствовала лет сорока девка, звали ее Солоха. Бедная да пребедная! Не было у нее ни одежи и ничего. Волос на голове мало; на щеке шрам, зубов недочет, горбата, курноса, на одну ногу хрома, а правой, искривленной руки ко рту не донесет. Вот такую-то кралю Зубиха взявши, убрала в ленты и вместо кос распустила концы лент, одела в чужую свиту, выпросила намиста и навязала ей на шею. Как уже совсем прибрала, Явдоха посадила ее верхом на палочку, сама села на другую, цмокнула, нукнула… Палочки помчались изо всей силы, только пыль столбом за ними. Прибежавши в село к церкви, Явдоха и говорит Солохе:
– Стой же ты, девка, на крыльце да держи в руке вот эту маковку[213]213
Маковка – плод мака, коробочка, наполненная семенами. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть]. Какой казак придет, да возьмет тебя за руку, да подведет венчаться, не упрямься, не церемонься, венчайся смело. Смотри же, ожидай до восходу солнца…
Солоха стала и дожидает, а Явдоха бросилась к своему делу.
Олена же со старшею дружкою знай идут да поспешают в село, чтоб застать заутреню. Олена, идучи, расхваливает Забрёху: какой-то он красивый, чернявый, полновидный; какие у него усы хватские, и какой сам весь славный и проворный. Как они идут, то где только взойдут на перекрестную дорогу, то старшая дружка косточкою, что дала Явдоха, три раза панну Олену в спину тихонько: стук, стук, стук! да и примолвит:
– Прочь, нелюбый!
То Олена ее и спрашивает:
– Что ты, сестричка, меня в спину толчешь?
– Да то я, панночка, перьецо сняла, на кунтуш[214]214
Кунтуш – верхняя одежда состоятельного украинского и польского населения в XVI–XVIII веках. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть] пристало было.
То Олена и начнет опять про пана Власовича говорить, да уже не так его похваляет: что у него глаза не такие, как у пана судьенка. На другом перекрестке и усы не так хороши, как у пана Халявского; после он уже и сякой, и такой, и стыдок, и гадок, и мерзок, и дурен. А как дошли к церкви, то старшая дружка тихонько сзади и развязала шнурочек, на котором повешен был мешочек, что привесила было Явдоха с разными снадобьями.
Вот как развязала, а тот мешочек и упал, так что Олена и не почувствовала. Она тот же миг и закричала:
– Цур же ему, пек ему, этому Забрёхе! Не хочу, да и не хочу за него замуж. Воротимся, сестра, домой!..
– Постой хоть немного в церкви. Когда же пан сотник к тебе подойдет, чтоб венчаться с тобою, то ты тут ему и откажи. Это ему еще стыднее будет, что ты при людях такую насмешку ему сделаешь.
– Вот это точно хорошо, – сказала Олена, – таки тут ему в глаза и плюну. Пойдем же в церковь.
Вошли в церковь. Панна Осиповна глядь-глядь по церкви – нет пана Власовича. Уже скоро и выйдут, а его нет. Вот она то покраснеет, как мак, то побелеет, как полотно; все боится, чтоб он не вошел, да чтоб не потянул ее к венцу. Как вот только что начали читать к концу, как… шасть в двери! свашки, светилки, бояре, дружко, поддружный, старосты; да все не простые, все с панства, в кунтушах, в черкесках, в сукнах таких, что только поцмокай!.. Еще важнее были, чем у нашего школяра, что до философии ходил, да, женясь у нас в селе, свадьбу играл. А за таким-то поездом вошел и молодой… Кто же такой? Олена так и задрожала, как увидела, что это… пан Халявский, Омельянович, кого она так верно любила. А старшая дружечка тем репейком, что ведьма дала, скорее ее в спину толк! и проговорила тихонько:
– Прицепись опять.
Олена после этого так и сгорела, да промеж народу протерлась к пану Халявскому, да его за руку дёрг! и говорит:
– Бери меня, как хочешь, а бери. Когда же у тебя есть другая, то покажи, где она? Я ей тут же глаза выцарапаю. То я было с ума сошла; а теперь умру, когда меня оставишь!
– Да я же за тем, панночка, и пришел, чтоб с тобою закон принять, – сказал пан судьенко да и потянул ее к аналою[215]215
Налой – искаж. аналой – столик, на который в церкви кладут иконы и книги. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть]. Не замедлили, пропели «лозу плодовитую», обвели около налоя, сказали молодым поцеловаться; получили с молодого двадцать пять копеек и отпустили домой, а сами собирались уже свечки гасить и другое-прочее.
Смутен и невесел ходит по хате пан конотопский сотник, Никита Власович Забрёха, вырядившись как можно лучше, и выбрившись чистенько, и чуб подстригши гладенько. Ходит он по хате, куда еще с вечера приехал из Конотопа в село, чтоб в заутреню венчаться с панною хорунжевною, Осиповною, как вчера договорились. Только что ударили в колокол к заутрене, он уже и вскочил, и разбудил пана писаря, Прокоп Григорьича, что просил его в старшие бояре держать венец.
Пока звонили, наше казачество брилось, обувалось, одевалось, а как уже пришла пора, то, вздевши новые крымских овчин тулупы, начали выходить…
– Да отверзайте, пан Власович, без преткновения. Приспе бо час. Ну те же, ну же. Почто над щеколдою глумляетесь? Сокрушайте ее, отверзайте врата в сени, – так командовал пан Григорьич на пана сотника, что тот возился около дверей да не отворял их.
– Але! – говорит Никита Власович, – отверзай ты, когда найдешь. Видишь, нет дверей.
– Чего ради сие бысть? Двери суть на празе, а праг на дверях. Востягните-ка щеколду.
– Да какая тут у черта щеколда? Голая стена, а дверей нет как нет. Вот сам посмотри.
Бросился пан Пистряк… Хвать-хвать! щуп-щуп! Нет дверей, да и щеколды не найдет; одна стена стала перед ним. Ищет один, ищет, даже вспотеет; ворчит другой, переменит его, станет везде ощупывать… нет, да и нет!
– Что за причина! Где у аспида девалася дверь, – визжит пан Забрёха и со злости даже зубами скрипит, потому что уже, слышит, трезвонят…
– Видех двери, отверзающиеся семо и овамо, и се не бе, – так рычал Григорьич, волосы на себе рвавши. Потом говорит: – А что сотворим, пан сотник? Разверзем объятия и приступим на прикосновение, дондеже сотворим совокупление.
– Да говори мне прямо, пан писарь! Теперь не до письма, – говорил ему, даже плачучи, пан Власович. – Я и так себя не помню, а он мне письмом в глаза тычет. Говори же просто.
– Прикосновение, осязание, сиречь, щупание. Дадите вашу десницу в мою шуйцу, да и будем разом щупание воспроизводить вокруг всей хаты, не сокрышася ли двери в оном месте? Или не некий ли враг, ненавидяй добра, похити их?
Насилу понял наш Никита, что писарь хочет делать. Вот и принялся щупать по стене. Один идет в одну сторону, а другой в другую. Щуп-щуп! хвать-хватъ!
– Есть ли, Григорьич?
– Нет, исчезоша, яко дым!
– Пойдем далее. Пошли опять.
– Обрели ли, пан Власович?
– Тьфу! Пускай бы они исчезли! А уже и «Достойно» звонят… А! Мучение, да и полно…
Ощупают все стены, сойдутся опять вместе… Нет дверей, да и нет! Опять разойдутся, тот по солнцу, а другой напротив солнца… щупают… сойдутся… нет! Уже бы рады хоть бы окошко найти, так и то, кат его знает, где девалося. Даже плачут оба. Пан Власович Никита, храброй конотопской сотни пан сотник, сел на полу и принялся голосить:
– По сих пор и утреня отошла, а меня панна хорунжевна дожидалась-дожидалась да, может, уже и домой пошла. Ой лелечко… ой лелечко!..
Как вот хряп щеколда! Рып двери! Шасть Явдоха Зубиха, их приятельница, конотопская ведьма, вошла в хату. А она сама эту мару на них напустила и дверь от них спрятала. Вот и заговорила к ним:
– Или вы одурели, или взбесилися? Какого аспида вы тут делаете? Зачем не идете венчаться? Уже скоро выйдут из заутрени, а они тут из пустого в порожнее переливают.
– Ох, титусю! Тут совсем беда! – насилу проговорил пан Забрёха.
– Смущение велие учинися, – говорил Григорьич. – Сия дверь, в ню же происхождение сотворяет весь род человеческий, бысть погибшая; и се паки обретеся, но како? Не вем!
– Расскажи ты, пан Никита, мне по-людски; а его никто не поймет. Какое вам тут привидение было?
Так спрашивала Явдоха, будто и не знала ничего.
– Да тут такое было, – говорил пан Забрёха, – что как его и рассказать? Кто-то двери было у нас украл. Уж мы их искали-искали, щупали-ощупывали, пришлось было на помочь звать, а ты тут и вошла.
– Те, те, те, знаю, знаю! – говорит ведьма. – Видишь, что было наделала? Да я ее переспорю. Она еще и не такое хочет сделать с тобою, да ты не унывай. Иди-ка с боярином скорее, да и бери свою девку. Не рассматривай, Олена ли она или не Олена, а только бери ту, что стоит на крыльце у церкви, да в руках красную маковку держит. Смотри же, не очень умничай; и на Олену, хоть и повидишь ее где, не засматривайся; то не она будет, а с маковкою, так-то твоя. Видишь, прибежала из Киева тетка пана судьенка Халявского; еще злее меня, да не столько знает, как я. Она прежде всего дверь у тебя украла, а теперь на панночку Олену наслала мару, будто она и горбата, и хрома, и курноса, и будто совсем не она. Вот же ты не церемонься, чтоб тетка не посмеялась над нами. Смело венчайся, а как придете от венца, так все злое отведу и ее старую прогоню. Бегите же скорее.
Да сказавши это, взглянула на Григорьича и мигнула ему; а тот кашлянул по-дьячковски, да и сказал сам себе:
– Догадался!
Вот наши молодцы, поблагодаривши Явдохе каждый за свое, пошли скорее себе. Пока дошли до церкви, так уже все и вышли: только одни причетники остались, кое-что прибирая, да несколько людей, то свечи меняя, то другое что. А пана Халявского с молодою да и с поездом и духу не осталось. Солоха же стоит себе на крыльце, маковку в руках переминает и жениха ожидает. Пан Никита на нее – глядь!.. Так у него в животе и похолодело. Славная краля!
Смотрел, сердечный, на нее да, вздохнувши тяжело, и говорит:
– Что это за урод стоит?
– Мньо, – говорит писарь, – яко сия есть единая из седмидесяти дщерей царя Ирода, их же он, окаянный, породи пагубы ради рода христианского. Едина суть лихорадка, другая лихоманка, третья трясця, четвертая пропастница, пятая поганка и прочия, и прочия до седмидесяти, им же несть числа. Аз же мню…
– Да не мни, пан писарь, а говори дело. Это оборотень, или это она в самом деле такая?
– Ей, господин! Егда воззрю на нее умными очами, то зрю панну Олену, хорунжевну, Осиповну, превелелепную девицу. Егда же рассмотряю ее греховными, плотскими очами, то обретаю ее паче всех мерзостей всего лица земли. Аз же мню, яко сие есть обавание Явдохи велемудрой, рекше, Зубихи, еже устрой посмеяния ради тресугубо анафемски проклятой ведьмы киевской.
– Так что ж, пан писарь, брать ее?
– Да берите, добродею. Аще совесть не зазрит, берите. Сотворите совокупление, а по совокуплении всякое обавание исчезает, яко дым, и расточается, яко прах перстный.
Вот пан Власович подтянул живот, подошел к Солохе и говорит:
– Не соизволяете ли, панночка, со мною шлюб принять? А Солоха и прогнусила:
– Соизволяю.
Схватившись поспешно за руки, как голубь с голубкою, вошли в церковь.
Не замедлили и их обвенчать. Как сказали «поцелуйтесь», то пан Забрёха не очень рассматривал, пригладил усы да свою красивую молодую – цмок! даже эхо раздалось, и с радости выкинул даже пять алтын, да все денежками, и пошел со своею молодою в Безверхий хутор… А старший боярин, пан Пистряк, кишки надрывает со смеху да собирает свой поезд, чтоб скорее молодых на посад посадить.
Смутен и невесел стоял, повесивши голову даже на грудь, пан конотопский сотник, Никита Власович Забрёха, в Безверхом хуторе, подле панских хат, смотря, что панна хорунжевна, Олена Осиповна, сидит на посаде с паном судьенком, Демьяном Омельяновичем Халявским. Подле него же стоит… Солоха! Девка красивая, опрятная, разодетая… Что было на ней к венцу выпрошено, плахта ли, свита или намисто, или ленты, все это люди свое поснимали, а она и осталась с голою головою, босая, сорочка грязная, дырявая, разорванная и только что куском старой плахты закрылась, да и полно. Вот весь убор на ней! Вот так-то удружила ему Явдоха Зубиха, конотопская ведьма, за то поругание, что он ей на реке и подле реки при всей громаде сделал. А и не он же: когда по правде сказать, то управлялся над нею пан Пистряк; он и пана сотника на это навел. Ну, да знаете, что на свете все так идет: что писарь сбездельничает, так ему ничего; а судья сдуру, не знавши дела, подпишет, так он и в ответе, на него все беды и обрушатся.
Стоял-стоял пан Власович долгонько, и ума не приберет, что ему теперь на свете и делать! Забежал бы на край света, так все браку не разорвать, затем что при венчаньи говорил, что не оставит ее до самой смерти. А как глянет в окно, его панна Олена сидит подле пана Халявского; как услышит, что дружечки припевают не ему, а Демьяну; а слепой скрипач, сидя в сенях, что есть мочи скрипит Дербентский марш[216]216
Дербентский марш – марш, названный в честь города Дербент сыгравшего заметную роль в истории России. Песня пользовалась длительной популярно стью, это подтверждается уже тем, что она упомянута не менее чем в трех произведениях Квитки: в «Конотопской ведьме», в «Козырь-девке» и в «Пане Халявском». В XX веке она неоднократно фигурирует в работах по истории музыки, но без указания имени автора. Установить его не удалось и нам. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть]; а бесовская Явдоха Зубиха, вместо матери, сидит в красных юфтовых сапогах с подковами в четверть, а на голове кибалка, что все это зять, пан Халявский, надарил; да еще она выглянет в окно и насмехается над ним – так он даже о полы бьется руками и зубами щелкает.
Пан Григорьич хотел было оставить свое бояринство и пристать к чужой свадьбе, потому что видел, что тут кушанья всякие отличные, и горелки много, и потчуют в ряд всех без разбору, кто первую пьет, а кто уже и пятую. Поткнулся было, так ему и чарки понюхать не дали и в хату не пустили.
– Иди, – говорят, – себе на свою свадьбу.
Вот он подумал: «Что, – говорит, – живое покину, а мертвого пойду искать», – плюнул им через порог да и пошел к своему поезду. Вот дружко их собрал всех и говорит:
– А что ж, пан сотник! Какого пива наварили, такое станем пить, чего тут будем глядеть? Надо свое дело исполнять. Поедем-ка в Конотоп. Надо, как начали, так по закону и оканчивать, уже и не рано.
Поехали, приехали, сяк-так дали порядок, достали кое-чего у пана Власовича с вещей матери его, прикрыли грешное тело Солохи, стала хоть немного не так гадка. Посадили молодых за стол. Кушаньев же всяких было наготовлено, была и горелка, была и варенуха. Таки нечего сказать, дело было на порядке.
Пели ли дружки или нет, танцевали ли парубки с девками или нет, а скорее разделили каравай.
На другой день пану Власовичу крепко досадно было видеть, как пан Халявский со своею молодою приехал на таратайке в город покрываться. Впереди везут на предлиннейшем шесте шелковую запаску, да красную-красную, как есть самая настоящая калина; и лошадям чубы, а музыканту руки, скрипку, и чуб, и один ус красными лентами перевязали. А у пана Забрёхи этого ничего не было.
Собрались у него люди, приготовляются калач разделать, сговариваются, чем пана Забрёху дарить; сякой-такой, а он есть сотник над сотнею, старшина; безделицею не удовлетворишь его; а он потом с тебя и больше еще взыщет, придерется к чему-нибудь. Вот советуются между собою: иной хочет барашка подарить, другой поросенка, тот теленка. И пан Пистряк, известно, как писарь, взявши уголь в руки, хочет записывать на стене, кто что подарит, а дружко собирается выкрикивать всякими голосами, какую кто скотину или птицу подарит, – как вот и вбежал казак из Чернигова и подал письмо к пану сотнику от самого полковника черниговского.
Надулся наш пан Забрёха, как индейский петух, и начал шикать, чтоб все замолчали, и говорит:
– Цытьте-ка, молчите. Пан писарь! А прочитай мне этот рапорт. Видишь, мне некогда, я теперь на посаде сижу, я молодой. А читай, читай; нет ли какой новины или какой милости? Да громче читай.
Пока пан Пистряк читал по складам да зацеплялся над словотитлами, так еще ничего, как же стал по верхам читать, так ну! фить-фить! – да и только. Там было так написано, что пана Забрёху, нашего-таки Никиту Власовича, зачем не послушал пана полковника черниговского да не пришел с храброю конотопскою сотнею в Чернигов, как ему было писано; вместо того полоскал в пруде конотопских молодиц да старых баб, словно белье, да с полдесятка их на смерть утопил; а потом, как выискал между ними ведьму, так ей и поддался, и черту душу укрепил, да и летал, как птица заморская, что всю люди видели, и удивлялись, и перепугались, а кое-каким малым детям и переполох выливали, – так-то славно командовал пан сотник над своею сотнею, – так за то его с сотничества сменить…
Как это услышал народ, так и удивились и стоят, разинувши рты! А наш сердечный Забрёха сидит, словно горячим борщом поперхнулся… И говорить бы, так горло захватило; и побледнел, и посинел, и запенился, и слезы распустил. А Григорьич и говорит ему:
– Вот также, пан сот… или бишь уже, пан Никита! Так тебе и надо. Ты было уже крепко разобрался, и даже писаря не слушал, и думал быть умнее его; да, видишь, под небесами летал, да сотничество и пролетал. Это же еще на первом листе так написано, а вот перевернем на другой, что там прочтем. Может, и наш верх будет. Цытьте же все, слушайте! Кого начитаю над вами сотником, так тотчас покланяйтесь ему и идите поздравлять с гостинцами…
Да и перевернул бумагу, усы разгладил, окинул всех глазом, чтоб смотрели на него, и кашлянул три раза по-школярски, и стал читать… Как же начитал, что конотопским сотником поставили не его, как он желал и крепко надеялся, и затем и Забрёху свертел с сотничества, а взяли с другой сотни судьенка, Демьяна Омельяновича Халявского, – как прочел это Пистряк, да и письмо уронил, и голову повесил, и долго думал-думал, потом поднял голову и говорит себе:
– Нужды нет! Подобьюсь под нового, да и буду им управлять. Недолго будет пановать. И этого в дураки пошью: как его сменят, тогда, наверное, буду я. Оставайся ж, пан сот… или бишь, пан Никита, со своею Солохою, а я иду к новому пану сотнику Демьяну Омельяновичу; и тот подарок, что готовил тебе на свадьбу, понесу ему на поздравление. А кто, хлопцы, со мною?
– Я! Я! Я! Я! – заревела громада, и шарахнули из хаты, не уважая, что и чарки были налиты, и дружко калач разрезал. И что-то: все, и дружко, и поддружий, и бояре, и все разошлись; остался сам Никита с Солохою. Некому было приготовленного есть и налитого пить. Вот такая-то была свадьба у Никиты Власовича Забрёхи, что был когда-то в славном сотенном местечке Конотопе паном сотником!!!
Смутен и невесел пришел чрез несколько дней в хату к Никите Власовичу пан конотопский писарь Прокоп Григорьич Пистряк. И как вошел, так и повалился на лавку, склонился на стол и заголосил.
– Не умножай горести, Григорьич! – говорит ему Власович. – Тут и без того тошно на свет глядеть… Чего же ты воешь, как собака?
– Горе, Власович! Горе постиже мою утробу до раздражения!
– А мне что за дело? – сказал Никита, спохватившись и вспомнивши, как он отошел от него, узнав о его смене и не дав ему никакого совета, да еще и в глаза насмехался.
– Не вспомяни моих первых беззаконий, друже! Ныне и аз грешный в простоту повергохся!
– Как так? – спросил Власович. А Пистряк по-своему, по-письменному, и рассказал, как он пришел к новому сотнику прехраброй конотопской сотни, Демьяну Омельяновичу, пану Халявскому, и как тот, – говорит, – воззрел на него гордым оком и нечистым сердцем, аки на пса смердяща, и велел ему писать к вельможному пану полковнику рапорт о таких и таких делах. Григорьич захотел поумничать, и чтоб с первых пор взнуздать пана сотника по-своему, чтоб не важничал против писаря, написал по-своему. Пан сотник понял, что не так, потому что был и сам грамотный, говорит писарю:
– Не так! – а писарь ему в ответ:
– Так.
Пан сотник крику:
– Пиши по-моему! А писарь говорит:
– Я на то писарь, и знаю, как и что надобно. Как же разозлится пан сотник, как крикнет:
– Так ты уже не писарь! – и начал ругать отца и матерь сначала Забрёхиных, а потом и Пистряковых, и весь род их; а там и самого писаря бранил-бранил на все бока, да в затылок и выгнал его из хаты, и сменил его с писарства. А на место его определил подписарчука, мальчика молодого, его же, – так закончил Пистряк. – «Не одиножды за возлобие драх и по лядвиям поругание чинил…»
После того, что день, то и сходилися они тужить, да знай куликали, потому что нечем им было заняться. Прошло их панство!..
Что же сделалось с Явдохою Зубихою, знаменитою конотопскою ведьмою? У пана Халявского, конотопского сотника, она жила в роскоши. Был ей батрак, была и работница определены по приказу пана сотника; и в праздники на поклон с гостинцами ходили к ней люди тотчас после сотника, а прежде писаря; и никто не смел ее не только ведьмою или тому подобным назвать, но еще величали ее по отчеству: Семеновна, или пани Зубиха. Вот до чего с нею пришло! Однако она скоро зачахла, иссохла и скоро дуба дала. Однако же не сразу и умерла. Как страдала!.. Умирает и не умирает; руками и ногами не шевелит; а стонет на всю хату, так что и на улице слышно было. А тут еще кот ее расходился да мяучит за нею изо всей силы… Вот там-то страшно было!.. Потом сорвали потолок… Тут, где взялся ворон, да черный-пречерный! Влетевши в хату, надлетел над нею, крылами махнул… Тут ей и конец!.. Только зубы оскалила!.. А кот тут и лопнул, как пузырь… А ворон, кто его знает, где и девался!.. Как же ее по-людски хоронить? Выволокли за село, зарыли ниц в яму, прибили осиновым колом, да еще и сверху заправили, чтобы, часом, с кола не сорвалась. Собаке собачья смерть!
Вот вам и конотопская ведьма!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.