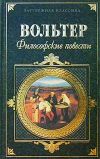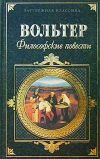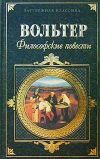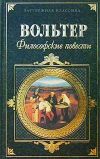Текст книги "Малороссийская проза (сборник)"

Автор книги: Григорий Квитка-Основьяненко
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 50 страниц)
Смутен и невесел стоял, руки сложа, храброй конотопской сотни пан сотник Власович, Никита Забрёха, в славном сотенном местечке Конотопе, на улице, подле шинка, где всегда собиралась сотня на ученье ли, или к счету казаков, что не ушел ли который казак, как бывает. Стоит он, сердечный, руки сложил, голову потупил, словно вол перед ярмом. А казаки все начисто, как стекло, перед ним стеною стоят, шапки сложивши на призьбе у шинка, чтобы, как будет какое ученье, так чтоб не спали с голов, а дети, что тут так и бегают вокруг казачества, чтоб не подобрали да не запрятали куда далеко.
Так вот-то стоят казаки и ожидают, что с ними будут делать и какой приказ будет, а до того кое-кто промежду собою балагурят, как вода на спуске шумит, даже эхо раздается; и, вынувши из-за голенищей, кто рожок с табаком, нюхают да чихают, а кто трубку, тут же зажегши, покуривают.
Пан Забрёха этим ничем не уважает, и не видит, и не слышит, что подле него делается. Ему кажется, что он все еще слушает, что читал ему пан писарь конотопской сотни Прокоп Григорьич Пистряк. А этот, давно прочитав что надобно, сложивши бумагу, кладет в карман… Как вот пан Власович вздохнул тяжело и громко, словно кузнечий мех, спрашивает писаря:
– Сделай милость, приятель Григорьич! Расскажи мне словами, что ты там в рапорте читал? Ты знаешь, что я ничего письменного не разжую, хоть и в школе учился и «Верую» начал было учить; да на «же за ны» как остановился и не мог далее идти, да и бросил грамоту. Так ты мне не читай, а расскажи, что это за рапорт принес казак из Чернигова? Ведь же мы послали рапорт, что в поход не пойдем, хоть они нам кол на голове пускай рубят; нам некогда, другое дело зашло, так чего же они умничают?
– Вся спирра[210]210
Спирра – военная единица, рота. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть] черниговская безумию вдадеся! – начал говорить, прокашлявшись, пан Пистряк. – Восписуют предписание и бранят вас, пан сотник, и меня – гм, гм! – воссозывают, извините в этом слове, «дурнями», занеже мы возгнушалися их повелеванием и не направихом стопы наша до Чернигова.
– Догадался, хоть через десятое-пятое понял, что ты, пан писарь, говоришь. Так это нам все-таки собираться в Чернигов?
– Не иначе, как обаче, – сказал Григорьич, мигнув усом.
– Так лихорадка же им! Вот им кулак под нос! – Да сложивши пальцы, и стал вертеть. Вертел-вертел, да на Чернигов и тычет, и все прицмокивает, а потом как крикнет:
– Не пойду! Я им послал через хромого рапорт, что нам некогда! А пан Пистряк и говорит:
– Да наш хромой еще не дойде и до половины пути. Не возмущайтесь, пан сотник! Мы не изыдем, дондеже не получим ответствования на наше сомнительство.
– Так-таки, Григорьич, не пойдем. Видишь, как я умно выдумал? Не пойдем, да и не пойдем. Ну, хлопцы! Солнышко садится, ступайте ужинать. А завтра, чем свет, с косами косить мне. Пойдем-ка, пан писарь, ко мне ужинать. У меня будут знатные вареники и яичница… Ой беда! Ой, помогите… Ой, горе! – начал пан Власович не своим голосом ужасно кричать да за бока хвататься… Пан Пистряк и казачество бросились к нему узнать, что ему сделалось, как он… шарах!.. поднялся вверх и полетел, как птица, все-таки крича, что есть мочи!..
Как же ужаснулись все люди в славном сотенном местечке Конотопе, как увидели, что их прехраброй сотни пан сотник, Никита Власович Забрёха, поднялся под самые небеса, и без крыл, да летит, как лучшая птица! И женщины, и мужчины, и малые дети, – да что? – и старые повылазили из своих хат смотреть на такую невидальщину; и все же до единого закинули головы назад, глядят, как пан Забрёха, как птица какая заморская, летит по-под небесами: руками машет, словно крыльями, черкеска у него раздувается, ногами болтает, шаровары напужились, сам вспотел будто в горячей бане; и летит, и кричит, и где увидит на земле человека, то, сколько есть голосу, пить просит. Этакое чудо увидевши, старые люди ужасаются, женщины с перепугу голосят, а малых детей не одного до смерти перепугало. Да разве же и не страшно?..
Прокоп Григорьич, видевши такое диво, стоит, поднявши голову вверх, рот разинул, даже горлянку видно; глаза вытаращил и знай руками машет, как будто хочет поймать и удержать своего пана сотника, что полетел, как гусак. Да и все казачество, таки все до одного, удивлялися, глядя на эту комедию… Да как и не удивляться, видя, что человек в своем уме, ни с того ни с сего полетел, как птах. И когда бы это в полночь, как всякая нечистая сила по свету толчется, а то еще и солнышко только-только что зашло…
Старая Лёзниха едва от старости и от болезней вышла за ворота и, глядя на казаков, как они собирались, как между собою играли, как готовились к ученью, вздохнула и говорит:
– Слава тебе, Господи, что я не казак! Не смогу и через хату перейти, а тут бы надобно бегать, да бороться, да еще подчас и на коне ехать!.. Не хочу, не хочу казаком быть! – Да потом… глядь!.. летит над нею что-то такое страшное… Рассмотревши, побрела к казакам и рассказала им, чтобы они уже не дожидали своего пана сотника, потому что он полетел на зимовье, за море, в теплые места. – Я, – говорит, – сама видела; летит, словно ворона, только что не кракает, а знай пить просит.
Пан писарь и казаки – нечего делать! – разошлись и порассказали тем, кто не видал, как конотопский пан сотник, Никита Власович Забрёха, полетел, словно ворона… И все же, кто про это ни услышит, вздвигнет плечами, удивляется и говорит:
– Жди же добра, когда и начальство наше обведьмилось!
А наш пан сотник летит, сердечный, летит от самого Конотопа, и не знает, где он остановится и что с ним будет… как вот!.. хутор; и он чувствует, что начал опускаться все ниже, ниже… Разглядывает, присматривается… ан это хутор Безверхий, что на сухой балке… Вот летит да летит над избами, да в Оленин двор, где уже он раз был… Вот, как влетел во двор, да к хорунжевной хате, да в сени, да прямехонько в хатние двери… И как они были из середины заперты, так он в них – гоп! да долбнею, да тут и протянулся, как колода, и не дышит, и не ворохнется…
Вот этот-то стук услышала Явдоха Зубиха, колдуя над панною Осиповною.
Вот Явдоха и отозвалась к нему:
– Не стони крепко и не охай, чтобы кто не услышал, да иди скорее в хату.
Отперла ему дверь, кличет его, кличет – так нет ни гласу, ни послушания! Лежит наш пан сотник, как колода! Нечего делать Явдохе, потащила его в хату и как переволокла на другое место, так он и застонал, и глаза открыл, и не знает, где он очутился? Разглядывая везде, узнал Зубиху; тотчас, стоная, начал ругать отца и мать ее, что сделала ему такую пакость. А Явдоха знай свое толчет:
– Не знаешь своего счастья! Да не кричи же, разбудишь всю дворню. Что же станешь делать? Испугался, так испугался. На-ка, понюхай этого.
И поднесла ему под нос тертого хрену… Он как понюхал, так и чихнул три раза, а потом начал просить пить. Явдоха взяла воды, пошептала над нею, взбрызнула его тою водою, потом слизала его языком по лицу, чтобы сглазу чего не приключилось ему, да и дала ему той воды напиться. Он, в один глоток, а горшочек был порядочный, так и высушил да и говорит:
– Дай-ка, титусю, еще.
– Але! – говорит Зубиха. – Я не пить призвала тебя сюда. Оставь свои трихи да мнихи да принимайся за дело. Видишь ли, какая краля лежит?
Пан Забрёха окинул глазами, как и увидел, что панна Олена спит… Да так и задрожал, словно обваренный!.. Да и в самом же деле краля была!.. То была хороша, а как разоспалась да и раскраснелась, как красное сукно или роза в саду!.. Власович на цыпочках затанцевал около нее, разглядывает и слюнки глотает… Забыл и беспокойство свое, что столько перелетел, забыл, что и пить хотел. Не идет на ум ни еда, ни вода, как перед глазами беда! Явдоха наконец отвела его и говорит:
– Надо же дело делать. Возьми-ка вот эту лягушку, отверни ей головку прочь и еще живую, не издохшую, вбрось скорее в печь.
Вот пан сотник и сделал все, как велела ему Явдоха, и лягушка еще пищала, а он ее и швырнул в печь.
Как спеклась и иссушилась та лягушка, Явдоха достала ее, оборвала все мясо, а косточки пособирала и стала из них выбирать: вот и нашла одну, точнехонько, как вилочка, и научила Власовича, что с нею делать.
Пан Забрёха приложил ту вилочку к сердцу панны хорунжевны. Она тотчас и заговорила во сне:
– И что мне пан Халявский! Плюю на него!.. Никитушка, мой голубчик! Где ты? Явись ко мне… Хоть бы я поглядела на тебя!..
Власович с радости как захохочет… Так Явдоха взяла его за руку и, отведши, научила, что еще сделать, и дала ему косточку из лягушки же, как будто крючок, и велела Забрёхе дотронуться под сердце хорунжевны… Она после этого так и запылала и начала говорить во сне:
– Не хочу за Халявского!.. Не принуждайте меня!.. Отдайте меня за Забрёху!.. Когда не отдадите… уйду!.. Никитушка!.. Душенька Власович! Час от часу больше люблю тебя!..
Тут Явдоха отвела Власовича от панночки и говорит:
– Видишь, как я сделала, что она на Халявского плевать будет, а за тобою будет убиваться. Теперь совсем пора домой. Не тужи ни об чем и ожидай, как она будет присылать за тобой и увиваться около тебя. Ну, скорее поедем.
– Как же мы, тетушка, поедем? Когда опять лететь, то цур ему! Ей, не могу!..
– И, нет уже, сынок; и мне тебя жаль. Теперь поедем, и хоть ты дорогою дремли, хоть и спи, то не бойся ничего. Перед светом будем дома. Я завтра опять тут буду и дам панне Олене вот эту лягушечью косточку, чтоб носила при себе; пока будет носить, по тех пор будет любить тебя. Выйдем же из хаты и поедем, а то панночка уже скоро проснется.
Вот Зубиха собрала все свое, сложила, как ей надо было, взяла донце и веретено и вышла с Власовичем из хаты, говоря Забрёхе:
– Садись на донце по-казацки, как на коня; а я где-нибудь прицеплюсь, мне не впервое.
Только-таки что Власович занес ногу, Явдоха как свистнет, как цмохнет!.. Донце поднялось вверх, на нем пан сотник верхом, а сзади подсела Явдоха, да все веретеном погоняет, да цмокает, да приговаривает, как на кобылу, – и поднялись под самые небеса…
Сидит наш конотопский сотник Никита Власович на донце, словно на коне! Ноги без стремян так и болтаются, а чтоб не упасть, держится руками за то донце… А оно летит! Все летит и еще быстрее, чем Яцкова хромая приблудка. Назади сидящая Явдоха даже визжит от холоду, потому что ветерок холодный крепко ее продувал.
Не успели они хорошенько осмотреться, как уже и Конотоп недалеко. Явдоха что-то пробормотала, и вот донце все ниже, все ниже… да плюх! подле Забрёхиных ворот и упало… Пан Власович как гопнул, да и не очувствовался, и не взвидел, как Явдоха с донцем исчезла. Вошел к себе в светелку, погасил огонь и бебекнул на постель да, подумавши, сказал:
– У меня есть теперь хорунжевна! – и захрапел изо всей силы.
Смутна и невесела, проснувшись, сидела на кровати панна хорунжевна Олена Осиповна в своей хате, в Безверхом хуторе, что на сухой балке. Сидит, зевает, глазки протирает, и сама себя не понимает, где она, что она, что с нею делалось, что такое снилось ей и отчего ей так грустно и тяжело.
Как вот где ни взялась конотопская ведьма Явдоха Зубиха. Вошедши в хату, и говорит:
– Добрый день тебе, панночка! Чего ты такая смутная и невеселая?
– Ах, бабуся! Теперь я все вспомнила! Что ты это со мною наделала? – так, охаючи, говорила панна хорунжевна.
– Але! Молчи да дышь! На-ка вот этот мешочек, да повесь на шнурочке на шею, то и все будет хорошо. – Да это говоря, и повесила его ей на шею: а в том мешочке лягушечья задняя правая лапка, да из нее же высушенное сердце, да лобовая косточка, да немного Никитиного следа. Только что это ей привесила, так панна Олена и повеселела, как из воды вышла. Глазки так и горят, щеки раскраснелись, а сама и на постели не усидит, бросилась к Зубихе и даже плачет да просит:
– Титусю, голубочка, пани маточка! Что хочешь делай, только отдай меня за конотопского пана сотника Забрёху; я таки хорошо и не знаю, как его зовут. Отдай, отдай скорее меня за него!
– Ведь же он тебя сватал, да ты поднесла ему печеную тыкву!
– Да то я была дура и сумасшедшая… Не рассмотрела его хорошо, не расспросила людей, не послушала брата… Теперь мне свет не мил без него!..
– Ведь же ты любишь паныча Халявского, Омельяновича, судьенка?..
– Да то я была дура и сумасшедшая!.. После вчерашнего дня и цур ему и пек ему от меня. Одно у меня на уме, что хоть лишь бы повидеть Забрёху, да наглядеться на него, да приголубить его… Да чтоб он женился на мне…
Да говоря это, чибурах с постели к ногам Зубихи, и лежит, и плачет, и просит:
– Сделай, титусю, чтоб он меня взял! Я тебя три года буду называть родною матерью[211]211
За сделанное какое большое одолжение обрекаются на урочное время звать и почитать отцом, матерью, дядею, братом и т. под. По миновании срока все приходит в прежнее отношение, и титулование прекращается. (Прим. автора.)
[Закрыть], буду тебя и уважать, и почитать. Когда же он от меня отречется, пойду куда глаза, сама себе смерть причиню!..
– Да полно же, полно, уймись! – говорила ей Явдоха, и подняла ее с земли, и посадила на лавке. – Вот войдет твой братец, ты ему, не стыдясь, все расскажи, пускай скорее идет в Конотоп к пану Забрёхе да и скажет, чтоб присылал людей за рушниками. Вот же и братец идет к тебе, а я пойду в Конотоп, и с Забрёхою сделаю все, что нужно. Не тужи да делом поспешай.
Сказавши это, вышла из хаты; а пана хорунжевна вслед ей кричит:
– И платок, и свадебную шишку тебе дам!.. Как вот и вошел к ней брат ее, пан хорунженко.
– Что, братец, ты уже здоров? – спросила его сестра.
– Теперь уже ничего, все прошло.
– Ну, братец, не тужи. Скоро тебе можно будет идти в монахи, – стала говорить панна Олена, потупивши глазки в землю. – Я уже… выбрала… себе жениха… – сказала Олена да от стыда покраснела как рак.
– А кого?
– Пана сотника конотопского Забрёху.
– Что печеною тыквою попотчивала?
– Эге!
– Ведь же ты, кажется, что-то пристально поглядывала на пана Халявского?
– Цур ему, и не вспоминай про него, а сделай милость, поезжай в Конотоп, да скажи и попроси, чтобы завтра… или хоть сегодня присылал сватов; а в воскресенье и свадьба…
– Да что это тебе вздумалось так спешить? – спросил ее пан хорунженко. А самого взяло за живот, что ему уже недолго гулять в мире… – Еще, может, хоть немного осмотрелась бы, а то шить-белить, завтра Великдень.
– Умру, когда через неделю не выйду за пана сотника! Я его эту ночь видела во сне. Что за красивый! Как нарисованный… Сделай милость, братец, соколик, лебедик! Поспешай, как можно. Привези и его с собою, привези и сватов, чтобы скорее кому рушники подавать… Или сватов не надо, и тут насобираем; только его скорее… Его ко мне вези!..
Так вражья конотопская ведьма наделала, что бедная девка даже на стену дерется да сильно желает выйти за пана сотника Власовича Забрёху.
Нечего пану хорунженку делать! Велит завтракать подать; ест и думает; не наелся и не надумался. Пожелал обедать; обедает и думает. Потом, как пообедал, так и надумался и говорит сам себе:
– Пан Халявский в рот ничего не берет, а пан Забрёха – не взял его черт! – не проливает; чтоб и меня еще не перепил! Ну, нет нужды! Отдам сестру за него, да с молодицами поживу с год места.
Так надумавшись сам с собою, сел на возок да и катнул в Конотоп, прямехонько к пану сотнику Никите Власовичу Забрёхе.
Тут наша панночка и принялась хлопотать, и к сговору прибираться: хату моют, столы, лавки, полки смывают, птицу режут, лапшу крошат, горшки приставляют в печах, рушники приготовляют… так, что все работницы изморилися от таких приборов.
Смутен и невесел сидел пан судьенко Демьян Омельянович Халявский в своем хуторе, в пустой хате, откуда выгнал всех с сердцов. И знай то сердился, то тосковал, то ругал всякого, кто только на мысль ему приходил; то грустил и с печали даже похудел. Как же ему было и не тужить? Панна хорунжевна, что на Безверхом хуторе, где сухая балка, Олена Осиповна, которая побожилась и поклялась, что ни за кого не пойдет замуж, кроме него; что не один вечер он с нею до полночи просиживал под вербою близ колодца; с которою он и перстнями обменялся; которая ему Святою пятницею[212]212
Святая пятница – Великая (Страстная) пятница – день, когда Христос умер на кресте. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть] божилась, что только лишь он воротится из походу от Чернигова да пришлет сватов, то она тотчас подаст рушники… А он, на это понадеявшись, в Чернигове даже пять полтин истряс, чтоб его отпустили жениться… Что он, вырвавшись из Чернигова, бежал как бешеный к своему хутору, бежал и ночь и день, и лошадь уморил, и, сам измученный, вскочил в хату, да скорее и пугнул Хиврю, свою работницу, чтоб бежала сзывать дядьев да троюродных братьев, чтобы скорее брали хлеб святой да калачи да ехали бы до панны хорунжевны за рушниками… Как тут Хивря и поднесла ему пинфу, что, – говорит, – панну хорунжевну уже посватали за пана сотника конотопского Никиту Власовича Забрёху, и уже и рушники подавали, и сватанье запили, так что ну! Что только тот, кто не был на сватанье, тот не был пьян, а то все наповал лежали даже до другого дня; что завтра будет свадьба; что уже панночка с распущенною косою, известно, как сирота, по улицам конотопским ходит с песнями и подружек собирает; что его, Халявского, тетки, нарядившись, пошли в Безверхий хутор каравай месить; что сам пан Забрёха приезжал и договорил слепого скрипача на свадьбе играть… Это все как выслушал пан Халявский, да как, слушая, разинул рот, так он ему так и остался… А потом как затрясется, как будто в лихорадке… Глаза даже на лоб ему выкатились и словно горят, да как сложит кулаки, как хряпнет себя по голове, так что насилу устоял; потом как начал, как будто распоясавшись, ругать и панну Осиповну, и пана хорунженка, и пана Забрёху, и дядьев, и теток, и братьев, и невесток, и дружек, и каравайниц, и слепого скрипача, и работницу Хиврю… Уж ругал-ругал, вычитывал-вычитывал им все до того, что пена у него изо рта, как у бешеного… А потом как бросится к Хивре… так бы ее и растерзал, если бы она, догадавшись, не ушла…
Вот то-то он остался сам себе в хате, да и тосковал и тужил, и с сердцов нарвал себе с головы полны горсти волос… Да как вздумает, что уже не можно ничем дела поправить, да так и зарыдает! Даже завоет, как атаманова собака, да и начнет драться на стену, как вне ума!
Уже в десятый раз колотил он себя то по голове, то в грудь, и все кулаками, и только что надумал было голову разбить об стену… как… рып!.. и вошла в хату бабуся старая да престарая, сгорбилась, через силу ноги таскает и палочкою подпирается. Вошла, поклонилась и говорит:
– Добрый день тебе, паныченьку!
А паныч молчит и, вытараща глаза, только сопит.
– Отчего это у тебя нет никаких приборов? – говорит баба, не уважая, что он смотрит на нее, словно бешеный.
– Ни птицы не режут, и муки на лапшу никто не сеет? Вот так приготовляйся! Завтра у него свадьба, а он себе и не думает!
Не знаю, где бы очутилась эта баба, и как бы затрещали косточки ее, и кто б то их после и с собакою собрал, как бы Демьян Омельянович не был уже рассержен так, что и не можно больше! Полон рот пены, языка не поворотит, только трясется да, сложив кулаки, визжит, словно собака. Думаю так, что как бы еще немного, то он бы с сердцов лопнул. Как же таки и стерпеть? Тут человеку совсем беда! Только было приготовился совсем жениться и сватов посылать с хлебом, как тут ему девка и отказала! И идет за того, над которым она и в глаза насмехалась! Как же было тут пану судьенку стерпеть, когда еще пришла бабуся, да еще такая, что гадко щепками взять, да и та над ним смеется. Он бы, говорю, истрощил ее на мелкие куски, как старый веник; так ему от злости дух захватило, и он не может и пошевелиться. А она между тем говорит:
– Чего же ты так лютуешь? Молчи, да дышь, да слушай меня. Не я буду, когда панна хорунжевна Олена, что из Безверхого хутора, не будет за тобою завтра чем свет.
Как сказала это ему бабуся, так он с радости даже задрожал, да что-то хотел сказать – и не смог; а вытараща глаза, силясь, едва-едва проговорил: «йо!»
– Да будь жe я шельмовская, анафемская дочь! Чтобы мне глаза вылезли, чтоб мне руки и ноги искорчило, чтоб мне стонадцать куп лихорадок, чтоб на моем лице село семьсот двадцать пистряков, – да и всякими ведемскими проклятиями начала клястись, – когда, говорит, не сделаю так, что ты завтра с Оленою в утреню обвенчаешься. Только слушай меня, ведь ты меня уже хорошо знаешь!
Как-таки этому панычу и не знать конотопской ведьмы Явдохи Зубихи (это она была), когда она ему раз язычок поднимала, в другое остуду снимала; так уже он не мог не знать ее. Вот как услышал он это от нее, так и стало ему на душе легче. Тотчас и понял, что ему надо делать, да скорее – чибурах! – ей в ноги, да и просит:
– Титочко! Голубочко! Сделайте… как знаете, так и сделайте, чтоб Олена была моя! Целехонький год буду вас родною матерью звать; куплю плахту, очипок, серпянок, чего пожелает душа ваша и кота вашего!.. Только подумайте же: ведь Олена уже собирает дружечек; каравайницы уже до сей поры деж у по хате носили; а пан сотник конотопский Никита Власович нанял слепого скрипача свадьбу играть, так где уже!..
– Разве же я не Явдоха? Я ему сделаю свадьбу! Пускай-ка истратится, пускай протрясет для тебя отцовские рублёвики; да я и его оженю. Пускай и Олена собирает дружек; пускай они начинают припевать Никите; а я сделаю, что сведут на Демьяна. Принимайся же скорее, прикажи, чтобы в доме и пекли, и варили, и напитков приготовили. А ты беги, собирай бояр, свашку, светилку, старостов да сыщи хоть какого-нибудь отца, чтоб порядок давал.
Агу! Наш судьенко развеселился: схватил пояс и стал подпоясываться, хватает шапку, чтоб идти собирать поезд; а Явдоха, выходя из хаты, стала петь свадебную песню, да еще прискакивает:
У Демьяна отцов много,
А родного ни одного.
Все такие, чтоб напиться,
А некому пожуриться;
Все такие, чтоб пить и гулять,
А некому порядку дать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.