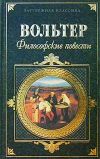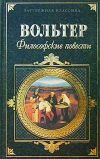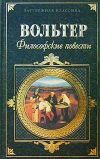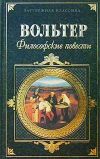Текст книги "Малороссийская проза (сборник)"

Автор книги: Григорий Квитка-Основьяненко
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 50 страниц)
Петру Васильевичу Зворыкиину[280]280
Зворыкин Петр Васильевич (1804–1864) – генерал-майор, наказной атаман Оренбургского казачьего войска, племянник А. Г. Квитки. В письме к Плетневу от 3 августа 1840 года писатель просил о посылке ему всех номеров «Современника» за текущий год. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть]
Сколько могу припомнить, 21 число июня месяца не ознаменовано никаким событием ни в древней, ни в новой, ни во всеобщей, ни в русской историях, в пол-листа и в осьмушку печатанных. Тысяча восемьсот тридцать второму году предназначено было поставить сей день в число достопамятных. В течение сего навсегда заметного дня, в 20-й минуте двенадцатого часа до полудня, при ясном, безоблачном небе, при +20°Р., дворовые гуси Никифора Омельяновича Тпрунькевича, не быв никем водимы, наставляемы, научаемы, подгоняемы и побуждаемы, сами собою, добровольно и самоуправно, всего счетом 13 гусей серых и белых, обоих полов и различного возраста, перешли с полей владельца своего и взошли на землю, принадлежащую Кириллу Петровичу Шпаку, засеянную собственным его овсом. Если бы только взошли, походили, погуляли и возвратились на земли господина своего, то оно бы ничего: никто бы не узнал, не произошло бы ничего важного, и день сей, подобно, как и некоторые другие, остался бы надолго незамеченным во всех историях. Но судьба хотела иначе.
Известно, что гуси – тварь глупая, не понимающая вовсе ничего, а потому не знающая и о неприкосновенности к чужому достоянию; о страстях же человеческих гуси ни от кого не слыхали и понятия не имеют. И потому сии тринадцать гусей, взойдя на земли Кирилла Петровича Шпака и увидя на ниве зеленеющую траву еще растущего овса, принялись самоуправно выщипывать ее, не по выбору, а сплошь. На беду сих гусей шел в то время дворовый человек Кирилла Петровича Шпака через поля господина своего, увидел проступки их, выгнал из нивы и погнал прямо на барский двор все-таки своего господина. Кирилл Петрович узнал, в чем дело, и как был темперамента холерического, в чем уверился, отыскав по Брюсову календарю[281]281
Брюсов календарь — настенный календарь, составленный в 1709–1715 годах библиотекарем В. Киприяновым с помощью известного ученого Я. Брюса и включавший астрономические таблицы, даты, церковные справки. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть] планету, под коей родился, то, не размышляя долго и не сообразив последствий, приказал тех гусей побить… да, именно тринадцать гусей, принадлежащих не ему, а Никифору Омельяновичу Тпрунькевичу. Бедные гуси! Памятно им будет 21 июня… Но и Кирилл Петрович Шпак повек не забудет его!.. А именно, вот какие последствия произошли.
На другой день достопамятного 21 числа, узнав о происшествии с гусями, Никифор Омельянович Тпрунькевич приказал купить три листа гербовой бумаги 50-копеечного достоинства, написал ужасно пространную просьбу, в коей подробно изложил, что близкий его сосед по имению, Кирилл Петрович Шпак, утесняет его, Тпрунькевича, яко мелкопоместного, и делает ему разные неслыханные обиды ежегодно, ежемесячно, ежедневно и ежечасно, и, наконец, описано самоуправное взятие с полей его, Тпрунькевича же, тринадцати гусей и безжалостное побитие их. Тут в подробности изочтен весь могущий быть приплод от сих тринадцати гусей, польза от мяса, потрохов, перья и пуху с них, обстоятельно выведена сумма в сложности десятилетнего дохода с процентами, и в таковой сумме подано исковое прошение.
Кирилл Петрович не плошал. Он был в этой части опытен. Купил шесть листов бумаги такого же достоинства и написал прошение еще ужаснее, нежели Тпрунькевичево. Тут изложены были все дерзости Никифора Омельяновича против него, Кирилла Петровича, личные неуважения, насилия по имению, с давних времен им производимые безнаказанно, и что между прочих притеснений сего владельца и подвластных ему даже самые гуси его решились нанести и нанесли ему обиду, выбив у него овса десять десятин; доход с них вычислен аккуратно и приведен в сложность за десять лет также с «проценты». Сумма иску вышла гораздо значительнее, нежели у Никифора Омельяновича Тпрунькевича.
Само по себе разумеется, что дело возгорелось сильно. Пошли следствия, свидетельствования, справки, обыски; кроме того, что не один раз каждый из спорящихся обязан был на свой счет поднимать суд, призывать понятых и угощать всех, но и писание прошений и отзывов чрезвычайно умножилось, и уже спорящимся надоело тягаться. И как ни надоесть, когда еще с начала дела до 1837 года не приведено было в ясность, что потерпела одна сторона через потравку овса в поле от 13 гусей, а другая от потери сих самих гусей! Вот как обоим надоело писать и отписываться, зазывать суд и понятых и угощать их, то уже обе стороны начали поговаривать о «примирии» между собою. Как вдруг, неизвестно только которого числа 1837 года, в день, неблагоприятный для Кирилла Петровича Шпака, явился к Никифору Омельяновичу Тпрунькевичу человек с пред ложением написать новое прошение и быть по том у делу поверенным. Он уверял при том, будто бы Кирилл Петрович от того прошения так струсит, что поспешит миром прекратить дело, заплатя искомую сумму «со всеми проторы и убытки, проести и волокиты».
Восхищенный Никифор Омельянович ухватился за совет благодетельного поверенного, заключил с ним условие, по коему обязался платить условленную сумму, до окончания дела содержать его на своем столе, возить в своем экипаже, выдавать особо на расходы по делу и сверх того снабжать «отсыльною провизиею» семейство поверенного. Прошение было изготовлено, подписано и подано… И что же узнал Кирилл Петрович Шпак? Во-первых, в том прошении именуют его по-прежнему, против чего он уже возражал неоднократно, не Кириллом, как следует, а Кирилою, в явную насмешку; а, во-вторых, добавлено, что «Кирилл Петрович взвел сие дело на Тпрунькевича от праздной жизни, подобно, как делали предки его и сам родоначальник их, занимавшийся одним давлением шпаков, т. е. скворцов, от какового занятия дано им и прозвание, а частию и потому, что оный Шпак одарен глупостию, подобно твари, птице шпаку, от чего он и есть естественный шпак».
Это взорвало до крайности Кирилла Петровича. Оставя читать газеты, он «благим матом» пустился в самый Чернигов. Хотя потратил много денег, но достал из Малороссийского архива все выписки и доказательства, кто именно были Шпаки, чем отличались перед ясновельможными гетманами и по какому случаю дана им сия фамилия и герб, в котором ясно изображен «спевающий шпак», т. е. скворец поющий, имеющий разинутый рот. Приобретя таковые драгоценности, он нашел еще и клад: приговорил поверенного, имеющего дар писать прошения не черня, набело прямо, и могущего расплодить дело на несколько отраслей и вести процесс хоть пятьдесят лет. Знаменитый адвокат был Хвостик-Джмунтовский.
Этот благодатный поверенный принялся за дело. Опровергнув всю клевету Тпрунькевича на Шпака чисто, ясно и аргументально, он начал выводить производство фамилии Тпрунькевича. И как первоначальный в ней слог есть «тпру», то и полагал он, что родоначальник его происхождением своим обязан коню, на коего кричат «тпру», или «уповательно» родоначальник был цыган, коновод и проч., и проч. И такого написал в том прошении, что Никифор Омельянович чуть не лопнул с досады, перечитывая это прошение. В заключение Кирилл Петрович, или его поверенный, просил суда о личной ему и всему роду обиде и удовлетворении его за каждого обруганного предка, бесчестьем противу ранга каждого, коим он приложил и именной список с показанием службы и должностей их.
Вот тут-то и закипело дело! Следствие об овсе и гусях, яко о тварях неразумных, оставлено впредь до рассмотрения, а приступлено к спору двух умных существ, претерпевших одно от другого тяжкую обиду укорением знатности рода. Пошли писать, пишут и поныне и будут писать еще долго, долго, пока спорящие не помирятся; но вряд ли последует между ними когда-либо мир, потому что особенный случай воспрепятствовал тому.
Рассказ да послужит вместо предисловия, потому что мы уже не обратимся к процессу Шпака с Тпрунькевичем, но обстоятельство это довести до сведения мы обязаны были, как видно будет из последствий.
Вот в чем дело.
Кирилл Петрович Шпак в молодости своей служил немного в военной службе и еще менее того в гражданской по выборам. Из первой он должен был поспешить выйти по причине разнесшихся слухов об открывающейся войне с турками; а, вступив из кандидатов в заседатели верхнего земского суда, располагал продолжать службу со всем рвением – должность пришлась по нем – но после двухмесячной службы его суд сей был уничтожен и он возвратился в деревню.
Родители его померли, и он был полновластный помещик 357 душ со всеми угодьями. Он поспешил исполнить обязанности дворянина: женился на дочери помещика значительного, устроил порядок по хозяйству, нанимал управляющего за значительную сумму, и сам иногда, при свободном времени, входил в положение дел по экономии – иногда, в свободное время, точно ему редко выходил досуг. Он очень любил заниматься политикой, и для удовлетворения своей страсти он платил архивариусу своего уездного суда, чтобы тот, по прошествии года, доставлял ему все сполна номера «Московских ведомостей» истекшего года. Привоз сих «поли тических материалов», как называл ведомости Кирилл Петрович, отрывал его от всех занятий. Он уединялся в свой «кабинет» – так он называл свою особую комнату, где на столе, кроме чернильницы, песочницы, счетов и при столе стула, не было ничего более. Тут он прежде всего принимался складывать ведомости по страницам, для чего много нужно было времени, потому что в уездном суде читали ли газеты или нет, но они перемешаны были порядочно. Приведя все это в порядок, Кирилл Петрович сам сшивал каждый номер, боясь поручить это дело кому неграмотному: тот бы опять перемешал листы и доставил бы ему новый труд и заботу.
Уладив таким образом, тут уже он принимался за чтение. Чтение же у него происходило не обыкновенным, но собственно им придуманным порядком. Во-первых, он «отчитывал», как он говорил, все внутренние известия и узаконения, со всеми происшествиями, по России бывшими. Окончив известия в 104-м номере, он с самодовольством поглядывал на жену свою и говорил ей: «Уж теперь, Фенна Степановна, я все знаю, маточка, что в прошлый год в России сделалось».
– Вам ли не знать, душечка? – ответствовала Фенна Степановна. – Вы знаете, что и за Россиею делается.
– О, нет еще, – а вот к концу года буду знать все, только не мешайте мне, маточка!
И тут он удалялся в свой «кабинет» и принимался отчитывать все происходившее в Испании. Он был ревностный защитник прав малолетней королевы, а дона Карлоса со всеми карлистами не мог терпеть и бесился при удаче их[282]282
Он был ревностный защитник прав малолетней королевы, а дона Карлоса со всеми карлистами не мог терпеть и бесился при удаче их. – Карлос Старший (1788–1855) – сын испанского короля Карла IV. В 833 году, поддержанный сторонниками абсолютистского режима, представителями духовенства и крупных землевладельцев – карлистами, развязал против регентши Марии Кристины, матери Изабеллы II, Первую карлистскую войну в Испании. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть]. Внимательно проходя от номера до номера дела испанские, как он был однажды взбешен на редакцию ведомостей, и вот за что: начитал он в статье об Испании, что христиносы разбили карлистов знатно. Он торжествовал и веселился – как, отчитывая Францию, нашел, что то известие о разбитии карлистов было ложное… Уж досталось же всем: и издателям, и сообщившим эту статью в Париж… «И зачем в Париж? Почему они прямо у себя не напечатали?» – кричал он в сильном гневе.
– Не тревожьтесь же так, Кирилл Петрович, – уговаривала его Фенна Степановна. – Эти газетчики иноверцы, бусурманы, в пост едят скоромное, так их и попечение в том, чтоб православных тревожить, вот как и вас теперь взбесили. Плюньте, душечка, на них.
Отчитавши все статьи об Испании, он принимался за Францию, по его примечанию, больше всех способствующую христиносам; потом отчитывал прочие государства и заключал Англиею, не любимую им за подвоз оружия карлистам. За политикою следовало отчитывание объявлений казенных и потом частных, все же по порядку. Когда начинал о продаже имений, то прочитывал все объявления сего рода до конца, и потом о продаже книг, забежавших собаках и проч. и проч., все же под один разбор.
В субботу нарушалось его чтение в «кабинете». По заведенному Фенною Степановною порядку в этот день должны быть перемыты все полы в доме. Как же они с первых дней супружества дали друг другу слово заниматься особыми частями хозяйства и в чужие распоряжения не вмешиваться и не препятствовать, потому Кирилл Петрович с утра каждой субботы, схватя свои ведомости, уходил при благоприятной погоде в сад, а в противном случае к столярам, в рабочую, где при стуке долот и молотков радовался поражению карлистов.
Невыгодны были для лета подобные переселения. В «кабинете» он запирал двери на крючок и не впускал к себе Фенны Степановны ни за что, пока не окончит статьи. В сад же и в столярную она входила свободно и без дальних приготовлений прерывала мужнино чтение. Впрочем, причины, по коим она приходила к нему, были, по ее мнению, довольно важные и не терпящие отлагательства, как, например, следующая.
В одну из суббот Кирилл Петрович, проснувшись ранее обыкновенного и ожидая нашествия поломоек с ведрами и судками, схватив «Московские ведомости», в халате, туфлях и колпаке вышел в сад и расположился на скамейке, под развесистою яблонею. Неожиданно попалась ему статья, извещающая о сильном поражении карлистов. С наслаждением перечитывал он статью в третий раз и затверживал о числе убитых, чтобы подробно пересказать соседям при случае, как вдруг приходит к нему Фенна Степановна…
Он ее заметил еще издали и уже тревожился заранее, что будет прерван и в интересном месте… Она подходит и, не обращая внимания на суровость, видимую уже на лице его, приблизясь к нему, говорит:
– Вот куда они забрались! Я вас, душечка, по всему дому искала!
Кир. Петр. (приставив палец к газетам, продолжая читать: «Потеря карлистов простиралась…» Но, видя, что жена подошла к нему и остановилась, следовательно, не отойдет без ответа, сказал):
– Где же мне в доме усидеть, когда все полы моют?
Фенна Ст. Помилуйте вы меня, где ж моют? Проспали, канальи, долго и только теперь еще приготовляются.
Кир. Петр. Ну, уж вышел, так вышел, назад не пойду. Да что вам, маточка, тут надо?
Фенна Ст. Дело есть, душечка, поговорить.
Кир. Петр. У вас всегда найдется тут дело, когда я займусь чем. Дайте же мне, маточка, вот немного времени: завязалось сражение и, кажется, будет кровопролитное. Дочитаю, займусь вами.
Фенна Ст. Да нуте же, полно! Уж как примутся сражаться, так ничем и заняться не хотят. Вспомнили б и свои лета: куда уж вам думать о кровопролитии?
Кир. Петр. Ох, какие вы докучливые! Нуте, уже говорите, что вам надобно, да и оставьте меня.
Фенна Ст. (вынимая из кармана пузырек). А вот, душечка, что. Не хотите ли принять лекарства?..
Кир. Петр. Помилуйте меня, маточка! Я совсем здоров. На что мне лекарство и какое оно?
Фенна Ст. Так что же, что здоровы? Станете еще здоровее, лишнее здоровье никогда не мешает. А это лекарство от колики. Нате-ка, выкушайте.
Кир. Петр. Да меня нигде ни колет! (И тут, придя в холерическое состояние, отодвинул от себя газеты и начал говорить с жаром:) Помилуйте меня, Фенна Степановна! Это разорение с вами! Что вам вздумалось здорового человека лечить?..
Фенна Ст. Я вовсе не лечу, а хочу усилить еще больше здоровье ваше. Видите что, прибирая у себя в шкафу, смотрю, баночка с лекарством. Помните ли, душечка, прошлого года зимою я поела на ночь буженины с чесноком и меня схватила колика – чуть души богу не отдала. Спасибо, Иван Фомич тогда прописал мне это лекарство…
Кир. Петр. Так то же у вас колика была, а не у меня. Вы же, маточка, тогда буженины на ночь накушалися, а я вчера, почитай, и не ужинал. Оно же прошлогоднее, никакого действия не произведет. Лучше вылейте его.
Фенна Ст. Помилуйте вы меня, Кирилл Петрович! Я вам не наудивляюсь. Человек вы с таким умом, а какие нелепости представляете. Вылить! Как так вылить, когда вещь стоит рубль двадцать копеек?..
Кир. Петр. (с жаром). Помилуйте же и вы меня, Фенна Степановна! Я тут и в толк ничего не возьму: у человека все благополучно и нигде не колет, так пей прошлогоднее лекарство, чтоб деньги не пропали! И с чем его принимать, с чаем или с вином?
Фенна Ст. И сама не знаю, что-то забыла, а ярлычок оторвался. И того не помню, внутрь ли его принимать, или снаружи мазать? Ей-богу, не помню, хоть сейчас убейте меня, не помню! (Ласкаясь к нему.) Да нужды нет, душечка, тут его немного, всего один прием. Любя меня, и не очувствуется, как проглотите. Нате же, выкушайте.
Кир. Петр. Умилосердтесь надо мною, Фенна Степановна! Что вам за каприз пришел мною, как шашкою, играть? Я, кажется, вышел из тех лет, чтобы мною управлять: я хочу жить своим умом. Ну, хорошо, я его приму, а оно наружное? Мне оборвет горло или уста сожмет, что и хлеба куска не пропихну в рот. И если еще оно со шпанскими мухами[283]283
Шпанские мухи – здесь: лечебный порошок, изготовленный из высушенного жучка. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть], так что тогда будем делать? Ну, когда вам жаль денег, так отдайте выпить Мотре.
Фенна Ст. Её ли хлопскому горлу глотать по рублю двадцати копеек? Где ваш рассудок?
Кир. Петр. Так идите же себе, ради бога! Хоть сами выпейте, хоть собаке отдайте, мне все равно. Не мешайте мне читать газет. (Читает.)
Фенна Ст. (отойдя от мужа). Так уже и с собакой меня сравняли! Прекрасно! Уж я давно заметила, что газеты предпочитают супружескому согласию, и уже не спрашивай, чтобы жене угодное что сделать!.. Что за чудный нрав у них делается! Чем более стареются, тем больше во всем отказывают, и к ним ни приступу… тотчас осердятся.
Последние слова она проговорила сквозь слезы, а, пришедши к себе в комнату, она порядочно всплакнула и оставила все наблюдения за мытьем полов.
Фенна Степановна была дочь помещика с порядочным состоянием. Воспитана по-тогдашнему и научена всем частям домоводства. Читать могла только утренние и на сон грядущий молитвы; далее в молитвенник не заглядывала, а о гражданском боялась и помыслить, почитая все глупостию, вздором, греховным писанием (как будто читала нынешние книги!). Вышедши замуж за Кирилла Петровича Шпака, она во всей строгости исполняла правила, внушенные ей в отношении к мужу: почитала его умнейшим, совершеннейшим человеком в мире, но тщеславилась, когда могла уличить его в какой ошибке, недосмотре или неосновательном суждении в семейных делах. Под старость эта слабость в ней усилилась, и она при каждом случае упрекала его, не разбирая, справедливы ли ее замечания. В распоряжения его по хозяйству она вовсе не входила, и хотя бы Кирилл Петрович приказали зимою пахать, а летом оставили траву в поле не косив, она не вмешивалась, и в подобных случаях, махнув рукою, говаривала: «Они мужчина, это их дело». Свою же часть, домашнее хозяйство, знала в совершенстве и превосходно все устраивала. Как отлично выкармливались у нее кабаны, поросята и вся домашняя птица! Какие хлебы, пироги, вареники, ватрушки, борщи разных сортов, наливки со всех ягод и плодов, водки на разные коренья двоенные – это прелесть! За пятьдесят верст в окружности и подобного не можно было найти. Уж подлинно с удовольствием часто съезжавшиеся к ним гости проводили время. Именно окармливаемы были! Во всем доме чистота удивительная. Малороссийская барыня в совершенстве!
Можно было осудить ее за невнимание к туалету, но она – у себя дома. Притом же столько частей нужно было осмотреть с самого раннего утра, и потому-то она, лишь пробуждалась, схватывала, разумеется, юбку, на босу ногу башмаки и, прикрыв свои «роскошные плечи» большим кашемировым платком, купленным в Ромнах на ярмарке еще в 1818 году, приносила утренние молитвы. После моления исходила на дела свои. А какая добрая была! При таком множестве частей хозяйственных, требующих ее распоряжений, наставлений, приказаний, она при неисправностях – где без них бывает? – не то чтобы не сердилась, без того не может ни один человек пробыть, и она сердилась и крепко сердилась, но никого не потузила, не дала пощечины и не порвала за волосы и даже за ухо. В самом сильном гневе она иначе не бранила виновную, как «какая ты бестолковая!» Если обстоятельства не требовали, она целый день не переменяла своего утреннего костюма, к довершению коего, я забыл сказать, она носила на голове платок темного цвета, фигурно навязанный и укрепленный булавками на сахарной бумаге, и этот убор она, сняв на ночь, ставила подле себя и, вставая, прежде всего спешила накладывать, всегда готовый и в порядке, на голову, подбирая под него длинные черные волосы. Это было у нее правилом религиозным. Она слепо верила, что замужняя женщина, не покрыв головы и не скрыв на ней до последнего волоска, призывает гнев Божий: неурожай хлеба, болезни на людей, падеж скота и т. п., и потому крепко береглась, чтоб «не светить волосом».
Когда же докладывали, что приказчик или посторонний кто имел к ней надобность, тут она, несмотря на время года, вздевала на себя матушкину приданую зеленого штофа с опушкою сибирок епанечку и допускала к себе требователя аудиенции, и часто, в жару разговора или при сильных доказательствах, когда ей нужно было размахивать руками, епанечка уходила вся на спину, удерживаясь только на шее завязанными лентами, и для беседующего с Фенною Степановною тогда было все равно, если бы она и не вздевала епанечки.
Но когда, завидев едущих гостей, извещали ее, тут шло все иначе. Приказав лакеям выдать из кладовой немецкие сапоги и синего сукна сюртуки и подтвердив ключнице наблюдать, чтобы они скорее оделись и были по своим местам, посылала к Кириллу Петровичу объявить, чтобы скорее «умылися и нарядились», и сама принималась за себя: вздевала ситцевый с большими разводами капот, покрывала его персидским белым платком, снимала с головы вечный убор и вздевала особо для таких случаев приготовленный чепчик, сделанный «мадамою» на Роменской ярмарке в том же 1818 году; но тогда на нем были ленты розового цвета, а теперь, когда Фенна Степановна устарела, то переменены на желтые.
Она у родителей была единородное дитя, и по смерти их довольно порядочное имение присоединила к мужниному, но никогда не называла его своим или даже нашим имением, а всегда говорила: «Ваше имение, с вашего имения приехал человек», – доказывая: «Когда я ваша, то уже не имею собственного ничего, все мое – ваше, так нам закон повелевает…»
Сколько ни имела забот по хозяйству Фенна Степановна, но всегда выходили у нее часы свободные, в которые она, вязавши чулок или мотая нитки, могла бы и желала беседовать с «ними», с Кириллом Петровичем, но «они» бог знает как пристрастились к газетам и на них меняют свою жену, данную им от Бога помощницу, сотрудницу и собеседницу. «Так вот же кого они мне предпочитают! И кто выдумал эти газеты, так желаю, чтоб ему так легко было сочинять их, как мне горевать одной. И что там такого написано? Вздор, ересь, раскол, разврат. Можно ли человеку знать, что в соседстве делается? А газетчик знает, что во всем свете делается. Можно ли этому поверить? Верно, фармазон какой-нибудь! Да ба, расстраивает наше супружеское согласие!»
Так она горевала почти каждый день, когда Кирилл Петрович сражался с карлистами за испанскую королеву. В этот же день, когда он решительно отказался выпить лекарство, прописанное Фенне Степановне от имевшейся у нее в прошлом году колики, и вдобавок примолвил, что либо ей выпить или собаке отдать, даже собаку… От такой обиды она горько плакала… Как вдруг вошел Кирилл Петрович…
– Чего это вы, маточка, плачете? – спросил он ее, переменив веселый вид, с каким вошел в комнату, на смущенный и несколько показывающий сожаление и раскаяние.
Фенна Ст. Я и сама удивляюсь. Собаки, кажется, никогда не плачут.
Кир. Петр. (скоро и готовясь сам заплакать). Как собаки? Что это вы, маточка, говорите?
Фенна Ст. Так, собаки. Ведь я и собака для вас все равно.
Кир. Петр. Эх, Фенна Степановна, какие вы? Я показывал вам мое равнодушие к лекарству: хотя собаке его отдайте или… то есть… как бы это сказать… вы меня не поняли… Я хотел предложить… чтобы вы его сами выкушали…
Фенна Ст. Говорите, что хотите, а я понимаю так, что в вашем разуме я и собака все едино.
Кир. Петр. Вольно вам так понимать. (Молчание, вдруг вскрикнув). Разве вы меня не знаете, что я холерик? Возьмите Брюсов календарь, прочтите! Там живо описан мой характер и планета, под которою я родился; всё вас уверит, что я настоящий холерик, а такого темперамента человек вдруг вспылит, словно вино вспенит, но шумит, пока пена. А пена улеглась, он опять тих и кроток. Сангвино-холерик, тот уже не так. Не прочитать ли вам, маточка?
Фенна Ст. Бог с вами, я не могу вспомнить про светское писание.
Кир. Петр. Оно и светское, и духовное пополам. Ну, да нужды нет, я только пришел к вам доказать, что я холерик.
Фенна Ст. Разве же холерику можно жену ругать собакою?..
Кир. Петр. Я про то и говорю, что он в холере, т. е. в запальчивости, наговорит в десять раз хуже. Но, как он холерик, вот как я, то в минуту отойдет, и раскается, и готов просить прощения, вот как и я.
Фенна Ст. (с прояснившимся взором). Так вы готовы просить у меня прощения?
Кир. Петр. Тысячу раз готов! Я не люблю, когда кто имеет неудовольствие на меня, а вы и подавно. А чтобы вас формально успокоить, то пожалуйте мне баночку с лекарством, я при вас ее и выпью.
И действительно, добрый Кирилл Петрович, чтобы успокоить свою ещё добрейшую Фенну Степановну, готов был и тут же выпил бы прошлогоднее лекарство, но Фенна Степановна, идучи от мужа в горести, лекарство, несмотря, что за него заплачено рубль двадцать копеек, вылила на землю, а баночку, в чем оно было, отдала ключнице спрятать.
Слово за слово, супруги приступили к миру, но Фенна Степановна по обычаю не дала и теперь руки мужу поцеловать. Это в ее понятии было «раболепство», а мужу перед женою раболепствовать не пригодно. Громкий, сладкий поцелуй запечатлел мир и супружеское согласие.
Брак их был награжден двумя сыновьями и одной дочерью. Сыновья померли от оспы года через три, один за другим. Осталась в отраду и утешение Пазинька, так зовомая родителями в детстве и до 18-летнего возраста.
До двенадцати лет Пазинька, окруженная няньками, сказочницами, шутихами, рассказчицами, «бабусями, знающими, чем пособить от уроков и сглаживания», ходила в детской рубашечке, подпоясанная широкою атласною розовою лентою с большим позади бантом. Соседки порицали за это Фенну Степановну, советовали, упрашивали, чтобы она принарядила ее уже в приличное возрасту платьице. «От-се-ше! – восклицала Фенна Степановна в ответ. – Я у своей матери до пятнадцати лет так ходила. Пусть чувствует, что у нее есть родители, пусть наслаждается свободою во всем. Век ее длинен. Натерпится и не от одних шнуровок и завязок». Но обычаи века, правила общежития потрясают самые упругие характеры и принуждают их отступить, хотя в части, от своих намерений и следовать за общим мнением.
Осип Прокопович Опецковский был важный помещик в том повете[284]284
Повет – уезд на Украине. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть] не по богатству своему (оно было посредственное), но по высокому росту, величавой фигуре, разноцветным фракам с металлическими пуговицами, важно протяжному разговору и употреблению в речах модных слов, как-то: по поводу чего, приняв в соображение, устремив внимание, выведя результат и т. п., которые он всегда свежие и новые вывозил из губернского города, куда аккурат, – так говорил он, – ездил два раза в год, удостоивался встречаться с их превосходительством, почтеннейшим г. гражданским губернатором и кавалером (следовало имя и полное отчество), был от них ласково приветствован, и, «по-видимому», их превосходительство желали бы меня пригласить к своему обеду, но, «приняв в соображение» свои многотрудные занятия и мои обязанности по делам, отложили эт у честь до будущего времени, по поводу чего я имел свободу заниматься делами. Но скажу вам откровенно, что из неоднократных моих разговоров с их превосходительством г. губернатором я узнал важную новость… Жалею, что не могу вам открыть ее, по поводу того, что их пр-во вверили мне за тайну; результат будет тот, что вы удивитесь, ибо их пр-во, приняв в соображение… Но я далее не могу открывать. Такими загадками говорил Осип Прокопович; и когда хотя месяца через три по возвращении его из губернского города кто-либо из подсудков и других членов в повете был переменяем и молва об этом быстро переносилась от одного помещика к другому и доходила до Осипа Прокоповича, то он прехладнокровно отвечал: «Я об этом результате знал прежде: их превосходительство, почтеннейший наш и проч. губернатор изволили мне лично объявить за тайну, когда я в последний раз был в губернском городе. Я вам предсказывал об этом; моя дипломатика это предвидела».
Как же поветовому дворянству не уважать было такого человека, а тем более еще, что у него была карета о шести стеклах, вымененная им на старую на Роменской ярмарке, и какой во всем губернском городе, даже и при съезде на выборы, не видно было?
Жена его – Аграфена Семеновна – из дочерей помещиков, уважавших «талант и дарования» г. Опецковского. Когда он предложил ей руку и сердце свое, то все родные ее «вменили себе в особенную честь таковой союз» и поспешили устроить его, и затем все они стали важнее, надменнее против соседей по поводу родства с Осипом Прокоповичем. Фамилия его нигде и никем не была произносима: так громко было одно имя его и известно везде. «По поводу чего» немудрено, что Аграфена Семеновна так же надулась, как и важный супруг ее. Прежних подруг своих она едва узнавала и редко удостаивала их своими ласками. С нашею Фенною Степановною она не могла никак сладить. Эта добрая, прямая душа была против нее всегда одинакова. Они вместе росли и играли в детстве. Привыкнув звать ее «Горпинькою» с первых дней, Фенна Степановна так называла ее и замужнюю, посреди многочисленного собрания, не примечая, что та вместо прежней «Феси» зовет Фенною Степановною и «вы». Она, не примечая ничего, оставалась по-прежнему: «Горпинька та Горпинька» и «ты, душка». Что прикажете с нею!
Таким важным особам, как Осип Прокопович и Аграфена Семеновна, следовало детям своим доставить воспитание блестящее. По поводу чего сыновей определили они в пансион, содержимый гимназическим учителем в губернском городе, а для дочери выписали из Москвы мадам иностранку. Madame Torchon, прибыв в дом Опецковских, увидела, что ей в таком доме, где живут открыто и где всегда людно, жить можно. Она породою была русская, прежде работала в Москве в модном магазине, где и получила первое основание французского языка. Вышедши замуж за m-r Torchon, она перебывала с ним во многих домах, где муж ее был камердинером, гувернером, наставником и, наконец, в дальнем губернском городе содержал мужской пансион. Пятнадцать лет такой практической жизни образовали бывшую Аленку, ныне m-e Torchon, до того, что она, овдовев, решилась заняться образованием девиц в провинции, и на сделанное предложение комиссионера г-на Опецковского согласилась немедленно. Дорога была плата этой «иностранной мадаме» – так жаловался Осип Прокопович, но и придумал пособить своему горю. «По поводу чего» предложил он своей Аграфене Семеновне пригласить знакомых и «равных с ними» помещиков поручить дочерей своих образованию m-e Torchon, с платою за каждую по сто рублей ассигнациями.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.