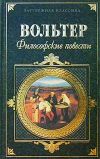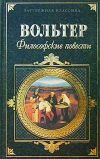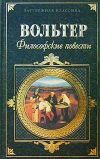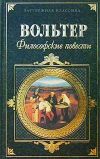Текст книги "Малороссийская проза (сборник)"

Автор книги: Григорий Квитка-Основьяненко
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 50 страниц)
– Ких-ких-ких-ких! – захохотал народ. Уже кто, наш пан писарь, что сердился крепко, а тут и сам расхохотался, как увидел такую комедию. А что же будешь делать? Известно, что против насланного ничего не сделаешь, когда не умеешь отвести. Ну, посмеявшись, принялись советоваться, что с Явдохою делать? Тот говорит одно, другой другое, а Демко Швандюра, тот хорошо научил:
– Таки, – говорит, – ничего не думайте, а, положивши, высеките ее порядочно, пока возвратит дожди да росы, которые, я знаю, что у нее в поставках, да на полках. Когда же наведет опять мару, то я отведу. Хоть она и ведьма, да и мы, хоть и не все, а что-нибудь таки знаем. Пускай она и природная ведьма[207]207
Природная ведьма злее и знающее ученой. (Прим. автора.)
[Закрыть], а я только ученый, да нужды нет. Увидим!
– Так восклоните же ее паки! – закричал Григорьич, – и сотворите ей школярскую секуцию, яко же во оное время и нам по субботам твориша…
Еще и не договорил, а хлопцы уже и бросились: распоясали, положили, секут… Уже нашей Явдохе не до сказок! Уже у неё и у самой на спине… Заплаток семьдесят, как у человека Сажки… Молчала-молчала, хотела оттерпеться… так еще не родился тот человек, кто бы стерпел под розгами!.. Потом как завизжит, завоет, а потом как начала кричать:
– Не буду до суду, до веку… батюшки-голубчики!.. Пустите, пустите!.. Ворочу и дожди, ворочу и росы… Буду тебе, пан сотник… и тебе, Григорьич… в великой пригоде… Только пустите!..
– Полно! – повел Никита Власович громким голосом и важно. А Пистряк все свое:
– Усугубляйте паче и паче!
Хлопцы не знают, кого слушать: половина бьет, а другая ожидает…
– А что вас, пан сотник! – так заворчал на него Григорьич. – Еще было подобало упятерить за таковое злодеяние… Это она сделала, что я после перепою химеры погнал. Вот какое злодеяние!..
– Але! Злодеяние! – сказал пан Забрёха. – Тебе бы только злодеяния и делать. Тут только трихи да мнихи (ни сё ни то), а уже обедать пора. Еще будет ли после такой жарёхи дождь или нет, кто его знает; а что мы голодуем, так это верно. А что нам баба с сердцов сделает какую пакость, так и того бояться надо. Велика оставить Явдоху, пускай отдохнет после такой бани. Мы ещё доберемся к ней. Пойдем, Прокоп Григорьич, ко мне. У меня знатный борщ. А после обеда расскажу тебе, какую мне третьего дня обиду сделали в Безверхом хуторе. Ты еще этого не знаешь.
Сказал это пан Власович и пошел домой.
Прокоп Григорьич наш остался и стоит, как обваренный. Взяли его думки, какую там обиду в Безверхом хуторе сделали пану сотнику? Думал-думал, – а Явдоху между тем знай секут, – после поднял кверху палец и говорит:
– Догадался! Э, э, э, э! Этого мне и нужно было. А оставьте, хлопцы, бедную бабу напрасно мучить. Пан сотник велел было пороть ее до вечера, но я ее помилую.
Подняли Явдоху и едва-едва живую потащили ее домой. Народ так и заклекотал за нею, все кричавши:
– Ведьма, ведьма! Покрала с неба дожди!
А Григорьич идет себе да что-то думает, а потом и говорит:
– Такой мне и нужно! Поддобрюсь к ней; она поможет его утопить, а мне вынырнуть с писарства на панство…
Да и пошел к Никите Власовичу обедать.
Смутная и невеселая ходила по своей хате, проводивши кого-то от себя и затворяя дверь, конотопская ведьма, Явдоха Зубиха, после бани, что дали ей близ пруда при всей громаде за колдовство. Кто же то был у нее тогда, как всяк от нее удалялся, видя, что она есть природная ведьма, что и в воде с каменьями не утонет, и дожди с неба крадет, и мару на людей посылает? Але! Кто? Не кто, как наш Прокоп Григорьич Пистряк, конотопский пан писарь. Он-то, услышавши от пана сотника Власовича, что было ему в Безверхом хуторе от панночки Олены, он тотчас взял в мысль, как бы то ему своего сотника совсем съесть. И вот от обеда пришел к Явдохе, принес ей всяких гостинцев и помирился с нею, что будто это не он сам велел ее топить и сечь, а что это сам пан сотник выдумал, и что будто хотел он ее до вечера пороть, а он уже взял на свою голову; и стал ее пристально просить, что как бы того пана Никиту совсем в дураки пошить. Что он вот сего же вечера придет ее просить, чтоб Явдоха так сделала, чтоб Осиповна его полюбила и за него замуж пошла; а как он поддастся в колдовство, так тут его и ввести в дураки, чтоб и сотничества отрекся, а на место его пос тавить сотником его, Пистряка; и обещался, что тогда Явдохе своя воля будет колдовать, как и сколько захочет.
Лукавая Явдоха как будто и поддалася. Подарки забрала и обещала сделать все, чего желал Григорьич, – и вот это проводила его из хаты. После того долго она ходила по хате да что-то думала. Уж ей-то сесть хочется, так не может… так-то усердно ее наказали! Она лежала и на печке, и на лавке, так не может лежать долго, потому что только и можно ей животом прилечь, а на спине или боком и не думай – так ее исписали везде.
Ходит по хате, ходит, да и посматривает на свои кувшины, горшочки, баночки, в коих со всякого зверя и со всякой гадины есть молоко, которое она с них надоила, превращаясь до каждой матки в разные виды, чтоб не пугались и давалися доиться. А все те кувшины, горшки, горшочки, баночки стояли то на полке, иные в поставце, были и за печкою, и в самой печи, которое уже пос тавлено на сметану, а которое стояло еще под лавкою. Под ее примосткою для спанья лежали всякие травы и коренья: мята, зоря, терлич, папороть, собачье мыло, дурман, всякие репьи, курячья слепота да и много кое-чего. На примостке на подушках лежал серый кот да усатый; и только ему дела, что ел и спал, да когда что было надумает, так тотчас к своей хозяйке и отзовется: мяу, мяу! А она усмехнется, да и скажет:
– Так-таки, котусю, так!
А когда она что надумает, то и спрашивает его:
– Так ли, котусю?
То кот к ней: мяу, мяу! Эге! И понимали один одного, что говорили. Больше никакого хозяйства не было, да и на что ей? Чего пожелает, то ночью превратится собакою ли, мышью, или лягушкою, или рыбою; и чего ей надо, всего достанет и есть у нее.
Так она-то, тоскуя, ходила по своей хате и, поглядая на собранное ею, говорила сама с собою:
– Есть всякое; не пойду к людям занимать.
Потом глянула на дверь, что только ее затворила, проводивши кого-то, и говорит:
– Приводи только скорее проклятого сотника, я ему отплачу. Я бы и тебе, Григорьич, пустила фука, да пусть еще после; теперь ты мне прислуживай, а как съем аспидового Забрёху, тогда примусь и за тебя, Пистряк! Хорошо, что вот это ты мне рассказал про Забрёху да про Олену; вот я его женю… Достанется и тебе, что меня так отпотчивал, что и сесть не могу, и насмехались надо мною, и при парубках порвали на мне и плахту, и сорочку, и пазуху разорвали, и очипок с головы сбили, и я волосом светила… да били меня!.. О, да и били же меня!.. Ох, били же меня, били, били, били… что ни сесть, ни лечь не можно; а всему виною вот тот Швандюра, что снял с людей мару…
Вот так она и долго сама с собою разговаривала, пока в хате стало совсем темно, так, что хоть глаз выколи… Как вот на улице залаяли собаки. Она и говорит:
– А ну, котусю, открой свои глазки и посвети, не они ли это идут?
Кот как разжмурил глаза, как глянет ими, так как жар засияли; и Явдоха и видит, что идет Никита Власович Забрёха, конотопский пан сотник, а за ним писарь его, Прокоп Григорьич, пан Пистряк, и что-то в руках и под плечом что-то несут. Вот она скорее бросилась, достала каганец, поднесла к коту, потерла его против шерсти, так искры с него и посыпались, а она засветила каганец, поставила на стол и сама полезла под стол чего-то доставать.
Как вот… рып в дверь, и вошли пан с писарем, шапки с палочками поставили у дверей, а сами стали осматриваться, и пан Забрёха говорит:
– Светло горит, а ее, видно, и дома нет.
– Как-то уж нет! – отозвалася Зубиха, вылазя из-под переднего угла и таща превеличайший горшок, тряпицею завязанный. – Вот где я была, вот это доставала горшок с тучами, что было на тридевять лет запрятала их; так вот же конотопский сотник принудил меня выпустить тучи и дожди отпустить.
– Да уже, титусю, полно об этом, – поклонился пан Забрёха и стал гостинец доставать. – Вот тебе платочек, что мне поповна вышила и подарила; так вот это кланяюсь вам; а вот это еще целехонькая полтина денег. Только будь ласкава, тетушка, не сердись на меня и извини… что так… с тобою приключилось… тое-то… как-то нечаянно…
– Как нечаянно? – даже запищала, крикнувши, Явдоха, – как нечаянно? Когда б тебе кто так рожу списал, то бы не то тогда сказал. Не хочу твоих подарков. Цур тебе, пек тебе, убирайся с ними! Не мешай, иду дожди выпускать; а то опять пеня будет, и завтра меня снова так выпорют, что сегодня не смогу сидеть, а завтра уже и стоять не буду. Пустите меня, пойду дожди выпускать.
– Титочко, матиночко! – даже в ноги повалился сердечный Никита Власович, да костлявые ведемские руки целует, да просит: – Не буду тебя больше беспокоить; да и что мне за дело, что нет дождя? Вот еще! Я здесь есть сотник, голоду терпеть не буду; тот придет с хлебом, тот с булкою, тот с калачом, а иной и мешок муки принесет; лишь бы только ссорились да позывались, то для нас, старшин, и дождь не нужен. Хоть бы ты их, титусю, и по век держала у себя. Вот моей беде помоги! Извольте-ка, пожалуйте, вот штоф грушовки, вот полсотни рыбы тарани, она была свежая весною; вот и серпаночек повязывать вашу головку… Только, сделайте милость, пособите моей беде, про которую вам расскажу…
– Знаю, знаю про твою беду: какую тебе знатную печеную тыкву поднесла Осиповна Олена, что на Безверхом хуторе, и как ты после того насилу на другой день опомнился. Все знаю.
Удивился крепко пан Забрёха, что откуда это она все знает – как будто там была! – и стал еще сильнее просить, чтобы она уже не сердилась и заступилась за него.
– А что же я буду делать? – спрашивает Явдоха. – Не идет за тебя хорунжевна, так мне какое дело? Не идет, так ищи другой.
– Да где ее у аспида искать? – воздохнувши, сказал Власович. – Одно то, что не придумаю; а другое, что, право, не хочу, потому что смертельно полюбил Осиповну Олену; так хоть бы и судьивна или хотя и полковникова, так я и не посмотрю на них, потому что полюбил Олену всем телом, и душою, и сердцем, и вижу сам, что когда ее не достану, то либо утоплюсь, или удавлюсь, или пойду куда глаза!.. Помоги, пани матушечко! – да чибурах ей в ноги, и даже плачет и просит, чтоб не довела его пропасть не своею смертью да чтобы как-нибудь приворожила, чтоб она за него захотела выйти…
– Да как и пойти за тебя такой девушке? – опять говорит Явдоха. – Она – девка-козырь, убранством ли, наружностью, так совсем девка! А имения и денег пропасть! А ты что? Куда ты годишься?
– Да нужды нет, титочко, матинко, нужды нет! Пускай я и скверный, и мерзкий, и всякой, а ты таки так сделай, чтоб она меня полюбила да чтоб за меня замуж пошла. Что полтина, так полтина, вот это на столе лежит, а вот сорок алтын да еще…
– Нет! – сказала Явдоха и отодвинула от себя деньги, – мне этих камушков не надо, на что мне они? У меня все есть, а чего пожелаю, всего достану. Когда же так пристально просишь, то и смилуюсь над тобою, только сделай мне вот что…
– Что прикажешь, пани маточко, все сделаю. Велишь ли Конотоп зажечь, так сразу с четырех концов и запалю; или велишь ли всех конотопских детей, которых вы, ведьмы, не любите, так всех в один день, всех до единого и растерзаю…
– Это все хорошо, но мне теперь вот что нужно. Возьми ты вот сыча того Швандюру, что снял мару с людей, что было я наслала, как мне секуцию давали; так возьми его под арест, будто он или проворовался, или тебя бранил, или что хочешь налги на него и взведи беду, да и обери у него все имение, потому что он себе богатенек; да чтоб на тебя родня его не ворчала, так ты это все отдай пану писарю…
– Благое дело и мудрое решение, пани Зубиха. Ей, истинно! И в коллегии так бы не решили, – сказал пан Пистряк, сидя себе на лавке у окна.
А Явдоха и говорит:
– Потому что ему, сироте, негде взять, только что таким образом пользоваться; а Швандюру возьми и выгони из села, чтоб его и дух здесь не пах. Вот, когда это сделаешь, то и я тебе…
– Мурлу, мяу, мяу! – отозвался ведемский кот, а Зубиха спохватилась и говорит:
– Э, нет, еще, еще, слушай еще. Домахина невестка Фенна Зозулиха… Не можно мне подле ее хаты идти, так и попрекает мне про то полотно, что у нее с огорода пропало, да как-то… очутилось у меня в сундуке; так она меня воровкою называет и всякие прикладки прикладывает. Так нельзя ли ей, обрезавши на ней платье, из села выгнать?
– Для чего не можно? Только скажи, все сделаю, – так говорил пан Власович, став повеселее, что ведьма стала уже к нему добрее.
– Вот это все когда сделаешь, то и я…
– Мурлу, мурлу! мяу, мяу! – замурлыкал опять кот, и Зубиха стала вновь договариваться и говорит:
– Да еще вот в чем пожалуюсь. Демко Серошапка покою мне не дает: третьего дня хвалится, что моего кота убьет; как его ни буду беречь, а он таки убьет. Так его-то, пан сотник, проучи да проучи…
– Да проучу же, титусю, так, что до новых веников будет помнить, только сделай и мое дело… – так крепко просил ее пан Забрёха, и чего-то уже он ни обещевал ей сделать, лишь бы она так устроила, чтобы хорунжевна за него вышла.
– Ну, хорошо же, сынок, когда так, то и так. Будет за тобою бегать хорунжевна Олена и ночи не спать, как и ты за нею. Киц, киц, киц, киц!
– Мурлу, мяу, мурлу!
– Хорошо же, – сказала Явдоха, – а иди, пан Власович, со мною из хаты да и ступи с порога на песок левою ногою, чтоб твой след означился на песке.
Вот и вывела его из хаты и след собрала в платок и завязала; потом, воротясь в хату, посадила его на лавке у конца стола, а Григорьичу велела присвечивать; а сама, взявши пана Забрёху за левый ус, и начала отделять волоски. Зацепит ногтем волос да и считает: один, два, три… да как отберет девять волосков, да девятый вырвет совсем… Пан сотник кричит, пан писарь хохочет, Явдоха Зубиха что-то шепчет да сплевывает, а кот мяучит на всю хату…
Вот так-то у бедного Никиты Власовича ведьма вырывала девятый волос с левого уса и нарвала всех их восемь, достала лоскуток бумажки и завернула туда те волоса. А пан Забрёха, утерши слезы, что так и текли у него от дергания, стал спрашивать ведьму, что когда уже совсем поворожила, то он бы и домой пошел?
– Иди, сынок, здоров домой, да ложись спать, да и ожидай от хорунжевны известия, чтоб присылал за рушниками…
Пан Власович, это услышавши, да за шапку, да из хаты, да, не оглядываясь, домой… Побежал сердечный, не дождавшись и писаря своего; а тот остался у ведьмы и что-то долго с нею разговаривал, и кот с ними мурлыкал… А как выходил пан Пистряк с Явдохиной хаты, так слышно было, что говорил:
– И се все благонамеренно устроивши, гряду в свою палестину. Прощайте!
– Идите здоровы! – сказала Явдоха, затворяя дверь после него, и отозвалась к коту: – Киц, киц, киц, киц!
– Мурлу, мяу, мурлу!
Вот она, взявши, сняла с головы очипок, седую, как молоко, косу распустила, надела белую сорочку и без пояса и плахты не подвязала, так и стала ходить по хате да шептать всякое колдовство, да во всяком углу три раза сплюнула; после взяла бук да и положила его среди избы и начала что-то вновь по-ведемски бормотать; потом взяла из горшочка какой-то воды, да все бормоча, спрыснула тою водою себя и бук в середине… А кот, что есть духу, мяучит и даже на лапы стал, вытянулся и засветил глазами еще ярче, чем огонь в каганце пылал… Тут Явдоха скорее в бук полезла… а как вылезла, так стала девкою… Да и девка же знатная! И молода, и красива, и черноволоса.
Вот как переродилась наша ведьма, взяла лягушечьей сметаны да кобыльего сыра, головок от тарани и сложила на тарелку, поставила перед своего котика и говорит:
– Когда, котусь, захочешь без меня есть, так вот тебе лакомства. Не скучай без меня, пока я ворочусь.
А сама, взявши пять дойниц[208]208
Дойница – подойник. (Прим. Л. Г. Фризмана)
[Закрыть], потушила огонь, вышла из хаты доить кого ей нужно было.
Только-таки что другие петухи крикнули, тут Явдоха, что есть духу, вскочила в хату и упала замертво. А как отдохнула и встала… так опять стала старою бабою, как и была. Тотчас бросилась к своему коту и рассказывает, как будто человеку:
– Котуся, киценька! Не скучал ли ты без меня? Я немного замешкалась: пока пообдоила всех коров, овечек, а тут мне еще понадобилось щучьего молока на одно дело; бросилась к пруду, да пока вражью щуку остановила, пока ее заговорила, чтобы далася сдоить, как и крикнул первый петух. Хотя он нам и не страшен, но все-таки нужно было поспешать, чтоб не застал на деле другой, тогда бы так на улице и протянулась бы!..
А кот знай хвостом и машет, да усами помаргивает, да кричит изо всей мочи; так-то обрадовался, что воротилась хозяйка.
Она ему поставила еще всякого молока и сметаны и начала хлопотать; то мешает, то варит на колдовство, как во и свет!.. Тут, немного спустя, и пришла к ней женщина, вся голова обвязана, и идет, и охает, и пришла – охает, и села – все охает.
– А откуда ты, молодица? – спросила ее Явдоха.
– Я издалека, – говорит молодая, охаючи. – Когда знаете хутор, что на сухой балке, называется Безверхий… ох!..
Явдоха мигнула на кота да и говорит:
– Нет, не слышала, и отроду не была, и не знаю, кто там живет… Ты же чего ко мне пришла?
– Да не вам говоря, прикинулась бешиха (рожа), все лицо мне раздуло… ох!.. Так вот это люди наставили меня, чтобы к вам идти… Сделайте милость, титусю, делайте, что знаете, только помогите, чтоб я сегодня еще поспела к своей панночке хорунжевне, Осиповне Олене… Да это говоря, положила на стол булочку, пять яичек и грош денег.
Зубиха тотчас и бросилась: положила на полу нож и велела молодице стать на нем босою ногою, противной больной щеке, а сама достала в черепок жару и положила туда кусок восковой свечи да ладану. А молодицу так закутала, чтобы весь дым никуда более не шел, как на нее; а сама знай шепчет, да сплевывает, да дует на жар, а кот мяучит изо всей силы. Вот курит да курит, как тут молодица… гоп! и упала на пол, словно неживая. Зубиха ей помогла, привела в чувство и посадила на лавке, да и говорит:
– Не тужи теперь, присохнет, как на собаке. Это тебе сглазу; какой-то чернобровый молодец на тебя смотрел и завидовал…
– Так и есть! Это же наш паныч! – сказала молодица. – Он только и сказал: что за красивая молодица! А я так и сгорела! Да от того часа так меня и взяло…
Тут Явдоха и начала ее расспрашивать, о чем ей нужно было. А потом проводила из хаты и говорит:
– Вот теперь хорошо! Теперь все знаю, что мне нужно!..
Смутная и невеселая сидела на призьбе у своей хаты панночка Осиповна Олена хорунжевна на своем Безверхом хуторе, что на сухой балке, и белыми ручками гладила голову братцу своему, панычу хорунженку. Он, сердечный, в тот день с приятелем, заезжавшим к нему, поевши за обедом знатно вареников да карасей в сметане жаренных, да запивши сывороткою после сбою масла, вытянули сами по себе по кувшину терновки, а вишневкою на дорогу запили, а перед вечером паныч уписал сам себе уже пять мандрык[209]209
К Петрову дню приготовляют мандрыки, лепешки из творогу, сметаны и проч. (Прим. автора.)
[Закрыть] да горшочик грибков, в масле и сметане приготовленных, которые очень любил; так его, кто знает и отчего, схватило… Вот он прилег к сестрице на колена, да как та гладила его по голове, так он и заснул. Тут пришли с поля и коровы и овечки; вот их тут подле панночки и доят, и молоко в кувшины собирают… А она и не занимается ничем: ей как будто ни до чего и дела нет! Забыла смотреть на собираемое молоко, забыла братцу голову гладить, только у нее на мысли что…
Только что хотел было рассказать, о чем наша хорунжевна думала и отчего была смутная и невеселая, как вот пришла к ней бабуся, такая старенькая, такая старенькая, что на превеликую силу идет. Вот подошла к ней, да и говорит:
– Дай Боже вам, панночка, вечер добрый! Помогай вам Бог во всем! Даже вздрогнула Осиповна, не видав, откуда она взялась и как перед ней стала. Потом, немного оправившись, и говорит:
– Здравствуй, бабуся! А откуда тебя бог принес?
– Да я так себе… Я и издалека, и не издалека; я и здешняя, я и совсем не отсюда. Я ничего не знаю и все знаю; и кто по ком тужит, я знаю и не знаю; и что сделать, я умею и не умею.
– Ах, бабуся, да ты не простая? – спрашивает Олена.
– Да простёхонькая, видишь! Не вашего, панского, рода, я простая себе старая баба; не знаю ни чьей печали, не знаю, кто, сидя на призьбе, тужит об Демьяне, что пошел в поход с казаками; я таки и того не знаю, как подле колодца всю ноченьку с ним просидела и на прощанье сняла с руки серебряный перстень и отдала с платочком, что сама всякими шелками вышивала…
– Ах, мне лихо, бабуся! Да ты все знаешь!.. Не шуми же, будь ласкава, братец проснется, услышит, то будет мне смеяться… Пускай после ужина я тебя позову, то ты у меня переночуешь, да и поговорим с тобою!..
– Под полн месяц теперь-то и делать, что надо. Пускай братец идет к себе, разбуди его; а я тебе скажу, что надобно делать да делом спешить. Я нарочно к тебе пошла из Киева после вечерни.
– Как это можно? С самого Киева? После вечерни? Да этому не можно статься! – спрашивает Олена, удивляясь. – Как таки можно от Киева?
– Конечно, дойти не можно, так мы знаем, как оно делается. Разбуди же братца скорее, пускай идет к своему делу; мне нужно скорее поспешать.
– Да братцу что-то сделалось – чуть ли не сглаз. И был здоров да как пообедал, а потом опять поел, так его и схватило: сонечницы, что ли, не дай бог!
– Это все сглаз, да не тужи, я отведу беду. Вот разбуди братца, а я на учу, что с ним делать, то и пройдет.
Олена стала братца будить, который храпел на весь двор, а бабуся приготовляла свое лекарство.
Вот пан хорунженко, проснувшись, выпил то лекарство и пошел в свою хату; а бабуся – плюх! – села подле панночки и говорит:
– Тужишь, моя кукушечка, за своим сизым голубочком, да ба! Нет его здесь; пошел далеко, в самый Чернигов.
– Да отчего ты, бабуся, все это знаешь? Кто это тебе рассказывал, что я там… печалюсь, что ли… или… что там такое… я и не знаю!.. – так говорила, стыдясь, Осиповна.
– Уж я-то не знаю! – говорит бабуся. – К чему же нам и звезды, когда на них не смотреть и по ним не знать все? Гляну с вечера, гляну и в полночь, посмотрю и перед светом, да и знаю, где что делается.
– Когда же ты знаешь все, где что делается, то скажи мне, бабуся, что делает теперь… – сказала Олена да и покраснела, как сукно, и язык стал как войлока кусок.
А бабуся прервала ее, да и говорит:
– Демьян?
– Эге, ге, ге!
– Судьенок, Халявский, Омельянович?
– Атож!
– Вот слушай, доня, что он делает: вот он был с казаками на ученье пред паном полковником, да уставши пришел домой, разделся, распоясался, да и лег, горюя об тебе, да и тужит, что думает, не скоро тебя увидит.
– И говорят-таки, что их не скоро распустят.
– Не тужи. Может, ты его и сего вечера увидишь…
– Как это можно, бабуся, мне его увидеть, да еще и сего вечера? Он не птица, чтоб ему прилететь ко мне.
– Хоть и не птица, а будет здесь перед тобою, вот как это я. Хочешь ли, чтобы прилетел?
– Как-то уже, моя голубочка, не хотеть! Все жилки дрожат, что хоть бы увидеть его… Сделай милость, пускай он прилетит ко мне… Да не будет ли ему от того какой беды?
– Вовсе ничего, он на то казак.
– Призови же его, пани маточка, хоть на часочек, хоть на минуточку! Хоть бы я взглянула на него! Что знаешь, то и делай; я ничего не пожалею: все тут мое, дам тебе всего, чего пожелаешь…
– Хорошо же, доня, хорошо. Пойдем свое делать.
Вот и вошли в большую хату, заперли двери и окна, а уже и солнышко садилось. Панночка затопила печь, сама сходила за водою, а шла, по бабушкиному приказанию, к колодцу не прямо, а обходила улицами против солнца. Пришла к колодцу, набрала ведро воды да и вышла на восход солнца; другое набрала и вышла на захождение солнца; а третье, зачерпнувши, что есть мочи, не оглядываясь, понесла и опять не прямо, а улицами по солнцу.
Вот как принесла и поставила к огню горшочек с водою; а бабуся вынула из-за пазухи травы: зорю, терличу… а больше не скажу что, чтобы кто из девушек не научился ворожить да заставлять своих любезных прилетать к себе… Этого всего вложила по щепотке в тот горшочек и начала варить; сама же взяла муки пшеничной, замесила тесто и, вынув из своей мошонки в бумажке кошачьего мозгу, отковырнула пальцем и положила в тесто. Потом достала у себя из платка, в коем был завязан след пана Забрёхи; она его разделила пополам и одну часть вложила в то же тесто, замесила и скатала лепешкою, посадила в печь – и все с приговорками: а хорунжевне велела сидеть на примостке, где она ночует, и ноги подвернуть под себя; не пугаться, и, что увидит, не бояться ничего, и все думать про своего милого.
Вот как лепешка спеклась, она и дала ее Олене съесть в три раза, запивая особо нашептанною водою. А между тем и травы в горшочке начали кипеть. Бабуся, подтвердивши Осиповне, чтобы ничего не пугалась, взяла другую часть следа Власовича, вложила в кипящий горшочек и начала мешать, а сама в печь почти влезла и изо всей мочи кричит:
– Терлич, терлич! Десятерых прикличь; из десятерых девять, из девяти восемь, из восьми семь, из семи шесть, из шести пять, из пяти четырех, из четырех трех, из троих двух, из двух одного, да доброго, – и примолвила топотом, чтобы хорунжевна не слыхала: – Пана сотника конотопского, Забрёху Власовича Никиту. А кто ждет да дожидает, так пускай себе дремает.
И дунула на Олену; а та ни с чего ни с того и стала дремать. Опять вражья баба стала горшок мешать и опять в печь кричит те же речи:
– Терлич, терлич! Десятерых прикличь… – и договорила на одного, все-таки пана Власовича; после и договорила: – А кто сидит да ждет, тот пусть себе заснет.
Тут опять дунула на хорунжевну; а она, сердечная, и заснула совсем!.. Начала бабуся в третий раз мешать травы, и уже что есть духу кричит в трубу:
– Терлич! – и как договорила до одного, так даже завизжала изо всей силы, зовя пана Власовича; а на хорунжевну дунула и сказала:
– А кто спит да сопит, так пускай и захрапит.
А от этого панна Осиповна – бух! – на подушки и захрапела на всю хату… А тут что-то из сеней в хатнюю дверь – гоп! – как камнем, и стонет, и что-то мурлычет, и охает… После увидим, что это там было…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.