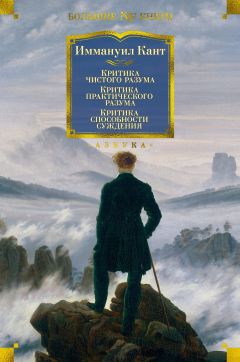
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 70 (всего у книги 82 страниц)
Между тем, что нравится только в суждении, и тем, что доставляет удовольствие (нравится в ощущении), существует, как мы часто показывали, значительная разница. Второго, в отличие от первого, нельзя ждать от каждого. Удовольствие (даже если причина его заключена в идеях) всегда, по-видимому, состоит в чувстве, которое благотворно влияет на всю жизнь человека, тем самым и на его физическое состояние, т. е. здоровье; поэтому Эпикур, считая всякое удовольствие, в сущности, телесным ощущением, был, быть может, не так уж неправ, только он сам не понимал себя, когда причислял к удовольствию интеллектуальное и даже практическое благоволение. Если иметь в виду последнее различие, то можно понять, как удовольствие может не нравиться тому, кто его ощущает (например, радость нуждающегося, но благонамеренного человека при получении наследства от любящего, но скаредного отца), как глубокая скорбь может даже нравиться тому, кто ее испытывает (например, горе вдовы, вызванное смертью ее обладавшего многими достоинствами мужа), как удовольствие может, сверх того, еще и нравиться (например, как удовольствие от наук, которыми мы занимаемся), или как боль (например, причиняемая ненавистью, завистью, жаждой мести) может к тому же еще и не нравиться. Благоволение или неблаговоление основано здесь на разуме и тождественно одобрению или неодобрению; удовольствие же и страдание могут покоиться только на чувстве или на ожидании возможного (по какой бы то ни было причине) хорошего или плохого самочувствия.
Всякая меняющаяся свободная игра ощущений (не основанная на каком-либо намерении) доставляет удовольствие, поскольку она усиливает чувство здоровья, причем независимо от того, удовлетворяет ли нас в суждении разума предмет этого удовольствия и даже само это удовольствие, – и это удовольствие может достичь аффекта, хотя мы и не испытываем интереса к самому предмету, во всяком случае, не настолько, чтобы он был соразмерен степени испытываемого удовольствия. Игру ощущений можно разделить на азартную игру, игру звуков и игру мыслей. Первая требует интереса, будь то тщеславия или своекорыстия, который, однако, далеко не так велик, как интерес к способу, которым мы пытаемся этого достигнуть; вторая требует лишь смены ощущений, каждое из которых соотносится с аффектом, не достигая, однако, степени аффекта, и возбуждает эстетические идеи; третья возникает лишь из смены представлений в способности суждения, что, правда, не порождает мысль, связанную с каким-либо интересом, но все-таки оживляет душу.
О том, какое удовольствие должны доставлять эти игры, хотя и незачем считать, что в их основе лежит какая-либо заинтересованность, свидетельствуют все наши вечера; ведь без игр вряд ли может обойтись какой-либо вечер. В них проявляются такие аффекты, как надежды, страх, радость, гнев, насмешка; они ежеминутно сменяют друг друга и настолько сильны, что, создавая внутреннее движение, вызывают усиление всей жизнедеятельности тела, что доказывает вызванная этим бодрость духа, хотя при этом участники игры ничего не приобрели и ничему не научились. Но поскольку азартная игра не есть изящная игра, мы о ней здесь говорить не будем. Напротив, музыка и повод к смеху суть два типа игры эстетическими идеями или представлениями рассудка, посредством которых ничего не мыслится и которые исключительно благодаря тому, что они сменяют друг друга, могут все-таки доставлять живое удовольствие; этим они достаточно ясно показывают, что оживление в обоих случаях носит только телесный характер, хотя оно и создается идеями души, и что все провозглашаемое столь тонким и одухотворенным удовольствием развлекающегося общества есть просто чувство здоровья, достигнутое благодаря соответствующему этой игре движению внутренних органов. Не суждение о гармонии звуков или острот, которая своей красотой служит лишь необходимым средством, а повышенная жизнедеятельность тела, аффект, который приводит в движение внутренние органы и диафрагму, одним словом, чувство здоровья (без такого повода оно обычно не ощущается) составляет удовольствие, заключающееся в том, что к телу можно подступиться и через душу и что душу можно использовать для врачевания тела.
В музыке эта игра идет от ощущения тела к эстетическим идеям (объектам для аффектов), а от них обратно к ощущению тела, но с возросшей силой. В шутке (которую так же, как музыку, следует отнести скорее к приятному, чем к изящному искусству) игра начинается с мыслей; в своей совокупности, стремясь найти для себя чувственное выражение, они занимают и тело; а так как участие рассудка, который не нашел в этом изображение ожидаемого, внезапно ослабевает, то действие этого ослабления ощущается в теле через вибрацию органов, которая содействует восстановлению их равновесия и благотворно влияет на здоровье.
Во всем, что вызывает веселый неудержимый смех, должно заключаться нечто бессмысленное (в чем, следовательно, рассудок сам по себе не может находить удовлетворения). Смех – это аффект, возникающий из внезапного превращения напряженного ожидания в ничто. Именно это превращение, которое для рассудка, безусловно, нерадостно, все же косвенно вызывает на мгновение живую радость. Следовательно, причина должна заключаться во влиянии представления на тело и на его взаимодействие с душой; причем не потому, что представление объективно есть предмет удовольствия (ибо как может доставлять удовольствие обманутое ожидание?), а только потому, что это ожидание, как игра представлений, создает в теле равновесие жизненных сил.
Мы смеемся и ощущаем истинное удовольствие, слушая рассказ о том, как в Сурате индиец, который сидел за столом у англичанина, увидев, когда тот откупорил бутылку с элем, что пиво, превратившись в пену, выходит из бутылки, выразил в многочисленных восклицаниях крайнее удивление, а на вопрос англичанина, что же в этом удивительного, ответил: «Меня удивляет не то, что оно выходит, а то, как вам удалось загнать его туда», и смеемся мы не потому, что ощущаем себя несколько умнее этого невежественного индийца, или по поводу чего-либо приятного, обнаруженного во всем этом нашим рассудком, а потому, что наше напряженное ожидание внезапно растворилось в ничто. Или если наследник богатого родственника, намеревающийся торжественно оформить его похороны, жалуется, что ему это не удается, ибо (говорит он), «чем больше я плачу плакальщикам, чтобы они выглядели грустными, тем веселее они выглядят», то мы громко смеемся, а причина этого заключается в том, что наше ожидание внезапно превратилось в ничто. Следует заметить, что ожидание должно превратиться не в позитивную противоположность ожидаемого предмета – ибо это всегда есть нечто и часто может нас огорчить, – но именно в ничто. Ибо если кто-либо возбуждает в нас своим рассказом большие ожидания, а в конце мы сразу же понимаем, что этот рассказ не соответствует истине, то нам это не нравится; например, когда рассказывают о людях, которые, пережив большое горе, за ночь поседели. Напротив, если вслед за этим какой-нибудь шутник очень подробно расскажет о горе купца, который, возвращаясь в Европу из Индии со всем своим состоянием, вложенным в товары, вынужден был в страшную бурю выбросить все за борт, и это его расстроило до такой степени, что в ту же ночь поседел его парик, – то мы смеемся, и это доставляет нам удовольствие, поскольку мы еще некоторое время перебрасываем, как мяч, собственный промах по поводу, впрочем, безразличного нам предмета или, вернее, идею, за которой мы следовали, между тем как мы лишь делаем вид, что стремимся схватить и удержать его. Здесь удовольствие доставляет не отповедь лжецу или глупцу, ибо и сама по себе эта история, будь она рассказана серьезно, вызвала бы громкий смех в обществе; на предыдущую же, скорее всего, вообще не стоило бы обращать внимание.
Следует заметить, что во всех этих случаях в шутке должно быть заключено нечто, способное на мгновение обмануть; поэтому, как только иллюзия рассеивается, превращаясь в ничто, душа вновь оглядывается, чтобы сделать еще одну попытку, и, бросаемая в разные стороны под влиянием быстро следующих друг за другом усилением и ослаблением напряжения, приводится к колебанию; поскольку отрыв от того, что как бы натягивало струну, происходит внезапно (не посредством постепенного ослабления), то это колебание должно вызвать душевное движение и гармонизирующее с ним внутреннее телесное движение, которое непроизвольно продолжается и вызывает утомление, но вместе с тем и веселость (как действие способствующего здоровью движения).
Ибо если допустить, что со всеми нашими мыслями гармонически связано какое-либо движение телесных органов, то нетрудно понять, как внезапному принятию душой то одной, то другой точки зрения для рассмотрения своего предмета может соответствовать попеременное напряжение и расслабление эластичных частей наших внутренних органов, которое передается диафрагме (подобное тому, что чувствуют люди, боящиеся щекотки); при этом легкие выталкивают воздух быстро следующими друг за другом выдохами и таким образом создают полезное для здоровья движение; именно оно, а не то, что происходит в душе, служит подлинной причиной удовольствия от мысли, которая по существу ничего не представляет. Вольтер говорил, что небо дало нам в противовес множеству трудностей жизни две вещи: надежду и сон. Он мог бы присоединить к этому смех, если бы только средства вызвать его у разумных людей были бы легко доступны, если бы необходимые для того остроумие и оригинальность настроения не были бы столь редки, сколь распространен талант сочинять так головоломно, как мистики, так сногсшибательно, как гении, или так душераздирающе, как авторы чувствительных романов (а пожалуй, и моралисты того же типа).
Следовательно, можно, как я полагаю, согласиться с Эпикуром, что всякое удовольствие, даже если оно вызвано понятиями, возбуждающими эстетические идеи, есть животное, т. е. телесное, ощущение, нисколько этим не умаляя ни духовное чувство уважения к моральным идеям, которое есть не удовольствие, а уважение к себе (человечества в нас), возвышающее нас над потребностью в удовольствии, ни даже значение не менее благородного чувства, вкуса.
Нечто, состоящее из того и другого, обнаруживается в наивности, которая есть вспышка некогда естественной для человеческой природы искренности, противостоящая тому, что стало второй натурой человека, – искусству притворства. Над простотой, которая еще не умеет притворяться, смеются, радуясь одновременно простоте природы, которая становится здесь препятствием искусству притворства. Мы ожидали повседневной привычки к искусственности выражения, предусмотрительно рассчитанного на красивую видимость, а перед нами внезапно оказалась неиспорченная невинная натура, встретить которую мы никак не ожидали и которую тот, кто ее проявляет, совсем не собирался обнаруживать. Что красивая, но ложная видимость, которая обычно столь много значит в нашем суждении, здесь внезапно превращается в ничто и что в нас самих как бы обнажается притворщик, вызывает душевное движение, которое идет по двум противоположным направлениям, что также целебно сотрясает тело. Но то, что бесконечно превосходит все привычные обычаи, чистота мышления (по крайней мере ее задатки), еще не совсем исчезнувшая в человеческой природе, привносит в эту игру способности суждения серьезность и глубокое уважение. Однако поскольку это лишь кратковременное явление и покров притворства вскоре вновь заслоняет его, к этому примешивается и сожаление, нежная умиленность, которая в качестве игры легко может соединиться с добродушным смехом – и обычно действительно с ним соединяется, – вознаграждая того, кто дал для этого повод, за его смущение, вызванное тем, что он еще не умудрен житейским опытом. Поэтому искусство быть наивным есть противоречие; однако представлять наивность в вымышленном лице, возможно, и являет собой прекрасное, хотя и редкое искусство. Но с наивностью не следует смешивать чистосердечную простоту, которая лишь потому не привносит искусственность в природу, что не ведает, что есть искусство человеческого общения.
К тому, что, поднимая наше настроение, родственно удовольствию, получаемому от смеха и относящемуся к оригинальности духа, но не к таланту в области изящного искусства, следует отнести причудливость манер. Причудливость в хорошем значении этого слова означает талант произвольно переходить в такое расположение духа, когда обо всех вещах судят совершенно иначе, чем обычно (даже наоборот), и все-таки в подобной душевной настроенности соответственно принципам разума. Тот, кто непроизвольно подвержен подобным изменениям настроения, непостоянен; того же, кто может произвольно и целесообразно (для живого изображения посредством вызывающего смех контраста) вызывать их, называют, как и его манеру, забавным. Впрочем, эта манера относится скорее к приятному, чем к изящному искусству, так как предмет второго всегда должен сохранять некоторое достоинство и поэтому требует известной серьезности в изображении, так же, как вкус в суждении.
Второй разделДиалектика эстетической способности суждения
Для того чтобы быть диалектической, способность суждения должна быть прежде всего умствующей, другими словами, ее суждения должны притязать на всеобщность, притом априорно[243]243
Умствующим суждением (iudicium ratiocinans) может называться любое суждение, которое провозглашает себя всеобщим; ибо в качестве такового оно может служить большей посылкой в умозаключении. Суждением же разума (iudicium ratiocinatum) может быть названо лишь такое суждение, которое мыслится как заключение силлогизма, следовательно, как априорно обоснованное.
[Закрыть], ибо в противоположности таких суждений и состоит диалектика. Поэтому несовместимость эстетических суждений чувств (о приятном и неприятном) недиалектична. Не образует диалектику вкуса и противоречие в суждениях вкуса, в которых каждый ссылается только на свой вкус, поскольку никто не помышляет сделать свое суждение всеобщим правилом. Следовательно, остается только одно понятие диалектики, которая может быть связана со вкусом: это диалектика критики вкуса (а не самого вкуса) в отношении ее принципов, ибо по вопросу об основании возможности суждений вкуса вообще естественно и неизбежно выступают противоречащие друг другу понятия. Следовательно, трансцендентальная критика вкуса будет лишь в том случае содержать часть, которую можно именовать диалектикой эстетической способности суждения, если обнаружится антиномия принципов этой способности, которая поставит под сомнение ее закономерность, а тем самым и ее внутреннюю возможность.
Первое общее место в вопросе о вкусе заключается в положении, посредством которого человек, лишенный вкуса, пытается отвести упрек; у каждого свой вкус. Это означает: определяющее основание этого суждения субъективно (удовольствие или страдание), и это суждение не вправе требовать необходимого согласия других.
Второе общее место в этом вопросе, которое повторяют и те, кто признает право суждения вкуса на общезначимость, гласит: о вкусах не диспутируют. Это означает следующее: хотя определяющее основание суждения вкуса и может быть объективным, но его нельзя свести к определенным понятиям, поэтому решение о суждении не может быть принято посредством доказательств, хотя можно с полным правом спорить о нем. Спор и диспут тождественны в том, что в обоих случаях делается попытка привести суждения посредством их противоборства к согласию, но различны они в том, что в диспуте этого надеются достигнуть в соответствии с определенными понятиями в качестве доводов, т. е. принимают в качестве оснований суждения объективные понятия. Там, где это признается невозможным, считается, что невозможен и диспут.
Нетрудно заметить, что между этими двумя общими местами отсутствует положение, которое, не став поговоркой, тем не менее присутствует в мыслях каждого, а именно: о вкусах можно спорить (хотя и не диспутировать). Это положение противоположно положению, приведенному выше. Ибо там, где дозволено спорить, должна быть надежда на возможность прийти к согласию; таким образом, можно рассчитывать на основания суждения, которые имеют значимость не только для отдельных людей и, следовательно, не только субъективны, а этому прямо противоположно приведенное выше основоположение: у каждого свой вкус.
Итак, в принципе вкуса обнаруживается следующая антиномия:
1) Тезис. Суждение вкуса не основано на понятиях, либо в противном случае о нем можно было бы диспутировать (приходить к решению посредством доказательств).
2) Антитезис. Суждение вкуса основывается на понятиях, ибо в противном случае о вкусах, несмотря на их различие, нельзя было бы даже спорить (притязать на необходимое согласие других с данным суждением).
Существует лишь одна возможность снять противоречие между принципами, положенными в основу каждого суждения вкуса (а они не что иное, как представленные выше в Аналитике две особенности суждения вкуса), – показать, что понятие, с которым соотносят объект в этих суждениях, берется в обеих максимах эстетической способности суждения не в одном и том же смысле; этот двоякий смысл, или двоякая точка зрения в суждении, необходимы нашей трансцендентальной способности суждения, но и видимость, создаваемая смешением одного смысла с другим, неизбежна как естественная иллюзия.
Суждение вкуса должно относиться к какому-либо понятию, ибо иначе оно просто не могло бы притязать на необходимую значимость для каждого. Но доказать его, исходя из понятия, нельзя именно потому, что понятие может быть либо определимым, либо само по себе неопределенным и вместе с тем неопределимым. К первому типу относится рассудочное понятие, оно определимо посредством предикатов чувственного созерцания, которое может ему соответствовать; ко второму – трансцендентальное понятие разума о сверхчувственном, которое лежит в основе всего чувственного созерцания и поэтому далее теоретически определено быть не может.
Суждение вкуса направлено на предметы чувств, но не для того, чтобы определить их понятие для рассудка, ибо оно не познавательное суждение. Поэтому оно в качестве единичного созерцательного представления, относящегося к чувству удовольствия, есть только частное суждение; и в качестве такового оно было бы по своей значимости ограничено только индивидом, выносящим суждение; этот предмет для меня есть предмет благоволения, для других дело может обстоять иначе – у каждого свой вкус.
Вместе с тем в суждении вкуса, без сомнения, содержится и более широкое отношение представления об объекте (а также и о субъекте), на котором мы основываем расширение суждений этого вида, считая их необходимыми для каждого; поэтому в основе такого расширения неизбежно должно лежать какое-либо понятие, но такое понятие, которое не может быть определено созерцанием и посредством которого ничего не познается, т. е. понятие, которое не ведет к какому-либо доказательству суждения вкуса. Таким понятием может быть только чистое понятие разума о сверхчувственном, которое лежит в основе предмета (а также и выносящего суждение субъекта) как объекта чувств, т. е. как явления. Ведь если не принять это, то притязание суждения вкуса на общезначимость нельзя было бы оправдать; если бы понятие, на котором это суждение основывается, было хотя бы только смутным рассудочным понятием, скажем, понятием о совершенстве, которому можно было бы придать соответствующее ему чувственное созерцание прекрасного, то было бы, по крайней мере, само по себе возможно основывать суждение вкуса на доказательствах, что противоречит тезису.
Однако всякое противоречие отпадает, если я говорю: суждение вкуса основывается на понятии (об основании субъективной целесообразности природы вообще для способности суждения), из которого, однако, нельзя ничего узнать и доказать в отношении объекта, поскольку само по себе оно неопределимо и непригодно для познания; однако тем не менее посредством этого понятия суждение вкуса получает значимость для каждого (у каждого, правда, как единичное суждение, непосредственно сопутствующее созерцанию), так как его определяющее основание находится, быть может, в понятии того, что можно рассматривать как сверхчувственный субстрат человечества.
При разрешении антиномии речь идет только о возможности того, что два, по своей видимости, противоречащих друг другу положения в действительности не противоречат друг другу, а могут сосуществовать, хотя объяснение возможности их понятия превосходит нашу познавательную способность. Исходя из этого, становится также понятным, что эта видимость естественна и неизбежна для человеческого разума, а также почему она такова и таковой остается, хотя после разрешения кажущегося противоречия она больше не обманывает.
Дело в том, что понятие, на котором должна основываться общезначимость суждений, мы в обоих противоречащих друг другу суждениях берем в одном и том же значении, но связываем с ним в своем высказывании два противоположных предиката. Поэтому тезис должен был бы гласить: суждение вкуса не основывается на определенных понятиях, а антитезис должен был бы гласить: суждение вкуса все-таки основывается на понятии, хотя и неопределенном (а именно на понятии сверхчувственного субстрата явлений), и тогда между тезисом и антитезисом не было бы противоречия.
Мы можем только одно: устранить эти противоречия в притязаниях и контрпритязаниях вкуса. Дать определенный объективный принцип вкуса, которым суждения вкуса могли бы руководствоваться, который допускал бы их проверку и доказательство, совершенно невозможно, ибо тогда подобное суждение не было бы суждением вкуса. Единственным ключом к разгадке этой скрытой от нас даже в своих истоках способности может служить субъективный принцип, а именно неопределенная идея сверхчувственного в нас – иначе пояснить его никакими средствами невозможно.
В основе установленной и разрешенной здесь антиномии лежит правильное понятие вкуса, а именно как только рефлектирующей эстетической способности суждения: тогда противоречивые по видимости основоположения соединяются, поскольку оба могут быть истинными, и этого достаточно. Если же определяющим основанием вкуса признать (из-за единичности представления, лежащего в основе суждения вкуса), как это делают некоторые, приятность или, как предпочитают другие (из-за его общезначимости), принцип совершенства и дать в соответствии с этим дефиницию вкуса, то возникнет антиномия, разрешить которую можно, только показав, что оба противостоящие друг другу (не только контрадикторно) положения ложны; а это доказывало бы, что понятие, на котором основано каждое из них, внутренне противоречиво. Мы видим, следовательно, что снятие антиномии эстетической способности суждения идет путем, сходным с тем, которым критика следовала в разрешении антиномий чистого теоретического разума, и что здесь, как и в критике практического разума, антиномии заставляют нас против нашей воли выходить за пределы чувственного и искать точку объединения всех наших априорных способностей в сверхчувственном; ибо другого пути привести разум в согласие с самим собой не существует.
Примечание I
Поскольку в трансцендентальной философии мы так часто находим повод различать идеи и рассудочные понятия, полезно ввести соответствующие их различию технические термины. Полагаю, что никто не будет возражать, если я предложу некоторые из них. Идеи в самом общем значении суть представления, соотнесенные по определенному субъективному или объективному принципу с предметом, познанием которого они никогда не могут стать. Они соотносятся либо с созерцанием по чисто субъективному принципу соответствия познавательных способностей (воображения и рассудка) и тогда называются эстетическими; либо с понятием по объективному принципу, но никогда не могут дать познание предмета, тогда они называются идеями разума; в этом случае понятие есть трансцендентное понятие, отличное от рассудочного, для которого всегда может быть дан адекватно соответствующий ему предмет и которое поэтому называется имманентным.
Эстетическая идея не может стать познанием, поскольку она есть созерцание (воображения), для которого никогда не может быть найдено адекватное понятие. Идея разума никогда не может стать познанием, поскольку она содержит понятие (сверхчувственного), для которого никогда не может быть дано соответствующее созерцание.
Полагаю, что эстетическую идею можно назвать не допускающим объяснения представлением воображения, идею разума – не допускающим демонстрации понятием разума. Предполагается, что те и другие возникают не без основания, а (согласно вышеприведенному объяснению идеи вообще) в соответствии с определенными принципами познавательных способностей, к которым они относятся (первая в соответствии с субъективными, вторая – с объективными принципами).
Рассудочные понятия как таковые всегда должны быть доступны демонстрации (если под демонстрацией понимать, как в анатомии, возможность показать), т. е. соответствующий им предмет всегда может быть дан в созерцании (чистом или эмпирическом); ибо только тогда они могут стать познанием. Понятие величины, например, может быть дано в априорном созерцании пространства в виде прямой линии; понятие причины – в непроницаемости, столкновении тел и т. д. Тем самым то и другое может быть подтверждено эмпирическим созерцанием, т. е. мысль о них может быть подтверждена (демонстрирована, показана) примером; и это необходимо, ибо в противном случае нет никакой уверенности в том, не пуста ли эта мысль, т. е. не лишена ли она объекта.
В логике выражениями «допускающие демонстрацию» и «не допускающие демонстрации» обычно пользуются только в применении к положениям; между тем первые лучше было бы обозначать как лишь опосредствованно достоверные, вторые – как непосредственно достоверные положения; ведь в чистой философии также есть положения того и другого рода, если под ними понимать доказуемые и недоказуемые истинные положения. Правда, в качестве философии она может, исходя из априорных оснований, доказывать, но не демонстрировать, если полностью не отказаться от значения этого слова, согласно которому демонстрировать (ostendere, exhibere) означает показать (посредством доказательства или только в дефиниции) свое понятие также в созерцании; если это априорное созерцание, оно называется конструированием понятия, если же это созерцание эмпирическое, оно остается демонстрацией объекта, посредством чего понятию обеспечивается объективная реальность. Так, об анатоме говорят: он демонстрирует человеческий глаз, – если он посредством расчленения этого органа делает наглядным понятие, которое он до того сообщал дискурсивно.
Согласно этому понятие разума о сверхчувственном субстрате всех явлений вообще или о том, что должно быть положено в основу нашего произвола по отношению к моральным законам, а именно о трансцендентальной свободе, уже по своему типу есть не допускающее демонстрацию понятие и идея разума; добродетель же такова в зависимости от своей степени: ибо понятию о сверхчувственном субстрате самому по себе не может быть дано в опыте ничего соответствующего ему по качеству, а в добродетели продукт опыта никогда не достигает в этой каузальности степени, которую идея разума предписывает как правило.
Подобно тому как в идее разума воображение со своими созерцаниями не достигает данного понятия, в эстетической идее рассудок посредством своих понятий никогда не достигает всего внутреннего созерцания воображения, которое оно связывает с данным представлением. Поскольку подвести представление воображения под понятия значит объяснить его, эстетическая идея может быть названа не допускающим объяснения представлением воображения (в его свободной игре). В дальнейшем мне еще представится возможность остановиться на идеях этого рода, теперь же замечу только, что идеи обоих родов, идеи разума и идеи эстетические, должны иметь свои принципы, причем те и другие должны иметь их в разуме, первые в объективных, вторые в субъективных принципах его применения.
В соответствии с этим гений может быть определен как способность к эстетическим идеям; этим объясняется одновременно и то, почему в произведениях гения правила его искусству дает природа (субъекта), а не продуманная цель (создавать прекрасное). Ибо поскольку о прекрасном надлежит судить не на основании понятий, а на основании целесообразной настроенности воображения для гармонии со способностью давать понятия вообще, то субъективной руководящей нитью в эстетической, но безусловной целесообразности в изящном искусстве, которая правомерно должна притязать на то, чтобы нравиться каждому, могут служить не правило и предписание, а лишь то, что есть природа в субъекте, но не может быть выражено в правилах и понятиях, т. е. сверхчувственный субстрат всех его способностей (которых не достигает рассудочное понятие), следовательно, то, по отношению к чему привести в соответствие все наши познавательные способности есть последняя цель, поставленная умопостигаемым началом нашей природы. Поэтому только и возможно, что в основе целесообразности изящного искусства, которой невозможно предписать какой-либо объективный принцип, лежит субъективный, но при этом общезначимый априорный принцип.
Примечание II
Здесь само собой напрашивается следующее важное замечание, а именно, что существуют три вида антиномии чистого разума, которые, однако, совпадают в том, что заставляют разум отказаться от весьма естественного предположения – принимать предметы чувств за вещи сами по себе, – считать их лишь явлениями и видеть в их основе умопостигаемый субстрат (нечто сверхчувственное, понятие чего есть только идея и не допускает познания в собственном смысле). Без подобной антиномии разум никогда не решился бы принять такой, столь суживающий область его спекуляции, принцип и пойти на жертвы, которые ведут к исчезновению многих блестящих надежд; ибо даже теперь, когда в возмещение этих потерь перед ним открывается наибольшая возможность применения в практической области, он как будто не может без сожаления расстаться с этими надеждами и отрешиться от прежней привязанности.
То, что существуют три вида антиномии, объясняется наличием трех познавательных способностей: рассудка, способности суждения и разума, каждая из которых (в качестве высшей познавательной способности) должна иметь свои априорные принципы; разум, поскольку он судит о самих этих принципах и их применении, неукоснительно требует от всех этих принципов безусловного для данного условного; но безусловное никогда не может быть найдено, если рассматривать чувственное как принадлежащее к вещам самим по себе и не считать основой этого чувственного как явления сверхчувственное (умопостигаемый субстрат природы вне нас и в нас) как вещь саму по себе. Таким образом, существуют: 1) антиномия разума – при теоретическом применении рассудка до безусловного для познавательной способности; 2) антиномия разума при эстетическом использовании способности суждения – для чувства удовольствия и неудовольствия; 3) антиномия при практическом применении самого по себе законодательствующего разума – для способности желания; все эти способности имеют свои высшие априорные принципы и в соответствии с непреложным требованием разума должны безусловно судить и определять свой объект по этим принципам.









































