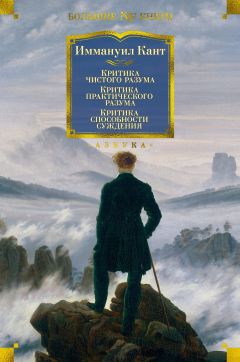
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 71 (всего у книги 82 страниц)
Что касается двух антиномий – антиномии теоретического и антиномии практического применения этих высших познавательных способностей, – то мы уже в другом месте показали как их неизбежность в том случае, если подобные суждения не исходят из сверхчувственного субстрата данных объектов как явлений, так и возможность разрешить их при выполнении этого требования. Что же касается антиномии при использовании способности суждения в соответствии с требованием разума и ее данного здесь разрешения, то есть только одно средство избежать этой антиномии – либо отрицать, что в основе эстетического суждения вкуса лежит априорный принцип и поэтому всякое притязание на необходимость общего согласия – просто пустое, лишенное всякого основания ослепление, и суждение о вкусе лишь постольку можно считать правильным, поскольку случается, что многие приходят к согласию по поводу этого суждения, но и то, собственно говоря, не потому, что в основе такого согласия предполагают априорный принцип, а потому, что (как при вкусовом ощущении) субъекты случайно обладают однородной организацией; либо допустить, что суждение вкуса есть, собственно говоря, скрытое суждение разума об обнаруженном в вещи совершенстве и об отношении многообразия в нем к некоей цели, и суждение вкуса называется эстетическим только вследствие смутности, присущей нашей рефлексии, в сущности же оно телеологическое. В таком случае разрешение антиномии посредством трансцендентальных идей можно было бы объявить ненужным и излишним и соединить законы вкуса с объектами чувств не только как с явлениями, но и как с вещами самими по себе. Однако сколь незначительны результаты как одного, так и другого подхода, показано в ряде мест в изложении природы суждений вкуса.
Если признать, по крайней мере, что наша дедукция идет по правильному пути, хотя и не повсюду достигает достаточной ясности, то обнаруживаются три идеи: во-первых, идея сверхчувственного вообще, без дальнейшего определения, как субстрата природы; во-вторых, идея сверхчувственного как принципа субъективной целесообразности природы для нашей познавательной способности; в-третьих, идея сверхчувственного как принципа целей свободы и принципа их соответствия свободе в нравственной сфере.
Принцип вкуса можно усматривать либо в том, что он всегда судит, исходя из эмпирических оснований определения, следовательно, из таких, которые даются только апостериорно посредством чувств, либо считать, что он судит, исходя из априорного основания. Первое было бы эмпиризмом критики вкуса, второе – ее рационализмом. В первом случае объект нашего благоволения не отличался бы от приятного; во втором, если бы суждение основывалось на определенных понятиях, – от доброго; таким образом, красота была бы полностью изгнана из мира и осталось бы только особое название, быть может, для известного смешения двух названных выше видов благоволения. Однако мы ведь показали, что существуют и априорные основания благоволения, совместимые, следовательно, с принципом рационализма, хотя они и не могут быть выражены в определенных понятиях.
В свою очередь, рационализм принципа вкуса может быть либо рационализмом реализма целесообразности, либо рационализмом ее идеализма. Однако поскольку суждение вкуса не есть суждение познавательное и красота не есть свойство объекта, рассмотренного самого по себе, то рационализм принципа вкуса никогда не может состоять в том, что целесообразность в этом суждении мыслится объективной, т. е. что суждение теоретически, а тем самым и логически (хотя только в неотчетливом суждении) имеет в виду совершенство объекта; оно только эстетически имеет в виду соответствие в субъекте его представления в воображении существенным принципам способности суждения вообще. Следовательно, даже согласно принципу рационализма суждения вкуса и различие между его реализмом и идеализмом может усматриваться лишь в том, что названная субъективная целесообразность либо – в первом случае – признается действительной (преднамеренной) целью природы (или искусства) соответствовать нашей способности суждения, либо – во втором случае – считается только целесообразным соответствием, которое возникает без какой-либо цели, само собой и случайно для потребности способности суждения о природе и ее порожденных по частным законам формам.
В пользу реализма эстетической целесообразности природы – поскольку хотелось бы считать, что в основе создания прекрасного лежит в производящей причине его идея, а именно цель для нашего воображения, – говорят прекрасные образования в царстве органической природы. Цветы, соцветия, даже весь облик растений, ненужное для применения самих животных, но как будто созданное для нашего вкуса изящество строения разных их видов, особенно же столь приятное для глаза многообразие и гармоническое сочетание красок (фазана, раковин моллюсков, насекомых, даже самых обыкновенных цветов), которые, находясь только на поверхности их тела, да и то не соответственно его строению, что могло бы быть как-то связано с внутренними целями животных, рассчитаны как будто полностью на внешнее восприятие, – все это как будто настраивает нашу эстетическую способность суждения в пользу того объяснения, которое признает в природе наличие действительных целей.
Но этому объяснению противится не только разум своими максимами, повсюду стремящимися по возможности избегать ненужного увеличения принципов, но и природа, которая в своих свободных образованиях повсюду настолько явно проявляет механическую склонность к порождению форм, как будто созданных для эстетического применения нашей способности суждения, не давая ни малейшего основания предполагать, что для этого ей нужно нечто большее, чем ее механизм просто как природы, вследствие чего эти формы могут оказаться целесообразными для нашего суждения и без какой-либо лежащей в их основе идеи. Под свободным же образованием природы я понимаю тот процесс, когда из жидкого, пребывающего в покое вещества вследствие испарения или обособления его части (иногда просто тепловой материи) возникает остаток, который, затвердевая, принимает определенную форму или образует некую ткань (строение или текстуру), различные в специфически различных материях, но в одной и той же материи совершенно одинаковые. При этом, однако, предполагается, что речь идет о подлинной жидкости, а именно о такой, в которой материя полностью растворена и не представляет собой сочетание твердых и просто плавающих в ней частей.
Тогда образование происходит путем быстрого соединения, т. е. внезапного затвердения, не посредством постепенного перехода из жидкого состояния в твердое, а как бы скачком; этот переход называется также кристаллизацией. Самым обычным примером такого рода образования может служить замерзающая вода; в ней сначала образуются прямые лучики льда, объединяющиеся под углом в 60 градусов, в каждой точке к ним присоединяются другие, пока все не превращается в лед; в течение этого процесса вода между лучиками льда не становится постепенно более вязкой, но остается столь же жидкой, какой она была бы при значительно более высокой температуре, однако при этом она холодна как лед. Отделяющаяся материя, которая в момент затвердения внезапно исчезает, – это значительное количество теплового вещества; утрата его, поскольку оно было необходимо лишь для жидкого состояния, оставляет этот образовавшийся лед ничуть не более холодным, чем была незадолго до этого содержащаяся в нем вода.
Многие соли, а также кристалловидные камни, таким же способом образуются из неизвестно посредством чего растворенной в воде земли. Так же образуются друзовые конфигурации многих минералов, кубического свинцового блеска, перуанской серебряной руды и т. п., по всей вероятности – тоже в воде и посредством соединения частей: по какой-то причине они вынуждены покинуть это растворяющее средство и соединиться друг с другом, образуя определенные внешние формы.
Но и внутри всех материй, которые были жидкими лишь благодаря теплу и стали твердыми только вследствие охлаждения, в местах излома выступает определенная текстура, из чего можно заключить, что, если бы тому не препятствовал их собственный вес или соприкосновение с воздухом, они и внешне сохранили бы свою специфическую, им свойственную форму; действительно, это можно наблюдать на ряде металлов, которые, затвердевая снаружи после плавления, сохраняют внутри жидкое состояние; посредством извлечения внутренней еще жидкой части происходит спокойная кристаллизация остальной массы, оставшейся внутри. Многие из таких минеральных кристаллизаций, например, кристаллизация друзы шпата, железняка, железного цвета, часто образуют необыкновенно красивые формы, не уступающие тому, что могло бы создать искусство; и сталактит в пещере Антипароса – лишь продукт просачивающейся через гипсовые пласты воды.
Жидкое, по всей видимости, вообще древнее твердого; как растения, так и животные тела образуются из жидкой питательной материи, формирующейся в состоянии покоя; правда, во втором случае она формируется в соответствии с известными первоначальными задатками, направленными на определенные цели (судить о которых, как будет показано во второй части, следует не эстетически, а телеологически по принципу реализма), но наряду с этим, быть может, и по всеобщему закону сродства материй, соединяясь и создавая свободное образование. Подобно тому как растворенные в атмосфере, представляющей собой смесь различных видов воздуха, водянистые жидкости, отделяясь от нее вследствие уменьшения тепла, образуют снежинки, которые в зависимости от состава воздуха могут быть очень искусны и чрезвычайно красивы по своей форме, можно без всякого ущерба для телеологического принципа суждения об организациях приписать красоту цветов, оперение птиц, раковины как по их форме, так и по краскам природе и ее способности свободно формироваться также эстетически целесообразно без особых, направленных на это целей, в соответствии с химическими законами, посредством отложения необходимой для организации материи.
Но прямо доказывает принцип идеальности целесообразности в красоте природы как принцип, который мы всегда полагаем в основу самого эстетического суждения и который не дозволяет нам применять реализм цели природы в качестве основания объяснения для нашей способности представления, – то, что в суждении о красоте мы вообще априорно ищем критерий в нас самих и что эстетическая способность суждения сама устанавливает законы для суждения, красиво ли нечто или нет; этого не могло бы быть, если бы мы исходили из реализма целесообразности природы, ибо тогда нам пришлось бы учиться у природы тому, что следует считать прекрасным, и суждение вкуса было бы подчинено эмпирическим принципам. Ведь в таком суждении важно не то, что есть природа или что есть она для нас в качестве цели, а то, как мы ее воспринимаем. Если бы природа создавала свои формы для нашего благоволения, это всегда было бы ее объективной целесообразностью, а не субъективной целесообразностью, основанной на игре воображения в его свободе, посредством которой мы благосклонно воспринимаем природу, а не она нам эту благосклонность оказывает. Свойство природы, которое заключается в том, что она предоставляет нам возможность воспринимать при суждении о ее продуктах внутреннюю целесообразность в соотношении наших душевных сил, причем как такую, которую, исходя из сверхчувственного основания, следует считать необходимой и общезначимой, не может быть целью природы и тем более рассматриваться нами в качестве таковой, ибо в противном случае основой определяемого этим суждения была бы гетерономия, а не автономия, и оно не было бы свободным, каковым должно быть суждение вкуса.
Еще отчетливее познается принцип идеализма целесообразности в изящном искусстве. Ибо общее для него и для прекрасной природы то, что в нем нельзя усматривать эстетический реализм целесообразности посредством ощущений (так как в этом случае искусство было бы не прекрасным, а приятным). Что благоволение посредством эстетических идей не должно зависеть от достижения определенных целей (как в механическом преднамеренном искусстве), что и в основе рационализма принципа лежит идеальность целей, а не их реальность, очевидно уже из того, что изящное искусство должно рассматриваться не как продукт рассудка и науки, а как продукт гения, и, следовательно, правила ему дают эстетические идеи, существенно отличающиеся от определенных целей, основанных на идеях разума.
Так же как идеальность предметов чувств как явлений есть единственный способ объяснить возможность того, что их формы могут быть определены априорно, и идеализм целесообразности в суждении о прекрасном в природе и искусстве – единственная предпосылка, при которой критика только и способна объяснить возможность суждения вкуса, априорно требующего от каждого признания его значимости (не основывая целесообразность, представляемую в объектах, на понятиях).
Для того чтобы доказать реальность наших понятий, всегда требуется созерцание. Если это эмпирические понятия, то созерцания называют примерами. Если это чистые рассудочные понятия, их называют схемами. Если же требуют, чтобы была доказана объективная реальность понятий разума, т. е. идей, причем для их теоретического познания, то желают невозможного, потому что дать соответствующее им созерцание совершенно невозможно.
Любая гипотипоза (изображение subjectio sub adspectum) как чувственное воплощение двояка: она либо схематична, если понятию, которое постигается рассудком, дается соответствующее априорное созерцание; либо символична, если под понятие, которое может мыслить только разум и которому не может соответствовать чувственное созерцание, подводится такое созерцание, при котором действия способности суждения совпадают с тем, что она наблюдает в схематизировании лишь по аналогии, а не по самому созерцанию, т. е. лишь по форме рефлексии, а не по содержанию.
Хотя среди новых логиков и принято применять слово «символический» в его противопоставлении интуитивному способу представления, но это искажает его смысл и неправильно, ибо символическое есть лишь разновидность интуитивного. Интуитивный способ представления может быть разделен на схематический и символический. Оба эти способа представления – гипотипозы, т. е. изображения (exhibitiones), а не просто характеристики (сharakterismen), т. е. обозначения понятий посредством сопутствующих чувственных знаков, которые не содержат ничего принадлежащего к созерцанию объекта, а служат лишь средством репродуцирования по присущему воображению закону ассоциации, тем самым с субъективным намерением; таковы либо слова, либо зримые (алгебраические, даже мимические) знаки в качестве выражений для понятий[244]244
Интуитивное в познании следует противопоставлять дискурсивному (а не символическому). Первое – либо схематично посредством демонстрации, либо символично как представление только по аналогии.
[Закрыть].
Следовательно, все созерцания, которые подводятся под априорные понятия, – либо схемы, либо символы; первые из них содержат прямые, вторые – опосредствованные изображения понятий. Первые совершают это посредством демонстрации, вторые – посредством аналогии (в ней пользуются и эмпирическими созерцаниями), в ходе которой способность суждения выполняет два дела: во-первых, применяет понятие к предмету чувственного созерцания; во-вторых, применяет правило рефлексии об этом созерцании к совершенно другому предмету, для которого первый только символ. Так, монархическое государство, если оно подчинено внутренним народным законам, представляют в виде одушевленного тела, если же в нем господствует единичная абсолютная воля – просто как машину (например, ручную мельницу), но в обоих случаях это представление символично. Между деспотическим государством и ручной мельницей, правда, нет сходства, но сходство есть между правилом рефлексии о них и об их каузальности. До настоящего времени все это еще мало разработано, хотя, безусловно, заслуживает более глубокого исследования; однако здесь не место задерживаться на этом вопросе. Наш язык полон таких опосредствованных изображений по аналогии, вследствие чего выражение содержит не подлинную схему для понятия, а лишь символ для рефлексии. Такие слова, как «основание» (опора, базис), «зависеть» (быть поддерживаемым сверху), «из чего вытекает» (вместо следует), «субстанция» (по выражению Локкау, носитель акциденций) и бесчисленное множество других, суть не схематические, а символические гипотипозы и выражения для понятий не посредством прямого созерцания, а лишь по аналогии с ним, т. е. посредством перенесения рефлексии о предмете созерцания на совсем другое понятие, которому созерцание, вероятно, никогда не сможет прямо соответствовать. Если способ представления можно уже назвать познанием (что дозволено, если он – принцип не теоретического определения предмета, того, что предмет есть сам по себе, а определения практического, того, чем его идея должна стать для нас и для ее целесообразного применения), то все наше познание Бога лишь символично, и тот, кто воспринимает это познание схематически, т. е. наделяет Бога такими свойствами, как рассудок, воля и т. д., свойствами, объективная реальность которых может быть доказана лишь для существ мира, впадает в антропоморфизм, если же устраняет все интуитивное, он впадает в деизм, который вообще не допускает никакого познания, даже в практическом понимании.
Итак, я утверждаю: прекрасное есть символ нравственно доброго; и только поэтому (потому, что такое отношение естественно для каждого и каждый ждет этого как исполнения долга от другого) оно нравится и притязает на согласие другого; при этом душа сознает известное облагораживание и возвышение над простой восприимчивостью удовольствия от чувственных впечатлений и судит о достоинстве других по сходной максиме их способности суждения. Это и есть то умопостигаемое, к которому стремится вкус, как было указано в предыдущем параграфе, именно то, для чего согласуются наши высшие познавательные способности и без чего между их природой и притязаниями вкуса возникало бы множество противоречий. В этом способность суждения не подчинена, как в эмпирическом суждении, гетерономии законов опыта; по отношению к предметам такого чистого благоволения она сама устанавливает для себя закон, подобно тому как это делает разум по отношению к способности желания; и вследствие этой внутренней возможности в субъекте, также внешней возможности согласующейся с этим природы, она соотносится с чем-то в самом субъекте и вне его, что не есть ни природа, ни свобода, но все-таки связано с основой свободы, со сверхчувственным, в котором теоретическая способность общим неизвестным нам способом соединена воедино с практической способностью. Укажем на некоторые моменты этой аналогии, отмечая одновременно их различие.
1) Прекрасное нравится непосредственно (но только в рефлектирующем созерцании, а не как нравственность в понятии).
2) Оно нравится без всякого интереса (нравственно доброе связано с интересом, но не с таким, который предшествует суждению о благоволении, а с таким, который этим благоволением вызывается).
3) Свобода воображения (следовательно, чувственности нашей способности) представляется в суждении о прекрасном как согласующаяся с закономерностью рассудка (в моральном суждении свобода воли мыслится как ее согласие с самой собой по общим законам разума).
4) Субъективный принцип суждения о прекрасном представляется как всеобщий, т. е. значимый для каждого, но не обозначенный общим понятием (объективный принцип моральности также является всеобщим, т. е. значимым для всех субъектов, а также для всех поступков единичного субъекта, и при этом обозначается общим понятием). Поэтому моральное суждение не только способно к определенным конститутивным принципам, но и возможно только благодаря тому, что максимы основаны на этих принципах и их всеобщности.
Эта аналогия доступна и обыденному рассудку, и мы часто применяем к прекрасным предметам природы или искусства названия, в основе которых как будто лежит нравственная оценка. Здания и деревья мы называем величественными и великолепными, поля – смеющимися и радостными; даже цвета называют невинными, скромными, нежными, потому что они вызывают ощущения, в которых содержится нечто аналогичное сознанию того душевного состояния, которое вызывается моральными суждениями. Вкус как бы делает возможным переход от чувственного очарования к привычному моральному интересу без слишком резкого скачка, представляя воображение и в его свободе как целесообразно определимое для рассудка и приучая испытывать свободное благоволение даже к тем предметам, которые лишены чувственного очарования.









































