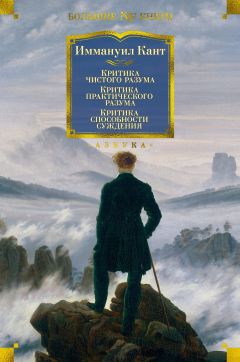
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 68 (всего у книги 82 страниц)
Воспринимая произведение изящного искусства, следует сознавать, что это – искусство, а не природа; однако целесообразность его формы все-таки должна представляться столь свободной от всякого принуждения произвольных правил, будто оно есть продукт природы. На этом чувстве свободы в игре наших познавательных способностей, которая должна быть вместе с тем целесообразной, зиждется то удовольствие, которое только и может быть всеобще сообщаемо, не основываясь на понятиях. Природа прекрасна, когда она похожа на искусство, а искусство может быть лишь тогда названо прекрасным, когда мы сознаем, что это искусство, но вместе с тем оно выгладит как природа.
Ибо в общей форме можно сказать, касается ли это красоты в искусстве или в природе: прекрасно то, что нравится только в суждении (не в чувственном ощущении и не посредством понятия). В произведении искусства всегда заложено определенное намерение что-то создать. Однако если бы это было просто ощущением (чем-то лишь субъективным), которое должно сопровождаться удовольствием, то такое произведение нравилось бы в суждении лишь посредством чувственного восприятия. Если бы намерение заключалось в том, чтобы создать определенный объект, то это намерение, осуществленное с помощью искусства, нравилось бы лишь посредством понятий. В обоих случаях искусство нравилось бы не просто в суждении, т. е. не как изящное, а как механическое искусство.
Следовательно, целесообразность в продукте изящного искусства, будучи преднамеренной, не должна казаться таковой; другими словами, в произведениях изящного искусства мы должны как бы видеть природу, сознавая при этом, что перед нами произведение искусства. Продуктом природы произведение искусства кажется благодаря тому, что при всей точности в следовании правилам, с помощью которых оно только и может стать тем, чем оно должно быть, оно лишено педантизма, в нем не сквозит школьная премудрость, т. е. нет и следа того, что художник видел перед своим умственным взором правило, накладывавшее оковы на его душевные силы.
Гений – это талант (дар природы), который дает искусству правила. Поскольку талант как прирожденная продуктивная способность художника сама принадлежит природе, то можно выразить эту мысль и таким образом: гений – врожденная способность души (ingenium), посредством которой природа дает искусству правила.
Как бы ни обстояло дело с этой дефиницией, произвольна ли она или соответствует понятию, которое привыкли связывать со словом «гений» (что будет рассмотрено в последующем параграфе), уже заранее можно считать доказанным, что по принятому здесь значению слов изящное искусство необходимо следует рассматривать как искусство гения.
Ибо каждое искусство предполагает правила, которые должны быть положены в основании произведения, чтобы его можно было назвать произведением искусства. Однако понятие изящного искусства не допускает, чтобы суждение о красоте его произведения выводилось из какого-либо правила, определяющим основанием которого служит понятие, т. е. чтобы в основу было положено понятие, которое указывало бы, каким образом это произведение возможно. Следовательно, изящное искусство само не может измыслить для себя правило, в соответствии с которым ему надлежит создать свое произведение. Но так как без предшествующего правила произведение искусства никогда не может быть названо таковым, то правило должно быть дано искусству природой субъекта (в частности, посредством настроенности его способностей), другими словами, изящное искусство возможно только как продукт гения.
Из этого явствует, что гений 1) есть талант создавать то, для чего не может быть дано определенное правило, а не умение создавать то, чему можно научиться, следуя определенному правилу; таким образом, главным его качеством должна быть оригинальность. 2) Поскольку возможна и оригинальная бессмыслица, продукты гения должны быть одновременно образцом, т. е. служить примером; тем самым, хотя сами они возникли не в результате подражания, они должны служить для этой цели другим, т. е. служить руководством или правилом суждений. 3) Гений сам не может описать или научно обосновать, как он создает свое произведение, – он дает правила подобно природе; поэтому создатель произведения, которым он обязан своему гению, сам не ведает, как к нему пришли эти идеи, и не в его власти произвольно или планомерно придумать их и сообщить другим в таких предписаниях, которые позволили бы им создавать подобные произведения. (Поэтому, вероятно, слово «гений» есть производное от genius, своеобразного, данного человеку при рождении охраняющего его и руководящего им духа, который и внушает ему эти оригинальные идеи.) 4) Посредством гения природа предписывает правила не науке, а искусству, и это лишь постольку, поскольку оно должно быть изящным искусством.
В том, что гений следует полностью противополагать духу подражания, согласны все. Поскольку же учение есть не что иное, как подражание, то величайшую способность, восприимчивость (понятливость) как таковую нельзя считать гением. Однако даже если человек мыслит или творит самостоятельно, а не только воспринимает то, что мыслили другие, более того, открывает что-либо в искусстве и науке, то и это еще недостаточное основание, чтобы назвать человека такого (подчас великого) ума гением (в отличие от того, кого называют простофилей, ибо он способен только учиться и подражать), так как этому тоже можно научиться, следовательно, достигнуть естественным путем исследования и размышления в соответствии с правилами, и по своей специфике оно не отличается от того, что может быть достигнуто с помощью прилежания и посредством подражания. Так, всему тому, что Ньютон изложил в своем бессмертном труде о началах философии природы, – сколь ни велик должен был быть ум, способный открыть подобное, – все-таки можно научиться; но невозможно научиться вдохновенно создавать поэтические произведения, как бы подробны ни были предписания стихосложения и как бы превосходны ни были образцы. Причина заключается в том, что Ньютон мог сделать совершенно наглядными и предназначенными для того, чтобы следовать им, все свои шаги от первых начал геометрии до своих великих и глубоких открытий – и не только самому себе, но и любому другому; между тем ни Гомер, ни Виланд не могут сказать, как возникают и сочетаются в их сознании полные фантазии и вместе с тем глубокие идеи, потому что они сами этого не знают, а следовательно, и не могут научить этому другого. Таким образом, в науке величайший первооткрыватель отличается от старательного подражателя и ученика лишь степенью; от того же, кого природа наградила даром создавать прекрасные произведения искусства, он отличается по своей специфике. Однако это отнюдь не умаляет заслуги тех великих мужей, которым человеческий род столь многим обязан, в их отличии от любимцев природы, обладающих талантом в области изящного искусства. Именно в том, что талант ученых направлен на достижение все более растущего совершенства в знании и связанной с ним пользе, а также на обучение этим знаниям других, заключается большое преимущество их по сравнению с теми, кто удостоился чести называться гением; ибо для гениев искусство где-нибудь останавливается, наталкиваясь на рубеж, преступить который оно не может, – вероятно, он давно уже достигнут и отодвинут быть не может; к тому же такое умение не сообщается, оно дается каждому непосредственно природой, следовательно, с ним умирает, пока природа когда-нибудь вновь не одарит таким же талантом другого, которому нужен лишь пример, чтобы подобным же образом применить свой осознанный им талант.
Так как дар природы в искусстве (в качестве изящного искусства) должен дать правило, то каково же это правило? Оно не может быть выражено в формуле и служить предписанием; ибо тогда суждение о прекрасном могло бы определяться в понятиях; правило должно быть выведено из деяния, т. е. из произведения, которое будет служить другим для проверки их таланта, образцом не для копирования, а для подражания. Объяснить, как это возможно, трудно. Идеи художника пробуждают близкие идеи у его ученика, если природа одарила его способностями души в сходной пропорции. Поэтому образцы изящного искусства – единственное средство передать их потомству; простыми описаниями этого достигнуть невозможно (особенно в области искусства слова), да и из них могут стать классическими лишь те, которые выражены на древних, мертвых, сохранившихся только в науке языках.
Несмотря на то что механическое искусство и изящное искусство, первое как искусство просто прилежания и обучения, второе как искусство гения, сильно отличаются друг от друга, не существует изящного искусства, в котором в качестве существенного условия не присутствовало бы нечто механическое, что можно понять и чему надлежит следовать по правилам; таким образом, что-то от школьного обучения составляет существенное условие искусства. Ибо в художественном творчестве нечто необходимо должно мыслиться как цель, в противном случае произведение нельзя будет отнести к искусству, оно окажется просто продуктом случая. Но для того чтобы подчинить произведение какой-либо цели, нужны определенные правила, от которых не следует отступать. Поскольку оригинальность таланта составляет существенное (но не единственное) свойство гения, легкомысленные люди полагают, что заставят с наибольшей вероятностью видеть в них расцветающих гениев, если откажутся от принудительности всех школьных правил, считая, что лучше гарцевать на норовистой, чем на объезженной лошади. Гений может дать лишь богатый материал для произведений изящного искусства, его обработка и форма требуют воспитанного школой таланта, который может использовать этот материал таким образом, чтобы он устоял перед способностью суждения. Если же кто-либо говорит и судит наподобие гения даже в делах, требующих самого тщательного исследования разумом, то это уже просто смешно; и, право, не знаешь, кто более смешон, – фокусник ли, напускающий такой туман, что судить о чем-либо отчетливо вообще уже невозможно, но зато можно беспрепятственно воображать что угодно, или публика, простосердечно полагающая, будто ее неспособность ясно понять и вникнуть в чудо совершаемого объясняется тем, что ее забрасывают огромными массами новых истин, по сравнению с которыми детали (ясное объяснение и проверка основоположений в соответствии со школьными правилами) представляются ей не более чем дилетантством.
Для суждения о прекрасных предметах как таковых требуется вкус, для самого же изящного искусства, т. е. для создания подобных предметов, требуется гений.
Если рассматривать гений как талант в области изящного искусства (в чем и состоит, собственно, значение этого слова) и пытаться расчленить его на способности, сочетание которых необходимо, чтобы составить подобный талант, надо прежде всего точно определить различие между красотой природы, суждение о которой требует только вкуса, и красотой в искусстве, возможность которой (на что в суждении о подобном предмете также следует обратить внимание) требует гения.
Красота в природе – это прекрасная вещь; красота в искусстве – прекрасное представление о вещи.
Для того чтобы судить о красоте в природе как таковой, мне не надо сначала иметь понятие о том, чем должен быть этот предмет; другими словами, мне нет необходимости знать содержательную целесообразность (цель); в суждении нравится сама форма как таковая без знания цели. Но если предмет дан как произведение искусства и в качестве такового должен быть признан прекрасным, то, поскольку искусство всегда предполагает в причине (и ее каузальности) цель, в основу сначала должно быть положено понятие о том, какой должна быть эта вещь, и так как соответствие многообразного в вещи внутреннему ее назначению как цели есть совершенство вещи, то в суждении о красоте в искусстве одновременно должно быть принято во внимание и совершенство вещи, тогда как в суждении о красоте природы (как таковой) подобный вопрос даже не возникает. Правда, в суждении об одушевленных предметах природы, например, о человеке или лошади, обычно, когда судят об их красоте, принимают во внимание и объективную целесообразность; но это уже не чисто эстетическое суждение, не просто суждение вкуса. В этом суждении природа уже рассматривается не такой, какой она являет себя в качестве искусства, а поскольку она действительно есть искусство (хотя и сверхчеловеческое); телеологическое суждение служит эстетическому основой и условием, и эстетическое суждение должно принимать это во внимание. В таком случае, – если, например, говорят: «Это красивая женщина», – мыслят не что иное, как: природа прекрасно выражает в ее образе цели женского телосложения; ибо для того, чтобы предмет мыслился подобным образом посредством логически обусловленного эстетического суждения, надлежит иметь в виду не только форму, но и понятие.
Преимущество изящного искусства заключается именно в том, что оно изображает прекрасными вещи, которые в природе уродливы и отталкивающи. Фурии, болезни, опустошения, войны и т. п. могут быть прекрасно описаны как вредные явления, даже изображены на картине. Лишь один вид уродства не может быть представлен соответственно его виду в природе, не уничтожая всякое эстетическое удовлетворение, а тем самым и красоту в искусстве, – это уродство, вызывающее отвращение. Ибо поскольку в этом странном, основанном только на воображении ощущении предмет представлен так, будто он напрашивается на наслаждение, тогда как мы всеми силами препятствуем этому, то представление об этом предмете как предмете искусства больше не отличается в нашем ощущении от его природы и поэтому не может считаться прекрасным. Так, ваяние, поскольку в его творениях искусство почти уподобляется природе, исключило непосредственное изображение уродливых предметов и поэтому позволяет изображать, например, смерть (в виде прекрасного гения), воинскую доблесть (в виде Марса) посредством аллегории или атрибутов, которые выглядят привлекательно, т. е. изображать предмет лишь косвенно посредством толкования разума, а не только для эстетического суждения.
Все сказанное относится к прекрасному представлению о предмете; оно, собственно говоря, есть лишь форма представления понятия, посредством которой понятие становится всеобще сообщаемым. Для того чтобы придать эту форму произведению изящного искусства, достаточно вкуса, с которым, развив и отточив его на ряде примеров в области искусства или природы, художник сопоставляет свое творение и после многих мучительных попыток обрести удовлетворение находит наконец ту форму, которая ему нужна: следовательно, эта форма – не дело вдохновения или свободного порыва душевных сил, а результат длительного, даже изнурительного стремления к такому совершенствованию, которое позволит придать ей соответствие с мыслью, не нанося при этом ущерба свободе в игре душевных сил.
Вкус есть лишь способность суждения, а не продуктивная способность, и поэтому то, что ему соответствует, не есть произведение изящного искусства; оно может быть также продуктом полезного и механического искусства или даже науки, созданным по определенным правилам, которым можно научиться и которым надлежит строго следовать. Привлекательная же форма, которую придают этому продукту, – не более чем средство сообщаемости и как бы манера представления, по отношению к которой еще сохраняется известная свобода, хотя этот продукт и связан с определенной целью. Так, требуют, чтобы столовый прибор или моральный трактат, даже проповедь имели форму изящного искусства, но не казались при этом вычурными; однако это еще не основание для того, чтобы называть их творениями изящного искусства. К нему относят стихотворение, музыкальное произведение, картинную галерею т. п., но и в том, что должно быть творением изящного искусства, часто обнаруживается гений, лишенный вкуса, или вкус, лишенный гения.
О некоторых произведениях, которые должны были бы, хотя бы отчасти, представлять собой изящное искусство, говорят, что они лишены духа, хотя с точки зрения вкуса в них нет ничего вызывающего возражения. Стихотворение может быть очень милым и элегантным, но дух в нем отсутствует. Рассказ – точным и правильным, но лишенным духа. Торжественная речь – основательной и вместе с тем изящной, но лишенной духа. Разговор – часто достаточно занимателен, но дух в нем отсутствует; даже о женщине говорят: она красива, разговорчива и благопристойна, но в ней отсутствует дух. Что же здесь понимают под духом?
Дух в эстетическом смысле – это оживляющий принцип в душе. То, посредством чего этот принцип оживляет душу, материал, который он для этого использует, есть то, что целесообразно приводит душевные способности в движение, т. е. к такой игре, которая сама себя поддерживает и сама укрепляет необходимые для этого силы.
Я утверждаю: этот принцип есть не что иное, как способность изображения эстетических идей; под эстетической идеей я понимаю такое представление воображения, которое заставляет напряженно думать без того, чтобы ему могла быть адекватна какая-либо определенная мысль, т. е. понятие; поэтому язык никогда не может полностью выразить и сделать понятным это представление. Легко заметить, что эта идея как бы находится в обратном соответствии (pendant) с идеей разума, представляющей собой понятие, которому никогда не может быть адекватно созерцание (представление воображения).
Воображение (в качестве продуктивной способности познания) очень могущественно в создании как бы другой природы из материала, который ей дает действительная природа. Мы предаемся ему, когда опыт представляется нам слишком будничным, переделываем опыт, правда, по все еще аналогичным законам; однако и по принципам, находящимся выше, в разуме (они столь же естественны для нас, как те, посредством которых рассудок схватывает эмпирическую природу); при этом мы чувствуем себя свободными от закона ассоциации (присущего эмпирическому применению этой способности); ибо хотя природа дает нам материал согласно данному закону, этот материал может быть переработан нами в нечто совершенно другое, а именно в то, что превосходит природу.
Подобные представления воображения можно назвать идеями: отчасти потому, что они, по крайней мере, стремятся к чему-то, находящемуся за пределами опыта, и таким образом пытаются приблизиться к изображению понятий разума (интеллектуальные идеи), что придает им видимость объективной реальности; с другой стороны, и это главное, потому, что им в качестве внутренних созерцаний не может быть полностью адекватным никакое понятие. Поэт решается представить в чувственном облике идею разума о невидимых сущностях – царство блаженных, преисподнюю, вечность, сотворение мира и т. п. – или то, что, правда, дано в опыте, но выходит за его пределы, например, смерть, зависть и все пороки, а также любовь, славу и т. д., и стремится представить их с помощью воображения, соперничающего с разумом в достижении величайшего, чувственно воспринимаемыми в полноте, примера которой нет в природе; собственно говоря, только в поэзии эта способность эстетических идей может проявиться в полной мере. Рассмотренная же сама по себе эта способность есть, по существу, только талант (воображения).
Если под понятие подводится представление воображения, необходимое для изображения, но само по себе требующее такого глубокого мышления, которое никогда не может быть охвачено определенным понятием и тем самым безгранично расширяет само понятие эстетически, то воображение действует при этом творчески и приводит в движение способность интеллектуальных идей (разум), а именно заставляет мыслить по поводу этого представления (хотя это относится к понятию предмета) больше, чем могло бы быть постигнуто и уяснено в нем.
Те формы, которые не составляют самого изображения данного понятия, а выражают в качестве дополнительных представлений воображения лишь связанные с ним следствия и его родственность другим понятиям, называют атрибутами (эстетическими) предмета, чье понятие как идея разума не может быть изображено адекватно. Так, орел Юпитера с молнией в когтях – атрибут могущественного владыки неба, а павлин – прекрасной владычицы неба. Эти атрибуты не представляют, подобно логическим атрибутам, то, что заключено в наших понятиях о возвышенности и величии творения, они отражают нечто другое, что дает воображению повод распространиться на множество родственных понятий, которые позволяют мыслить большее, чем может быть выражено в понятии, определенном словами; они дают эстетическую идею, которая служит идее разума вместо логического изображения, в сущности же для того, чтобы оживить душу, открывая ей необозримую область родственных представлений. Изящное искусство применяет это не только в живописи и ваянии (где обычно употребляется термин «атрибуты»); поэзия и ораторское искусство также заимствуют дух, оживляющий их слова, у эстетических атрибутов предметов, сопутствующих логическим атрибутам и придающих изображению размах, который заставляет мыслить больше, хотя и в неразвитом виде, чем может быть охвачено понятием, т. е. определенным словесным выражением. Ограничусь для краткости лишь несколькими примерами.
Если великий король в одном из своих стихотворений говорит: «Уйдем из жизни без ропота и ни о чем не жалея, ибо мы оставляем мир, осыпанный благодеяниями. Так солнце, завершив свой дневной путь, освещает мягким светом небо, и последние лучи, которые оно посылает в эфир, – это его последние вздохи на благо мира», – то этими сказанными на склоне лет словами он оживляет свою идею разума, космополитическую в ее настроенности, атрибутом, который воображение при воспоминании о прелести прекрасного летнего дня, вызываемом в нашей душе безоблачным вечером, соединяет с этим представлением и который пробуждает множество ощущений и дополнительных представлений, не находящих своего выражения. С другой стороны, даже интеллектуальное понятие может, в свою очередь, служить атрибутом чувственного представления и оживить его идеей сверхчувственного; но только в том случае, если для этого использована та эстетическая идея, которая субъективно связана с сознанием сверхчувственного. Так, например, поэт, описывая прекрасное утро, говорит: «Солнце проглянуло, как покой проглядывает в добродетели». Сознание добродетели, даже в том случае, если только мысленно стать на точку зрения добродетельного человека, наполняет душу множеством возвышенных и успокоительных чувств и открывает безграничную перспективу радостного будущего, которое полностью не могут выразить слова, соответствующие определенному понятию[237]237
Быть может, никогда не было сказано ничего более возвышенного или не была более возвышенно выражена мысль, чем в надписи на храме Исиды (матери-природы): «Я все, что есть, что было и что будет, и никто из смертных не поднимал моего покрывала». Зегнер использовал эту идею в виде глубокомысленной, предпосланной его учению о природе виньетки, чтобы заранее внушить ученику, которого он намеревался ввести в этот храм, священный трепет, способный настроить его душу на торжественное внимание.
[Закрыть].
Одним словом, эстетическая идея есть присоединенное к данному понятию представление воображения, связанное в свободном его применении с таким многообразием частичных представлений, что выражение, которое обозначало бы определенное понятие, для него найдено быть не может; следовательно, оно позволяет примыслить к понятию много неизреченного, чувство которого оживляет познавательную способность и связывает дух с языком, как с простой буквой.
Таким образом, способности души, соединение которых (в определенном соотношении) составляет гений, – это воображение и рассудок. Но так как в применении для познания воображение находится под властью рассудка и ограничено, чтобы соответствовать его понятию, а в эстетическом отношении оно свободно и может сверх согласованности с понятием дать – правда, непреднамеренно – богатый неразвитый материал для рассудка, который тот в своем понятии не принимал во внимание и который он применяет не столько объективно для познания, сколько субъективно для оживления познавательных способностей, следовательно, косвенно все-таки для познания, – то гений заключается, собственно говоря, в счастливом сочетании, которое нельзя обрести в науке или достигнуть прилежанием и которое позволяет найти идеи для данного понятия, а также выразить их таким образом, чтобы вызванная этим душевная настроенность могла быть как сопутствующая понятию сообщена другим. Такой талант и есть, собственно говоря, то, что называют духом, ибо выразить неизреченное в состоянии души в известном представлении и сделать его всеобще сообщаемым – будь то на языке живописи или пластики – требует способности схватывать быстро исчезающую игру воображения и придавать ей единство в понятии (именно поэтому оригинальном и вместе с тем предоставляющем новое правило, не следующее из предшествующих принципов или примеров), которое может быть сообщено другим без принуждения правилами.
* * *
Возвращаясь после этого анализа к данному выше объяснению того, что называют гением, мы обнаруживаем: во-первых, что гений – это талант к искусству, а не к науке, где первое место должны занимать и определять совершаемые действия хорошо известные правила; во-вторых, что в качестве таланта к искусству гений предполагает определенное понятие о произведении как цели, а тем самым – рассудок, но вместе с тем и представление (хотя и неопределенное) о материале, т. е. о созерцании, для изображения этого понятия, – следовательно, отношение воображения к рассудку; что, в-третьих, гений проявляется не столько в осуществлении намеченной цели, в изображении определенного понятия, сколько в изложении или выражении эстетических идей, содержащих богатый материал для данной цели, и тем самым представляет воображение в его свободе от всякого подчинения правилам, но тем не менее целесообразным для изображения данного понятия; и, наконец, в-четвертых, что непринужденная, непреднамеренная, субъективная целесообразность в свободном соответствии воображения закономерности рассудка предполагает такое соотношение и такую настроенность этих способностей, к которым не ведет никакое следование правилам, будь то науки или механического подражания, и может создать лишь природа субъекта.
В соответствии с указанными предпосылками гений есть служащая образцом оригинальность природного дара субъекта в его свободном использовании своих познавательных способностей.
Таким образом, произведение гения (то, что в этом произведении следует приписать гению, а не возможному обучению или школе) – пример не для подражания (ибо тогда было бы утрачено то, что есть в произведении гений и составляет дух творения), а для следования ему другого гения, в котором благодаря этому пробуждается чувство собственной оригинальности, позволяющей ему осуществлять в искусстве свободу от правил таким образом, что искусство само получает новое правило, благодаря чему талант становится образцом. Но поскольку гений – любимец природы и его следует считать редким явлением, то его пример служит для других способных людей школой, т. е. методическим руководством по правилам, в той мере, в какой их удалось извлечь из произведений его духа и из своеобразия этих произведений; для этих людей изящное искусство есть подражание, для которого природа дала правило через посредство гения.
Однако такое подражание становится обезьянничаньем, если ученик повторяет все, даже то уродливое, что гений вынужден был допустить, потому что устранить это было невозможно, не ослабляя идею. Подобное дерзание может быть дозволено только гению; ему разрешена известная смелость выражения и вообще ряд отклонений от общих правил; но этому отнюдь не следует подражать, само по себе оно остается ошибкой, которой надо избегать; она составляет как бы привилегию гения, ибо от робкой осмотрительности пострадала бы неподражаемость его духовного порыва. Другой вид обезьянничанья – манерность; это подражание только своеобразию (оригинальности) как таковому, стремление по возможности отдалиться от подражателей, не обладая при этом талантом, позволяющим служить образцом. Существует два способа (modus) изложения своих мыслей, один из них называется манерой (modus aestheticus), другой – методом (modus logicus); они отличаются друг от друга тем, что первый руководствуется только чувством единства в изложении, второй же следует в этом определенным принципам. Для изящного искусства значим лишь первый способ. Манерным произведение искусства называется лишь в том случае, если художник стремится к тому, чтобы выражение его идеи было особенным, и не сообразуется с соответствием идее. Кичливость (напыщенность) и аффектация, направленные только на то, чтобы отличаться от обычного (не обладая при этом духовностью), подобны поведению человека, о котором говорят, что он сам себя слушает, или того, кто стоит и движется, как на сцене, стараясь привлечь к себе внимание, что всегда выдает дилетанта.









































