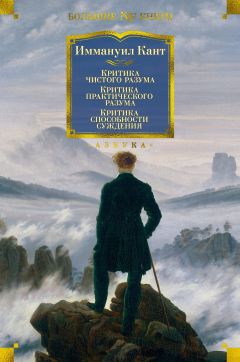
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 66 (всего у книги 82 страниц)
Суждение вкуса не может быть определено доказательствами, как будто оно чисто субъективно. Если кто-либо не находит здание, пейзаж или стихотворение прекрасным, то, во-первых, к внутреннему одобрению его не принудят даже сто голосов, восхваляющих данный предмет. Он может, правда, притвориться, что ему это тоже нравится, чтобы его не обвинили в отсутствии вкуса; может даже усомниться в том, развил ли он надлежащим образом свой вкус знанием достаточного числа предметов известного рода (подобно тому как человек, который полагает, что различает вдали лес, тогда как все остальные видят город, начинает сомневаться в свидетельстве своего зрения). Однако ему ясно, что одобрение других не дает никакого веского доказательства для суждения о красоте; что другие могут действительно видеть и наблюдать за него, и то обстоятельство, что многие видели одинаково, может служить для него, полагавшего, что видит иное, достаточным доказательством для теоретического, тем самым логического суждения; но то, что нечто понравилось другим, никогда не может служить основанием для эстетического суждения. Неблагоприятное для нас суждение других может, правда, заставить нас задуматься о нашем суждении, но никогда не убедит нас в его неправильности. Следовательно, не существует эмпирического доказательства, которое могло бы принудить кого-нибудь принять определенное суждение вкуса.
Во-вторых, еще в меньшей степени может априорное доказательство определить по установленным правилам суждение о красоте. Если кто-либо читает мне свое стихотворение или ведет меня на спектакль, который никак не соответствует моему вкусу, то сколько бы он ни ссылался на Батте, Лессинга или более ранних и знаменитых критиков вкуса и сколько бы ни приводил в доказательство того, что его стихотворение прекрасно, установленные ими правила, пусть даже некоторые места, именно те, которые мне не понравились, согласуются с правилами красоты (так, как они там даны и всеми признаны), я затыкаю уши, отказываюсь выслушивать какие бы то ни было доводы и умствования по этому поводу и скорее допущу, что эти правила критиков неверны или по крайней мере неприменимы для данного случая, чем соглашусь с тем, что мое суждение должно быть определено априорными доказательствами, ибо это суждение вкуса, а не рассудка или разума.
По-видимому, это обстоятельство послужило одной из главных причин того, что способность эстетического суждения получила наименование вкуса. Ведь если кто-либо перечислит мне все ингредиенты блюда и скажет о каждом из них, что он мне обычно приятен, а сверх того с полным основанием отметит полезность такой пищи, – я остаюсь глух ко всем этим доводам, пробую приготовленное блюдо моим языком и моим нёбом и, основываясь на этом (а не на всеобщих принципах), выношу свое суждение.
И действительно, суждение вкуса всегда выносится как единичное суждение об объекте. Рассудок может сделать его всеобщим, сопоставляя его способность нравиться с суждениями других; например, все тюльпаны красивы; но тогда это уже не суждение вкуса, а логическое суждение, которое делает отношение объекта к вкусу предикатом вещей определенного типа; только то суждение, посредством которого я нахожу данный отдельный тюльпан красивым, т. е. нахожу, что мое благоволение к нему общезначимо, есть суждение вкуса. Эта особенность состоит в том, что, хотя мое суждение обладает лишь субъективной значимостью, оно все-таки притязает на одобрение всех субъектов, будто оно – покоящееся на познавательных основаниях объективное суждение, обязательное вследствие возможности его доказать.
Под принципом вкуса следовало бы понимать основоположение, под условие которого можно подвести понятие предмета и затем посредством умозаключения вывести, что предмет прекрасен. Но это совершенно невозможно. Ибо удовольствие я должен ощутить непосредственно от представления о предмете, и вынудить у меня это удовольствие посредством болтовни о доказательствах нельзя. Несмотря на то что, как утверждает Юм, критики способны умствовать более правдоподобно, чем повара, судьба тех и других одинакова. Определяющего основания для своего суждения они могут ждать не от убедительности доказательств, а только от рефлексии субъекта о его собственном состоянии (удовольствия или неудовольствия), отказываясь от всех предписаний и правил.
Однако умствовать критики все-таки могут и должны для того, чтобы исправить и углубить наши суждения вкуса: им надлежит не пытаться выразить в общей приемлемой формуле определяющее основание этого вида эстетических суждений, что невозможно, а исследовать познавательные способности и их функции в этих суждениях и показать на примерах их взаимную субъективную целесообразность, о которой выше было сказано, что ее форма в данном представлении есть красота его предмета. Следовательно, сама критика вкуса лишь субъективна применительно к представлению, посредством которого нам дается объект; а именно, она есть искусство или наука подводить под правила взаимное отношение рассудка и воображения друг к другу в данном представлении (безотносительно к предшествующему ощущению или понятию), тем самым их согласованность или несогласованность, и определять их применительно к их условиям. Критика вкуса есть искусство, если показывает это только на примерах; она – наука, если выводит возможность подобного суждения из природы этих способностей в качестве познавательных способностей вообще. Здесь мы все время имеем дело только с критикой вкуса второго рода, с трансцендентальной критикой вкуса. Ей надлежит развить и обосновать субъективный принцип вкуса как априорный принцип способности суждения. Критика вкуса как искусства пытается лишь применить к суждению о своих предметах физиологические (здесь психологические), т. е. эмпирические правила, в соответствии с которыми вкус в самом деле действует (не задумываясь над их возможностями) и критикует продукты изящного искусства. Критика как наука критикует саму эту способность судить о них.
Суждение вкуса отличается от логического суждения тем, что последнее подводит представление под понятия объекта, первое же вообще не подводит его под понятие, так как в противном случае необходимого всеобщего одобрения можно было бы добиться посредством доказательств. Однако суждение вкуса сходно с логическим суждением в том, что притязает на всеобщность и необходимость, но они не основаны на понятиях объекта, следовательно, чисто субъективны. Поскольку же понятия составляют в суждении его содержание (то, что относится к познанию объекта), а суждение вкуса не может быть определено посредством понятий, оно основывается только на субъективном формальном условии суждения вообще. Субъективное условие всех суждений есть сама способность судить или способность суждения. Способность, примененная к представлению, посредством которого дается предмет, требует согласованности двух способностей представлений, а именно воображения (для созерцания и соединения его многообразия) и рассудка (для понятия как представления о единстве этого соединения). Поскольку здесь в основе суждения не лежит понятие объекта, оно может состоять только в подведении самого воображения (при наличии представления, которым дан объект) под условия, позволяющие рассудку вообще прийти от созерцания к понятиям. Другими словами, поскольку свобода воображения состоит именно в том, что оно схематизирует без понятия, то суждение вкуса должно основываться только на ощущении взаимного оживления воображения в его свободе и рассудка с его закономерностью, следовательно, на чувстве, которое позволяет судить о предмете по целесообразности представления (посредством которого дан предмет) для познавательных способностей в их свободной игре; вкус как объективная способность суждения содержит принцип подведения, но не созерцаний под понятия, а способности созерцаний или изображений (т. е. воображения) под способность давать понятия (т. е. рассудок), в той мере, в какой первое в своей свободе согласуется со второй в ее закономерности.
Служить нам путеводной нитью в выявлении законности этого основания посредством дедукций суждений вкуса могут лишь формальные особенности суждений этого рода, т. е. поскольку рассматривается только их логическая форма.
С восприятием предмета может быть непосредственно связано, образуя познавательное суждение, понятие об объекте вообще, эмпирические предикаты которого содержит восприятие, и таким образом можно получить суждение опыта. В основе его лежат априорные понятия о синтетическом единстве многообразного в созерцании, позволяющие мыслить это многообразие как определение объекта; и эти понятия (категории) требуют дедукции, которая была дана в «Критике чистого разума», благодаря чему и могла быть решена задача: как возможны априорные синтетические познавательные суждения? Следовательно, эта задача касалась априорных принципов чистого рассудка и его теоретических суждений. Однако с восприятием может быть непосредственно связано также чувство удовольствия (или неудовольствия), а также благоволения, которое сопутствует представлению об объекте и служит ему вместо предиката; таким образом может возникнуть эстетическое суждение, которое не есть познавательное суждение. В его основе, если оно не просто суждение ощущения, а суждение формальной рефлексии, приписывающее это благоволение как необходимое каждому, должно лежать нечто в качестве априорного принципа, который может быть субъективным (если бы объективный принцип оказался невозможен для суждений такого рода); но и в качестве такового он нуждается в дедукции, чтобы можно было понять, как эстетическое суждение способно притязать на необходимость. На этом основана задача, которой мы теперь занимаемся: как возможны суждения вкуса? Эта задача касается априорных принципов чистой способности суждения в эстетических суждениях, т. е. в таких, где эта способность суждения не должна (как в теоретических) просто подводить под объективные понятия рассудка и где она не подчинена закону, а сама есть для себя, субъективно, предмет и закон.
Данную задачу можно представить и таким образом: как возможно суждение, которое позволяет нам, исходя только из собственного удовольствия от предмета, независимо от его понятия, априорно, т. е. не дожидаясь одобрения другого, предполагать, что это удовольствие, связанное с представлением о данном объекте, присуще каждому субъекту?
Что суждения вкуса суть синтетические суждения, понять легко, ибо они выходят за пределы понятия и даже созерцания объекта, добавляя к созерцанию в качестве предиката нечто, что вообще даже не есть познание, а именно чувство удовольствия (или неудовольствия). Но то, что они, хотя предикат (связанное с представлением собственное удовольствие) эмпиричен, тем не менее, поскольку они требуют согласия каждого, суть априорные суждения или хотят считаться таковыми, – также содержится уже в самом выражении их притязания; таким образом, задача критики способности суждения входит в общую проблему трансцендентальной философии; как возможны априорные синтетические суждения?
Что представление о предмете непосредственно связано с удовольствием, может быть воспринято только внутренне и дало бы, если хотеть установить только это, лишь эмпирическое суждение. Ибо априорно я могу связать с каким-либо представлением определенное чувство (удовольствие или неудовольствие) только в тех случаях, когда в разуме лежит в основе априорный принцип, определяющий волю; тогда удовольствие (в моральном чувстве) есть следствие определения воли; именно поэтому его нельзя сравнивать с удовольствием в суждении вкуса, ибо оно требует определенного понятия закона; тогда как суждение вкуса должно быть непосредственно связано только с самим актом суждения, до всякого понятия. Все суждения вкуса – суждения единичные, потому что они связывают свой предикат благоволения не с понятием, а с данным единичным эмпирическим представлением.
Следовательно, не удовольствие, а общезначимость этого удовольствия, которое воспринимается в душе как связанное только с суждением о предмете, априорно представляется в суждении вкуса как всеобщее правило для способности суждения, значимое для каждого. Если я утверждаю, что воспринимаю предмет и сужу о нем с удовольствием, я выношу эмпирическое суждение. Но если я называю его прекрасным, т. е. могу считать, что подобное благоволение к нему необходимо должен испытывать каждый, мое суждение априорно.
Если утверждается, что в чистом суждении вкуса благоволение к предмету связано только с суждением о его форме, то это не что иное, как субъективная целесообразность формы для способности суждения, которую мы в душе ощущаем как связанную с представлением о предмете. Поскольку способность суждения в отношении формальных правил суждения – без всякой материи (чувственного ощущения или понятия) – может быть направлена только на субъективные условия применения способности суждения вообще (не ограниченной ни особым типом чувственного восприятия, ни особым рассудочным понятием), следовательно, направлена на то субъективное, которое можно предположить во всех людях (как необходимое для возможности познания вообще), то соответствие представления этим условиям способности суждения можно априорно принять как значимое для каждого. Другими словами, удовольствие или субъективную целесообразность представления для отношения познавательных способностей в суждении о чувственном предмете можно вообще с полным правом считать присущим каждому[232]232
Чтобы иметь право притязать на всеобщее согласие с суждением, вынесенным эстетической способностью суждения и покоящимся только на субъективных основаниях, достаточно допустить: 1) что у всех людей субъективные условия этой способности в том, что касается отношения приведенных в действие познавательных способностей для познания вообще, одинаковы; это должно соответствовать истине, ибо в противном случае люди не могли бы сообщать свои представления и даже свои знания; 2) что суждение принимало во внимание только это отношение (тем самым только формальное условие способности суждения), и поэтому оно есть чистое суждение, т. е. не смешанное ни с понятиями объекта, ни с ощущениями в качестве определяющих оснований. Если в последнем и совершается ошибка, то это относится только к неправильному применению к особому случаю права, которое дает нам закон, что не снимает само это право.
[Закрыть].
Примечание
Эта дедукция так легка потому, что ей нет необходимости обосновывать объективную реальность понятия; ибо красота – не понятие объекта, и суждение вкуса – не познавательное суждение. Суждение вкуса утверждает только, что мы вправе предполагать у всех людей те субъективные условия способности суждения, которые мы обнаруживаем у себя, и что мы правильно подвели данный объект под эти условия. Но хотя последнее связано с неизбежными, не присущими логической способности суждения трудностями (поскольку в ней частный случай подводят под понятие, в эстетической же способности суждения – под лишь ощутимое соотношение согласующихся друг с другом в представлении о форме объекта воображения и рассудка, и подведение может здесь легко оказаться неверным), этим правомерность притязания эстетического суждения на общее согласие не умаляется; ибо это притязание направлено лишь на то, чтобы признать из субъективных оснований правильность принципа значимой для каждого. Что же касается трудности и сомнения в правильности подведения под этот принцип, то это столь же не подвергает сомнению правомерность притязания на значимость эстетического суждения вообще, следовательно, его принципа, как (правда, не так часто и легко возникающее) неверное подведение логической способностью суждения под ее принцип не может поставить под сомнение самый этот принцип, который объективен. Но если бы вопрос гласил: как можно априорно признать, что природа есть совокупность предметов вкуса? – то эта задача относилась бы к телеологии, ибо тогда создание целесообразных форм для нашей способности суждения следовало бы рассматривать как цель природы, существенно связанную с ее понятием. Однако правильность такого предположения вызывает серьезное сомнение, тогда как действительность красот природы открыта для опыта.
Если ощущение в качестве реального в восприятии соотносится с познанием, оно называется чувственным ощущением, и специфическое в его качестве может быть представлено как сообщаемое всем одинаковым образом, если допустить, что каждый обладает таким же чувством, как мы; но предположить это о чувственном ощущении безоговорочно нельзя. Ведь тому, кто лишен чувства обоняния, такого рода ощущение сообщено быть не может; и даже в том случае, если он не лишен этого чувства, нельзя быть вполне уверенным в том, что его ощущение от цветка подобно нашему. Еще более различным следует представлять себе людей в зависимости от того, приятно или неприятно им ощущение одного и того же предмета чувств, и уж совершенно невозможно требовать, чтобы все испытывали удовольствие от одного и того же предмета. Удовольствие такого рода, поскольку оно проникает в душу через чувство, и мы, следовательно, остаемся при этом пассивными, может быть названо удовольствием наслаждения.
Напротив, благоволение к какому-либо поступку, вызванное его моральным характером, есть удовольствие не наслаждения, а самостоятельности и ее соответствия идее назначения человека. Это чувство, называемое нравственным, требует понятий и представляет собой не свободную целесообразность, а целесообразность, основанную на законе; оно может быть вообще сообщено только посредством разума и, чтобы удовольствие было у всех однородным, – посредством очень определенных практических понятий разума.
Удовольствие от возвышенного в природе в качестве удовольствия умствующего созерцания также, правда, притязает на всеобщность, но предполагает уже другое чувство, а именно чувство своего сверхчувственного назначения, которое, каким бы смутным оно ни было, имеет моральную основу. Однако я не вправе предполагать, что другие люди примут это во внимание и ощутят благоволение к суровому величию природы (его поистине трудно ожидать от восприятия явлений природы, вызывающих скорее страх). Тем не менее, исходя из того, что при каждом удобном случае следует принимать во внимание упомянутые моральные задатки, я могу ждать от каждого и этого чувства, но лишь посредством морального закона, который, в свою очередь, основан на понятиях разума.
Напротив, удовольствие от прекрасного не есть удовольствие ни от наслаждения, ни от соответствующей законам деятельности, ни от умствующего созерцания в соответствии с идеями, но есть только удовольствие рефлексии. Не обладая в качестве руководящей нити ни целью, ни основоположением, это удовольствие сопровождает обычное схватывание предмета воображением как способностью созерцания в его соотношении с рассудком в качестве способности давать понятия, причем совершается это посредством такого действия способности суждения, которое она совершает при самом обычном опыте, когда она направлена на то, чтобы воспринять эмпирическое объективное понятие, эстетическое же суждение должно воспринять соответствие представления гармоническому (субъективно-целесообразному) действию обеих познавательных способностей в их свободе, т. е. с удовольствием воспринять состояние, вызванное представлением. Это удовольствие необходимо должно основываться у каждого на одних и тех же условиях, поскольку они – субъективные условия возможности познания вообще и поскольку соотношение этих познавательных способностей, требующееся для вкуса, требуется и для обычного здравого рассудка, наличие которого мы можем предполагать у каждого. Именно поэтому тот, кто выносит суждение вкуса (если только он в этом сознании не заблуждается и не принимает материю за форму, привлекательность за красоту), может считать, что субъективная целесообразность, т. е. его благоволение к объекту, разделяется каждым и что его чувство вообще сообщаемо, причем без опосредствования понятиями.
Способность суждения в тех случаях, когда заметна не столько ее рефлексия, сколько ее результат, часто называют чувством и говорят о чувстве истины, чувстве приличия, справедливости и т. д., хотя известно, или во всяком случае должно быть известным, что эти понятия не могут корениться в чувстве, а тем более что чувство не обладает ни малейшей способностью высказывать общие правила; что представление такого рода об истине, приличии, красоте или справедливости никогда не могло бы прийти нам в голову, если бы мы не способны были возвыситься над чувствами до более высоких познавательных способностей. Обычный человеческий рассудок, который в качестве простого здравого (еще не подвергшегося влиянию культуры) рассудка считают наименьшим, чего можно ожидать от того, кто притязает на наименование человека, обрел сомнительную честь называться общим чувством (sensus communis), причем слово «общий» (gemein) не только в нашем языке, где в этом слове действительно заключена двусмысленность, но и в ряде других понимают в значении vulgare, как то, что встречается повсюду и обладать чем не является ни заслугой, ни преимуществом.
Между тем под sensus communis следует понимать идею общего для всех чувства, т. е. способности суждения, мысленно (априорно) принимающего во внимание способ представления каждого, чтобы таким образом исходить в своем суждении как бы из всеобщего человеческого разума и избежать иллюзии, которая в силу субъективных частных условий, легко принимаемых за объективные, могла бы оказать вредное влияние на суждение. Происходит это благодаря тому, что свое суждение сопоставляют с суждениями других, не столько действительными, сколько возможными, и ставят себя на место другого, абстрагируясь от ограничений, которые случайно могут быть связаны с нашими собственными суждениями; а это, в свою очередь, достигается посредством того, что по возможности опускают то, что в представлении есть материя, т. е. ощущение, и обращают внимание лишь на формальные особенности своего представления или своего созданного представлением состояния. Быть может, эта операция рефлексии покажется слишком изощренной, сложной, чтобы приписывать ее способности, именуемой нами общим чувством; однако она лишь кажется таковой, когда ее выражают в абстрактных формулах; на самом деле нет ничего более естественного, чем абстрагирование от привлекательности или трогательности, когда ищут суждение, которое должно служить общим правилом.
Максимы обычного человеческого рассудка, которые мы здесь приведем, не относятся, правда, в качестве частей критики вкуса к рассматриваемой нами теме, но тем не менее могут пояснить ее основоположения. Эти максимы таковы: 1) мыслить самостоятельно; 2) мыслить, ставя себя на место другого; 3) всегда мыслить в согласии с самим собой. Первая есть максима свободного от предрассудков, вторая – широкого, третья – последовательного мышления. Первая – это максима разума, который никогда не бывает пассивным. Склонность к пассивности разума, тем самым к его гетерономии, называется предрассудком; причем самый большой предрассудок из всех возможных состоит в том, чтобы представить себе природу не подчиняющейся правилам, которые рассудок кладет в ее основу своим существенным законом; это – суеверие. Освобождение от суеверия называется просвещением[233]233
Очень скоро обнаруживается, что просвещение, правда, in thesi легко, но in hypothesi трудно и медленно осуществимо; не быть в своем разуме пассивным, но всегда для самого себя законодательным, очень легко для человека, стремящегося лишь соответствовать своей существенной цели и не пытающегося знать то, что превосходит его рассудок; однако поскольку стремление к такому знанию вряд ли может быть предотвращено и всегда находится достаточное число людей, твердо обещающих удовлетворить эту жажду знания, то сохранить или создать то чисто негативное (которое и составляет собственно просвещение) в образе мышления (особенно в общественном) очень трудно.
[Закрыть], ибо, хотя это наименование применимо и к освобождению от предрассудков вообще, однако в первую очередь (in sensu eminenti) предрассудком должно было бы называться суеверие, поскольку ослепление, которое порождает суеверие, более того, которого оно требует как должного, потребность в руководстве другими, свидетельствует прежде всего о пассивном состоянии разума. Что касается второй максимы мышления, то мы привыкли называть ограниченным (узким в отличие от широкого) мышление тех, чьи таланты недостаточны для значительного использования (преимущественно интенсивного). Однако здесь речь идет не о способности познания, а о характере мышления, которое может целесообразно использовать эту способность; сколь бы малы ни были объем и степень, достигаемые этим природным даром человека, он всегда свидетельствует о широте мышления, если человек способен выйти за пределы субъективных частных условий суждения – тогда как многие как бы скованы ими – и, исходя из общей точки зрения (которую он может определить, только становясь на точку зрения других), рефлектирует о собственном суждении. Третьей максимы, а именно последовательного по своему характеру мышления, достигнуть труднее всего, и достигнуть ее можно только путем соединения двух первых максим, превратившегося в результате частого следования им в навык. Мы можем сказать: первая из этих максим есть максима рассудка, вторая – способности суждения, третья – разума.
Возвращаясь к прерванному этим эпизодом изложению, я утверждаю, что вкус с большим правом может быть назван sensus communis, чем здравый рассудок, а способность эстетического суждения скорее, чем интеллектуальная, – общим чувством[234]234
Вкус можно было бы определить как sensus communis aestheticus (общее эстетическое чувство), а обычный здравый рассудок – как sensus communis logicus (логический здравый смысл).
[Закрыть], если определять словом «чувство» воздействия рефлексии на душу; ибо тогда под чувством понимают чувство удовольствия. Вкус можно было бы даже определить как способность судить о том, чему наше чувство в данном представлении придает всеобщую сообщаемость без опосредствования понятием. Умение людей сообщать друг другу свои мысли также требует соотношения воображения и рассудка, в котором к понятиям добавляются созерцания, а к созерцаниям – понятия, объединяющиеся в познание; но в этом случае соответствие обеих душевных сил основано на законах и подчинено определенным понятиям. Только там, где воображение в своей свободе пробуждает рассудок, а рассудок, не прибегая к понятиям, вводит воображение в правильную игру, представление сообщается не как мысль, а как внутреннее чувство целесообразного состояния души.
Следовательно, вкус есть способность априорно судить о сообщаемости чувств, связанных с данным представлением (без опосредствования понятием).
Если можно было бы предположить, что всеобщая сообщаемость нашего чувства уже сама по себе должна представлять для нас интерес (однако делать такое заключение, исходя только из свойств рефлектирующей способности суждения, мы не вправе), то стало бы понятно, почему чувство в суждении вкуса предполагается у всех и считается едва ли не долгом каждого.









































