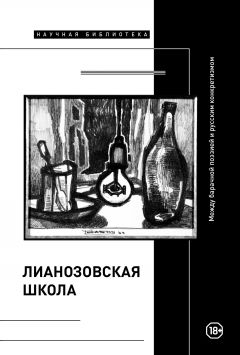
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 43 страниц)
Александр Житенев
КАК СДЕЛАНА ПРОЗА ИГОРЯ ХОЛИНА481481
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00476 А «Эстетическая новизна и литературность как проблемы теории и творческой практики XX века: авангардизм 1920–1930-х гг. и постмодернизм 1970–1980-х гг.».
[Закрыть]
Проза Игоря Холина является не самым популярным филологическим чтением, и работ, ей посвященных, совсем немного. И. Ахметьев, издатель и комментатор И. Холина, указывает, что необходимые ключи к этой прозе пока не найдены: «Итак, есть две книги прозы Холина, и обе, кажется, пока никем толком не прочитаны»482482
См.: https://ayktm.livejournal.com/181606.html.
[Закрыть].
В то же время определенные подходы к ней уже разработаны. И. Кукулин, комментируя малую прозу Холина, отмечает в ней «короткое и внешне бесстрастное описание абсурдного случая или цепочки случаев», при этом именно абсурд дает «преодоление мрака и остановки»; рассуждая о повести «Памятник печке», он характеризует ее как «карнавально-лубочную лирическую хронику» с «домашней, импровизационной основой»483483
Кукулин И. Холин прямосмотрящий // Независимая газета. 2000. 6 авг.
[Закрыть].
В. Кулаков видит в прозе Холина «прямое продолжение и развитие его поэзии», попытку соединить «конкретистскую лапидарность» с «большим языковым простором». Говоря о романе «Кошки Мышки», он характеризует его как «коллаж, принципиально разомкнутую художественную структуру», в которой «сказовая манера сменяется сверхэкспрессивным, надрывным потоком сознания»484484
Кулаков В. О прозе Игоря Холина // Новое литературное обозрение. 1998. № 6. С. 313.
[Закрыть].
И. Гулин в рецензии на «Кошки Мышки» характеризует роман как попытку создания «нового, совершенного в своей беспристрастности метатекста», где стихи выглядят убедительнее и весомее, чем тот «коммунальный декамерон», в который они помещены485485
Гулин И. Игорь Холин «Кошки-мышки» // Коммерсантъ-Weekend. 29 января 2016. http://www.kommersant.ru/doc/2897438.
[Закрыть].
Не претендуя на универсальность обобщений, попробуем и мы наметить несколько подходов к пониманию эстетической природы прозы И. Холина. В качестве точки отсчета хотелось бы взять формулу Я. Сатуновского, относимую к роману «Кошки Мышки»: «Роман держится на темпе закрученной речи, авторские размышления местами выпадают из этого темпа»486486
Сатуновский Ян. Письмо к И. Холину от 21 октября 1967 // Холин И. Кошки Мышки. Вологда: Полиграф-Периодика, 2015. С. 363.
[Закрыть]. Это определение очень точно: в нем акцентируется энергия речевой импровизации, управляющая порождением текста, и многие особенности холинской прозы можно объяснить именно этой энергией.
Во-первых, в романе очень важна стихия рассказывания. Не связность и содержательность нарратива, а непредсказуемость рассказывания как события, разыгрываемого на виду у других. Все персонажи романа «Кошки Мышки» чрезвычайно словоохотливы, у каждого есть своя история, как правило, вмещающая всю жизнь: «Старшина Алексеев. А теперь тихо, я своей жизни историю расскажу» (С. 85)487487
Здесь и далее в тексте цитируется следующее издание: Холин И., 2015. С. 85, – с указанием страниц в скобках после цитаты.
[Закрыть]; «Петр Петрович. Я в главные не лезу, а свою историю мне тоже рассказать хочется» (С. 103). Право на историю кажется каждому из них равноценным праву на существование, и некоторые из героев даже оспаривают намерение Автора лишить их речи: «Настасья Петровна. А меня Автор, как на профсоюзном собрании, лишил слова. Свадьба у нас была замечательная. Напекли целую гору картофельных оладьев» (С. 107).
Персонажи требуют к себе внимания и ревниво относятся к любым попыткам их перебить: «Официантка. Не перебивайте меня. Я утоплюсь в бокале вина. Я еще не закончила говорить» (С. 170); «Молодая девушка. Не перебивайте. Я вас не перебивала, когда вы говорили. Дайте спокойно закончить» (С. 8); «Быстро-быстро начала рассказывать историю жизни, опасаясь, что ее перебьют, не дадут договорить до конца, а может, и прогонят» (С. 75). Герои романа пристрастно оценивают рассказы друг друга и вступают в спор относительно оценок, расходящихся с их собственными: «Маня. Не надо про живых. Они такие мерзкие. Мы с Ириной просим Автора продолжать. Нам интересно» (С. 113); «Настасья Петровна. Очень плохой рассказ. Грубый человек, что он может хорошего рассказать?» (С. 102); «Автор. Скажите на милость, кто будет читать длиннющий и довольно-таки несуразный рассказ старшины?» (С. 102).
В рассказе важна занимательность, сочетающая сенсационность и «жизненность»: «Рика. Заткнись с обезьянкой. Послушай, что я тебе расскажу. Ууу!» (С. 55); «Лилианна. Я тебе еще хохму расскажу, не слыхала?» (С. 57). С этой точки зрения оцениваются все истории в тексте, не исключая рамочной истории, созданной самим Автором: «Петр Петрович. Вам кажется, что вы рассказываете интересные вещи, а нам скучно, мы засыпаем. Не учитываете, что нам тоже хочется поговорить на всякие темы. <…> Меня ваш рассказ про Николая Сергеича не интересует, он проходит мимо моих ушей, я его не воспринимаю» (С. 113).
Мерой «жизненности» оказывается вовсе не достоверность повествования, а несоответствие рассказа образу героя: правдиво то, что сложнее или, наоборот, элементарнее того, кто рассказывает. Характерный пример «усложнения» – рассказ Старшины Алексеева о нищете в деревне и сложностях его социализации в городе, расходящийся с его карикатурным портретом: «Теперь в деревне жизнь вроде бы наладилась, а тогда расцветала сплошная нищета. Сам едва не подох с голода. Жрать не дают, а работать принуждают» (С. 85–86). Пример радикального «упрощения» – «мизогиническая» история Николая Сергеевича, которого в начале текста Молодая девушка аттестует как мужчину, непохожего на всех остальных, и который, по собственному признанию, живет «как все, без романтических бредней», и приводит тому доказательство – язвительный донжуанский список (С. 128).
В истории персонажа важна не только ее «жизненность», но и ее вдохновенность. Не случайно в романе подчеркивается исключительность обстоятельств, располагающих к рассказу: «Иногда, когда Василий Яковлевич в ударе, он любит рассказывать всякие истории, которые с ним лично приключались» (С. 191). Крайним, а потому наиболее показательным случаем вдохновенности/сенсационности оказывается фантасмагория. Нередко истории строятся на многократно усиленном фантастическом допущении:
Красные женщины встали на красные колени. И плакали над красной могилой. Из красных глаз катились красные слезы. Из красной земли на красных могилах вырастали красные цветы. Потом красные женщины тоже вскочили на красных коней и полетели в красное далеко. Красные гривы красных коней и красные волосы красных женщин развевались на красном ветру (С. 157).
Фантасмагоричность рассказа определяет возможность появления персонажа из слова, которое тут же порождает самостоятельную историю. Роман переосмысляет форму «текст в тексте», поскольку не допускает четкого разделения разных текстов. Сравнение, однажды появившись, немедленно вытесняется метаморфозой, которая создает собственный сюжет:
Для чего я вам рассказываю об этом поэте? Поэт, как поэт. Теперь таких поэтов из Питера в Москву привозят тоннами, вагонами. Не поэт, а лошадь. Стихи, если они никуда не годятся, прекрасный корм для лошадей рысистой породы. Морда у этого поэта суще лошадиная. И ржет он, как мерин. Протягивает копыто (С. 159).
«Сбрендивший» Автор произвольно тасует роли персонажей и их характеристики, вызывая обвинения в сумасшествии:
Самоубийца старшина Алексеев по фамилии Наполеонов жил в портфеле у одной благообразной старушки, бывшей работницы Наркомпроса. Возможно, что он жил не в портфеле, а в бельевом баке. Но это не имеет в нашем повествовании ни малейшего значения. Вот что. Он снимал угол у самого себя. Красиво. Бесподобно (С. 120).
Стоит отметить, что знаками такого «сумасшествия» оказываются «заумные» фрагменты, в которых рассказ останавливается: «Автор. Теперь ха-ха-ха! Подверните мне гайку. Разболтались шатуны. Храм хирима хрю. Хря хря! Зимамозу Грипоноза. Минутку. Сейчас продолжу. Самоубийца, бийца, вийца» (С. 119–120).
Во-вторых, в романе единственным предметом обсуждения оказывается словесность и ее возможности. Дело не только в том, что в тексте постоянно цитируются и оцениваются разные тексты, но и в том, что пишущими или способными выносить суждение о литературе являются абсолютно все персонажи, включая тех, у которых сложно даже предположить такие способности.
Простоватый рабочий Петр Петрович оказывается в курсе всех литературных новинок, он упоминает о Твардовском и Солженицыне: «Если хотите знать, к нам на завод приезжают самые лучшие писатели. Недавно читал свое новое произведение «Тяпкин на том свете» товарищ Слабовский» (С. 115); «Недавно я прочитал одну очень интересную книжицу писателя Сложеницына. Он в этой книжке правдиво описывает трудового человека, как он страдал, как переживал свои невзгоды и страдания» (С. 291). Озабоченная, кажется, только связями с мужчинами Настасья Петровна имеет вполне осознанные литературные пристрастия: «Говорили тогда, что эту картину снимали по книжке писателя Кречетова. У него всегда книжки получаются жалостливые. За что я его и люблю» (С. 282). Даже Молодая девушка, у которой от стихов Пушкина голова болит, покупает поэтические книжки: «Самоубийца интересовался у меня, каких я поэтов люблю читать? Я отвечала: больше всего мне нравится поэт Фасадов. Он теперь самый модный поэт» (С. 15).
Стихи пишет Участковый: «Один человек, бывший офицер нашего ведомства старшина Лыков, который вкалывает в гастрономе рабочим, тоже пишет стихи, как и я. Посылает в журналы» (С. 71). Писателем оказывается майор КГБ, визитер богемного вечера в Абельмановке: «Майор г. б. Хочу сказать, что в комитете тоже люди работают. В основном, честные, преданные своему делу <…> Пора с гэбеманией покончить. <…> Да и литературу я знаю не хуже вас. И сам, признаюсь, пописываю» (С. 248). Следователь тоже является ценителем искусств, читателем и близким знакомым Автора. Поэтами оказываются даже случайные посетители ресторана: «Черномазые тоже пишут стихи. Днем на Центральном рынке торгуют редиской, в свободное от работы время шастают по издательствам. Ушлый народ» (С. 171).
Роман наводнен не только писателями, но и критиками. Автор в романе говорит, что против критики «ничего не имеет», при условии, что «она должна быть разумной» (С. 27). Однако это «ответственное дело» в «Кошках Мышках» неизменно превращается в идеологическую спекуляцию, перечеркивающую высказывание. В этом едины Критик Напильников, Один критик, Критик Осетров и Молодой Критик: «Пригласили в дом, сказали, что будут читать интересные, порядочные поэты. А что получилось? Давно не слыхивал подобной чернухи, и вот напоролся на крепчайший маразм выжившего из ума немолодого человека» (С. 214); «Автор окончательно свихнулся. У него поехала крыша» (С. 308).
Автор, который «выступает в романе в нескольких лицах» (С. 33) и раздает свои поэтические тексты разным персонажам, не рассчитывая на возможность понимания, старается предусмотреть все варианты реакций на свое творчество. Но его автокомментарий к стихам откровенно пародиен, что заставляет предположить, что не только предвзятое, но вообще всякое метавысказывание о литературе избыточно: «Если вникнуть внимательней, какой-то намек на что-то есть и в этих двух стихотворениях. Так, во всяком случае, мне кажется» (С. 338); «Это стихотворение, собственно, не требует комментария» (С. 323). Критикам в романе нечего сказать, и Холин последовательно разрушает представление о ценности «другого» как инстанции оценки. Авторитетным «другим» может быть только другой образ самого себя – Волин, Холли, Самоубийца – и рассуждения этого «другого» о том, каким должно быть слово писателя.
Интерес в прозе как определенному типу текста для Холина связан с возможностью постоянного переключения регистров, с переходом от серьезного к смешному, от анекдотического к сказочному, от словесного к спектакулярному, от зримого к непредставимому и т. д.:
Я хочу, чтобы слова в книге сверкали и переливались всеми гранями, всеми звуками и красками. Чтобы от них не несло машинным маслом. Чтобы сюжет из одной стороны в другую перекатывался, как колобок. Чтобы в словах слышался шепот моря, звон ручья. Я хочу, чтобы слова сыпались на меня небесной манной. Вот чего я хочу (С. 60).
«Языковой простор» (В. Кулаков) не предполагает акцента на повествовательности; «коммунальный декамерон» (И. Гулин) – не сущностная, а производная особенность этой прозы. Фабула постоянно вытесняется эффектами рассказывания, и заявленный предмет ускользает из сферы внимания. Об этом прямо сказано уже в авторском предуведомлении: «Отрывки из романа Кошки Мышки. Сам роман уничтожен. <…> Между прочим, после утрат и переделок, сначала исчезли из текста кошки, а затем и от мышек остались незначительные крохи» (С. 5).
В самом деле, и кошка, и мыши упоминаются в тексте дважды – во фрагментах, описывающих быт Волина и, таким образом, становятся его эмблемой: «Дерни эту дверь на себя. Войдя в комнату, не пугайся, будь готов ко всему. Мыши будут сновать» (С. 222); «В комнате ни души. Я и кошка. Два независимых существа. Живем, не мешая друг другу» (С. 196). Однако читателем это значение не улавливается, и в фокус его внимания скорее попадут метафорические расшифровки названия, связанные с бегством и преследованием: противостоянием старшины и «очевидцев», «майора г. б.» и представителей богемы и т. д.
Это «вымывание» предмета из текста можно проследить на двух характерных примерах. Во-первых, точкой отсчета в развертывании сюжета оказывается предполагаемое самоубийство одного из героев, и Автор пытается понять, чем оно было или могло быть вызвано. Однако версии не связываются друг с другом, к разгадке не ведут, и довольно быстро герои перестают проявлять интерес к тому, что должно было стать главной темой их разговора. Во-вторых, в реконструкции истории Самоубийцы, как говорит Автор, поворотное значение имеет скандал с Региной в ресторане «Гагрипш», однако эта история преподносится в романе фрагментарно, и составить достоверное представление о ней не удается. В конце первой трети романа, преодолевая центробежные силы текста, Автор предъявляет «небольшой план событий, которые будут иметь место в тексте», но план этот остается нереализованным.
Изъятие фабулы возмещается выстраиванием бесконечного числа вариантов проживания события и способов рассказа о нем. Так, Николай Сергеич рассказывает о том, как он разрывается по утрам между желанием дойти до туалета и стремлением подольше не выбираться из кровати, и делает огромное число отступлений, растягивая этот эпизод на пятьдесят страниц. При этом и Самоубийца, и Автор настаивают на важности этого фрагмента: «После такой встряски никакая работа в течение всего дня не идет на ум. Думаю, что таким вот образом люди сходят с ума. Начинается с мелочей, с незначительного, а кончается петлей на чердаке или в сортире» (С. 126). Именно здесь читателю становится известно о военном прошлом художника, его сексуальных опытах, круге богемных знакомств и т. д. При этом до туалета он так и не добирается: «При чем же тут троллейбус, если туалет находится в нескольких шагах, а я не могу поднять головы. Если бы я встал, дополз до туалета. Но что-то придавило меня к матрацу. И не дает встать, еб твою мать!» (С. 162).
Таким образом, все важнейшие смыслы романа сведены к событию рассказывания; именно оно оформляет текст и задает его структуру. Эта событийность определяет игру с сюжетом, стилем, модальностями. Тот же принцип положен Холиным и в основу повести «Памятник печке», которую, как и роман «Кошки Мышки», можно интерпретировать как «автотематическую», построенную вокруг образа автора, о котором другие герои постоянно ведут речь.
Только в этом случае в центре внимания не экзистенциальный кризис, а отсутствие официального признания или, вернее, наличие множества эрзацев признания:
Холин. А сколько я имею благодарностей: и от ЦК комсомола, и от Министерства культуры, и, если хотите, от МВД. Чтобы люди чего плохого не подумали, скажу: книжечку написал для пожарников «Как непослушная хрюшка едва не сгорела», а художники Эрик Булатов и Олег Васильев рисунки к ней приложили. И при таких огромных заслугах вы, генералиссимус, называете меня тунеядцем, где справедливость?488488
Холин И. Избранная проза. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 18. Далее указания на источник цитаты приводятся в скобках.
[Закрыть]
Справедливости нет, но фантасмагорическое, как и в «Кошках Мышках», повествование находит ему замену в определении своего места в кругу бытия. В этой связи В. Кулаков справедливо сопоставляет финальную часть текста с «Московскими мифами» Г. Сапгира, имея в виду открытый перечень писательских имен489489
Кулаков В. 1998. С. 313.
[Закрыть]. Осознание законности своего места в этом ряду – замена поэтического «памятника».
Однако правомерным может быть и другое, неожиданное сближение: с поэмой-мистерией И. Бродского (Боцкого в «Кошках Мышках») «Шествие», где каждый из условных героев реализует какую-то поведенческую модель, с которой «неназванный герой» стремится не совпасть. В «Памятнике печке» мотив шествия неоднократно подчеркнут: «Пока Кондрат с Никитой препираются, шествие продолжается» (44); «Шествие, между прочим, продолжается своим чередом» (51); «Замыкает шествие Холин, который несет на своих плечах малолетнюю дочь Арину» (51). Шествие оказывается такой же условной формой скрепления действия, как разбирательство по поводу самоубийства в «Кошках Мышках». И оно тоже связано со стихией устности в разных ее проявлениях.
В. Кулаков, перечисляя, без конкретизации, жанровые векторы прозы Холина, говорит о «поэтике анекдота, байки, притчи, апокрифа». Это наблюдение заслуживает дальнейшего развития. В этой связи представляется уместным вспомнить статью А. Синявского 1978 года об анекдоте как источнике жанрового обновления новейшей литературы. Ее выводы, как представляется, вполне объясняют холинский интерес к возможностям этого жанра:
Мы живем при анекдотах – в эпоху устного народного творчества»; «В закрытом обществе советского типа <…> анекдот не только служит единственной отдушиной, но и является, по сути, моделью существования. Он выполняет роль микрокосма в макрокосме и является своего рода монадой миропорядка490490
Терц А. Анекдот в анекдоте // Синтаксис. 1978. № 1. С. 77, 86.
[Закрыть].
Если обратить внимание на квазижанровые заглавия в циклах коротких рассказов И. Холина, то станет очевидным их тяготение к анекдотическому полюсу, к рассказу о сжатом в точку событии: «Зарисовка», «Происшествие», «Случай», «Анекдот». Структура классического анекдота с его двухчастностью и резким переходом из одного смыслового регистра в другой вполне отвечает интересу Холина к смысловому слому, выражается ли он в языковой игре, абсурдном сюжете или смене модальности. Больше того, это самый очевидный пример такого слома.
Обращение к циклам «Заброшенный угол», «Жесткая жизнь», «Чужие сны» позволяет конкретизировать этот вывод. «Анекдотизм» здесь создается парадоксом непредставимого, но зримого, разрывом в причинно-следственных связях, созданным абсурдным действием или фантастическим допущением: «Иван Поводырев, жэковский водопроводчик, стоял посреди кухни собственной однокомнатной квартиры и взирал на дело рук своих» (С. 71); «Представилась мне такая картина. Геракл – древнегреческий герой и силач – оказался в нашей Первопрестольной, в городе Москве» (С. 73).
Фабула служит заполнению смыслового разрыва, при этом и рационализация повествования, и развертывание фантасмагории оказываются двумя сторонами одной медали. Рациональное желание «улицу выпрямить» в рассказе «Кривая улица» приводит к возрастающим в своей абсурдности действиям: «снесли дом», «снесли сад», «сломали мост», «затопили коровник». Не менее рациональное желание выразить признательность за принесенный в больницу гостинец в рассказе «Курага» вызывает образ произрастающего на могиле фантастического дерева, всех желающих одаряющего кульками с курагой.
Абсурдный герой определяет характерное для короткой прозы Холина внимание к второстепенной детали, которая нередко выносится в заглавие: главное и неглавное оказываются обратимы. Так в рассказе «СКВ» история разрушения гастронома неожиданно завершается мыслью о том, что землю, на которой стоял магазин, можно продать за СКВ (свободно конвертируемую валюту). Так в рассказе «Охламон» история конфузного соблазнения разрешается презрительной репликой, брошенной героиней в адрес горе-любовника.
«Анекдотизм» определяет тяготение короткой прозы к циклизации, в основу которой положен универсальный тип сюжета («Чужие сны»), общеизвестный образ («Кремлевские шутки») или канонический текст («Иерусалимские пересказы»). Книга «Кремлевские шутки» (1994) является хорошей иллюстрацией этого тезиса. «Пародируя вошедшие с началом перестройки в большую моду байки о „вожде всех народов“»491491
Кулаков В. 1998. С. 314.
[Закрыть], она ориентирована на анализ мифопорождающих механизмов общественного сознания. Прокомментируем авторский корпус этого сборника, сохранившийся в архиве Г. Сапгира492492
Холин И. Кремлевские шутки. Архив Института Восточной Европы при Бременском университете, фонд Г. Сапгира. Archiv FSO, F. 146. Далее приводятся цитаты с указанием страниц по тексту машинописи.
[Закрыть].
Холин использует преимущества анекдота как устного жанра, обладающего широким «семантическим диапазоном выражения» и отменяющего стилевые запреты письменной речи493493
Захаревич Е. В. Петербургский анекдот первой трети ХХ века: типология текстов и специфика жанра: автореф. дис. … канд. фил. наук. СПб., 2009. С. 8.
[Закрыть]. Но традиционная структура анекдота здесь меняется: разрыв причинно-следственной цепи может иметь место в любой части сюжета, а не только в финале; установка на комический катарсис, как правило, отсутствует; сжатость не является обязательной характеристикой текста; факультативной оказывается и его двухчастная форма. В этом смысле тексты Холина близки не только к анекдотам, но и к фольклорным байкам.
С байками их сближает больший, чем у анекдота, объем, ироническая интонация и конкретная пространственно-временная адресация. Однако и в этом случае жанровая параллель оказывается недостаточной: в фольклорном рассказе жанрообразующую роль имеют «риторические операторы достоверности текста»494494
Веселова С. И. О степенях достоверности фольклорного рассказа // Фольклор, постфольклор, быт, литература: Сб. статей к 60-летию А. Ф. Белоусова. СПб.: СПбГУКИ, 2006. С. 54.
[Закрыть]. У Холина речь идет не о достоверности сюжета, но лишь о достоверности его мифологической «рамки». Правдоподобность в цикле Холина – переменная величина, охватывающая далеко не все фрагменты текста и не во всех «байках» проявляющая себя в равной мере. Сохранение достоверной фабульной детали здесь служит лишь условием создания гротескного эффекта.
Метасюжет книги – самовозрастание зла, перерастающее любые границы правдоподобности. Холин снова и снова варьирует один и тот же комплекс мотивов, что, учитывая гротескный модус повествования, с каждым разом делает все более и более очевидным вывод об условности любых мотивировок персонажей. Все попытки объяснить зло терпят крах, и это поражение оказывается смысловым центром книги.
Главный герой «Кремлевских шуток» – Сталин – преподнесен в несочетаемом наборе модальностей. И его образ, и все связанные с ним истории принципиально дискретны. Очевидными полюсами развития сюжетов здесь выступают, с одной стороны, стремление сделать образ максимально сниженным и обытовленным, а с другой – попытка поместить его в фантастический контекст. И в том, и в другом случае границы достоверности резко смещены.
Протяженный ряд трансформаций запускает мотив произвола. Он «отменяет» логику действительности, замещая ее сюжетообразующей волей героя-«шутника». «Шутка» в этом контексте – опыт игрового преображения действительности с деструктивной доминантой. «Соль» всех «шуток» героя – переворачивание наизнанку представлений о возможном, нередко с тяжкими для реципиентов последствиями. Герой шутит со страхом окружающих и утверждает себя через насилие – фактически творимое или предвосхищаемое. Характерный пример – «шутка» над Берией в тексте «Желание»:
Боишься ты товарища Сталина. Не меня бойся, а вот этих (кивок в сторону соратников). Знаешь, дурак, что они с тобой сделают после моей смерти? За муде подвесят к потолку! Ладно, дорогой, испугался, в портки наклал? Не унывай, пошутил товарищ Сталин, немножко пошутил! (С. 35).
Демифологизирующее снижение образа кремлевского «шутника» связано в книге с рядом текстов, в которых Сталин вписан в логику советского быта и возрастных проблем разного рода. У него может течь кран, найти замену которому в силу тотального дефицита невозможно («Кран»), он может ходить в «худых поношках» и сетовать на некачественность советских товаров («Дырки»), проблемой для него оказывается поиск квартиры для знакомого («Серьезный вопрос»). С другой стороны, он обрисован как обладающий телесными немощами: его мучают запоры («Настроение») и геморрой («Геморрой»), он занят ловлей блох («Сапоги») и т. п. Главным персонажем, создающим «профанный» образ «шутника», оказывается уборщица тетя Маша. Она становится свидетельницей сомнительных развлечений вождя («Личный механик»), судачит о нем с соседками («Свет в окошке»), ругается с ним из-за нечистоплотности («Ночной горшок»), лечит «шутника» народными средствами («Компресс») и т. п.
Полюс мифологической трансформации образа связан с гротесковым заострением гордыни и жестокости героя. Сталин лучше всех вождей советского государства рубит головы врагов народа («Аплодисменты»), производит отстрел случайных прохожих в Кремле («Меткие выстрелы»), обнаруживает свойства «вурдалака и кровопийцы» («Три отзыва»), оказывается обладателем «хвоста с черной метелкой на конце» («Между строк») и т. п.
Экспансия фантастического захватывает и пространство, в котором находится герой: попытка засеять Красную площадь приводит к тому, что на ней вырастают «болты и гайки» («Гениальное решение»), появление дракона в Кремле приводит к номенклатурным перестановкам («Мудрый вождь») и т. п. Фокусом гротеска оказывается смерть героя: по одной версии, он просто «смылся» («Замкнутое пространство»), по другой – провалился в подземный ход и завис по пути к центру земли («Последняя шутка»), по третьей – умер естественной смертью, но «начал излучать после смерти черный свет» («Горстка пепла»).
Мир холинских «баек» построен на гротескном заострении идеи сакральности власти, в соответствии с которой любое пересечение связанной с ней семантической границы чревато эксцессами. В цикле несколько раз повторяется сюжет, в котором вождь поднимает случайного человека до статуса «миньона», и всякий раз это возвышение сопряжено с травестийным изображением экстаза: «После второго стакана поэт полез к вождю целоваться. И как тот ни отбрыкивался, но все же получил засос-кровосос. <…> „Ты чего кочевряжишься, я же люблю тебя, как отца родного“» («Поцелуй взасос») (С. 30).
Нередки в книге и вариации на обратный сюжет, когда Сталин «мимикрирует», является где-то без предупреждения или инкогнито. В этом случае сила мифа работает против героя: «В конце сороковых годов Иосиф Виссарионович Сталин <…> решил посетить один из военных подмосковных заводов, но был арестован как шпион и провокатор. <…> „Не пизди, какой ты Сталин! Не Сталин, а рябая старая калошина“» («Переходящее знамя») (С. 42).
Эффект смыслового слома нейтрализуется ссылкой на вмешательство сверхъестественных сил. Любое нарушение статус-кво оказывается беспоследственным, и стремление обнаружить его причину обречено на неудачу. Неудачей заканчивается попытка вручить знамя бдительным охранникам, задержавшим Сталина на проходной завода: «Когда <…> государственная комиссия приехала вручать это знамя, то никакого завода там не обнаружила, а увидела молодое поле, засеянное овсами и ячменями» (С. 43). Точно так же заканчивается в книге поиск художника-провокатора, приславшего в Кремль пародийный портрет Сталина: «Когда разгневанный сановник явился на Кузнецкий, то узнал, что там уже две недели проходит выставка народного творчества. И портреты вождя здесь не рисовались» (С. 146). Необъяснимое, таким образом, оказывается квинтэссенцией советского гротеска.
Во многих случаях, разумеется, сделанные наблюдения еще требуют уточнений. Не весь текстовый корпус исследован, не все текстообразующие особенности выявлены. И тем не менее некоторые выводы общего порядка кажется правомерным сделать. Проза И. Холина имеет речевую природу, она всегда соотнесена с событием рассказывания и может исчерпываться этим событием. Ее тяготение к малой форме с элементарной структурой, в основе которой смена семантического регистра, – прямое следствие этой ее особенности. Внимание к фактурному слову и сжатость до фабульной точки не исключает открытости для взаимодействия с разными жанровыми моделями прозаической миниатюры. Важнейшими из них следует считать анекдот и байку, по-разному тематизирующие границы достоверного и вымышленного. Большая форма строится как серия таких рассказов ради рассказывания. Объемность этой формы позволяет подчеркнуть ее условность, переходы с персонажа на уровень автора и т. д. В то же время игра не является здесь системообразующей, напротив, она – следствие более общих закономерностей, связанных с поиском слушателя, в пределе – с его созданием в самом тексте.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































