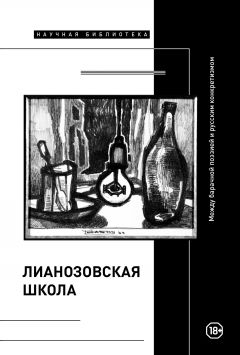
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 43 страниц)
При этом Холин в поэме не дает готового объяснения случившемуся, как, например, в следующем стихотворении:
Если причины самоубийства в этом стихотворении носят конкретный характер (растрата и неизбежность уголовного наказания после ревизии), то в «Небольшой поэме» ревизию жизни персонажа совершает поэт. Никаких событий, непосредственно вынуждающих главного героя поэмы к самоубийству, нет, это иррациональный и одновременно закономерный конец безрадостного и беспросветного существования, лаконично зафиксированный Холиным в почти репортажной форме. Оттенок эпичности, который придает этому индивидуальному и в то же время типичному, «небольшому» барачному сюжету выбранный Холиным и закрепленный в названии стихотворения жанр, выводит «Небольшую поэму» за пределы зарисовок «Жителей барака» и сообщает ей тот характер сверхдетерминации, о котором пишут Делез и Гваттари. Ее сюжет – калька со сверхсюжета всего цикла, делающая для нас видимым то, что остается невидимым для персонажа. Подобно античному Року, однако в сниженном постмодернистском ключе, рождение в барачном мире вынуждает персонажа в конце совершить неизбежное. Но только в контексте всей карты эта единичная калька обнажает подлинную трагичность сюжета и обнаруживает в единичности, вырванной из множества, – множественность.
От реалистической «чернухи» поэтику Холина отличают типичный для постмодерна прием деконструкции, носящий у него сугубо формальный характер на уровне поэтической фактуры, и черная ирония, манифестацией которой становятся последние слова поэмы. Выражение «ноги врозь» отсылает к лексике производственной гимнастики, ведь повеситься на стене сарая, а не, скажем, на потолке, потребовало от героя почти спортивной ловкости555555
Унизительное положение тела самоубийцы отнимает тем самым у читателя возможность отнестись к его смерти как к спасительной трансгрессии в мир иной, что было бы возможно в модернистской парадигме. Это подчеркивает и место смерти: стена сарая – граница барачного мира, которую персонаж не может перейти. В барачных стихах Холина стены, как правило, маркированы идеологическими или бытовыми индексами здесь-бытия: «На стенке барака у входа в барак / Написано: кто прочитает – дурак»; «Коридор. / 18 квартир. / На стенке лозунг: / МИРУ – МИР!»; «На стенке завода приказ, несколько канцелярских фраз…» (Холин И. 1999. С. 21, 27, 32).
[Закрыть]. Тем самым Игорь Холин, найдя свою индивидуальную оптику для отображения хорошо знакомой ему реальности, словно откликается на призыв Делеза и Гваттари: «Не сейте, втыкайте! Не будьте ни единым, ни многим – будьте множественностями! <…> Картографируйте – и никаких фотографий или чертежей» (С. 43–44).
Юрий Орлицкий
ВВЕДЕНИЕ В ПОЭТИКУ САПГИРА
СИСТЕМА ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ И СТРАТЕГИЯ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ556556
Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта Университета Трира при поддержке DFG «Russischsprachige Lyrik in Transition: Poetische Formen des Umgangs mit Grenzen der Gattung, Sprache, Kultur und Gesellschaft zwischen Europa, Asien und Amerika» (FOR 2603). В основу данной статьи легли следующие ранние наши работы, уточненные и дополненные: Орлицкий Ю. Б. Введение в поэтику Сапгира: система противопоставлений и стратегия их преодоления // Великий Генрих. Сапгир и о Сапгире. М.: РГГУ, 2003. С. 159–167; Орлицкий Ю. Б. Иосиф Бродский и Генрих Сапгир: два пути русской поэзии конца ХХ века // Журнал наблюдений. Альманах. Институции и маргиналы: фактор школы в художественных практиках. М.: Минувшее, 2005. С. 270–275; Орлицкий Ю. Б. Холин и Сапгир – пионеры русского авангарда второй половины ХХ века // Russian Literature. 2005. LVII–LXIII. C. 391–404.
[Закрыть]
Генрих Сапгир оставил нам беспрецедентно богатое и разнообразное творческое наследие, до сих опубликованное далеко не в полной мере. Кроме того, постоянно изобретая и совершенствуя новые формы и языки, он создал художественное явление, принципиально трудноописуемое с помощью существующих в науке методик, безусловно опережающее их.
Тем не менее, можно сказать, что все написанное поэтом занимает поистине золотую середину между радикальными формами модернизма, опирающегося на традиции футуризма в различных его изводах, и возобладавшим в отечественном искусстве последних лет постмодернизмом – явлениями, по сути дела, противоположными. Первое предполагает активное и последовательное отрицание всякой традиции, в том числе и модернистской, второе – ее активную, хотя нередко отмеченную знаком отрицания, эксплуатацию.
Для творчества Сапгира характерно снятие этого, казалось бы, принципиально неразрешимого противоречия: с одной стороны, он самым активным образом апеллирует к национальной традиции (причем не к маргинальным ее ответвлениям, а к вполне ортодоксальным фигурам, например, к Пушкину и Фету); с другой стороны, та же самая традиция последовательно трактуется им как своего рода протоавангард.
Именно это факт подсказывает нам наиболее, как представляется, аутентичный способ предварительного, первичного описания художественного мира поэта как совокупности оппозиций, актуализируемых и снимаемых в процессе развертывания как отдельных его текстов и книг, так и творчества в целом. Сначала рассмотрим структурные оппозиции, актуализированные в творчестве поэта.
Важнейшая их них, как нам представляется, это оппозиция «стих – не стих», вообще особенно актуальная для новой литературы и обусловливающая беспрецедентную массированность экспериментов именно на этой границе.
В творчестве Сапгира, в отличие от большинства других современных писателей, эта оппозиция представлена полной парадигмой возможных форм: стих – проза – прозиметрум (объединения стиха и прозы в рамках одного текста) – удетерон (сверхкраткая (однострочная) форма, «достих» и «допроза») – синтетические формы («послестих» и «послепроза»: визуальные, вокальные, перфомансные тексты, не предполагающие адекватной графической фиксации). Уже сам факт этой полноты знаменателен и показывает особый интерес поэта к последовательному испытанию всех возможностей художественной речи и проверке прочности всех границ между стихом и прозой.
Не останавливаясь на подробностях, заметим лишь, что прозиметрия наиболее ярко проявляется в книге «Монологи» и в ряде рассказов; удетерона в точном смысле мы не находим, зато к нему явно тяготеют знаменитая «Война будущего», вербальные компоненты визуальных текстов, минималистские опыты, нулевые (вакуумные) тексты из «Стихов для перстня» и из «Сонетов на рубашках»; синтетические тексты всех видов более или менее плотно рассредоточены по всему корпусу текстов, – т. е. названная парадигма оказывается актуальной для всех периодов творчества Сапгира, практически никогда он не может (и не желает!) укладываться в традиционную бинарную оппозицию «стих – проза».
Точно так же в его малой прозе максимальное «стихоподобие» образуется не только за счет традиционных для этого образования структурных сдвигов в прозаической структуре (уменьшению объемов строф и фраз, выравниванию строф по объему, их версеизации), но и из-за ненормативного для прозы массированного использования стихотворной образности и синтаксиса, эллипсисов и других фигур и т. д.
Таким образом, можно попытаться определить некоторый сквозной сапгировский принцип снятия оппозитивных напряжений – не за счет размывания четкости границ, а за счет дробления полюсных образований и создания широкого многообразия форм.
Эта стратегия успешно реализуется Сапгиром и на оси «эпос – лирика» – прежде всего, благодаря последовательной, начиная с «Голосов», эпизации лирического повествования с помощью насыщения его нарративным элементом, вплоть до поздних «Рассказов в стихах», и не менее последовательной лиризации прозы, особенно малой, завершающейся «лирической эпикой» «Коротких рассказов-93».
Столь же решительно атакует Сапгир и другое фундаментальное для традиционной литературы (и поэзии, и прозы, и драматургии) противопоставление – монологического нарратива и диалогической драматической речи. Здесь он, видимо, идет от аналогичных опытов обэриутов, используя и включение речи персонажей и ремарок в недраматический монолит, и внешне немотивированный переход от нарратива к драматургизированной форме повествования, и травестированное обыгрывание самих компонентов драматургического текста (см. имя персонажа «Пролог» в одноименной драматической сцене; интересные параллели можно найти у безусловного постобэриута В. Эрля).
Следующая оппозиция, которую необходимо назвать, может быть сформулирована как противопоставление принципов художественного максимализма и минимализма. Первый проявляется в характерном для Сапгира «многописании», сказывающемся в беспрецедентном (почти толстовском!!) обилии текстов, а также в своеобразной сериальности ряда поздних книг, построенных на сознательном повторе единого приема на разном словесном материале и в квазитавтологических повторах слов и фраз в разделе «Музыка» «Черновиков Пушкина», а также в книгах «Форма голоса» и «Развитие метода». Второй – в одновременном стремлении к предельному сокращению отдельного текста за счет отказа от его избыточных, по мнению поэта, компонентов. Эта линия прочерчивается от минималистской в традиционном смысле (минимум слов) «Войны будущего» к стихотворным «Детям в саду» с радикальным сокращением слов и прозаическим «Пустотам» со столь же радикальным сокращением объемных фрагментов текста.
На фоне практики радикально настроенного авангарда как снятая оппозиция выглядит в творчестве Сапгира и параллельная (подчас в рамках одного текста) ориентация на визуальное, фонетическое и перфомансное восприятие текста. При этом визуально активными можно считать не только произведения мейл-арта, но и традиционные на первый взгляд стихотворные и прозаические тексты, безусловно, организованные автором графически. Особенно отчетливо видно это в «Псалмах» и «Элегиях», в которых форма и размеры строк и строф, пропуски текста и выделения его, пробелы, тире и т. п. организуют прихотливую эстетически значимую «картинку» текста, принципиально противостоящую «квадратикам» советской катренной силлаботоники, о своей нелюбви к которым Генрих Вениаминович не раз говорил в интервью, устных выступлениях и частных беседах.
Аналогичным образом в начале знаменитого «Парада идиотов» выстраивается отчетливо видимая читателем колонна слов-демонстрантов: в первой строфе первые лексемы всех строк подобны по размерам, звучанию и внешнему виду (Иду – Идут – Идиот (7 раз), а за ними после пробела идут почти одинаковые друг с другом по длине, но явно асимметричные по отношению к начальным слова (2–8-я строки) и группы слов (опоясывающие строфу 1-я и 9-я строки); вторая строфа-колонна еще однообразнее (дисциплинированнее!): все восемь строк в ней начинаются со слов «Идет идиот» и продолжаются примерно одинаковыми по длине (но теперь меньшими константной части) прилагательными. В дальнейшем развертывании текста ключевые лексемы «идут/ет» и «идиот(ы)» также часто оказываются в начальной позиции, но уже нигде больше не образовывают стройных колонн, что связано, очевидно, с тем, что теперь Сапгир акцентирует внимание не на подобии своих персонажей, а на их разнообразии. К тому же графический код тексту уже задан, и он продолжает действовать до самого его конца.
Таким образом, можно говорить и о прямо иллюстративном использовании поэтом визуальной формы стиха. В то время как в ряде «Сонетов на рубашках» функция графики совсем иная – разрушить читательское представление о графической незыблемости консервативной сонетной формы.
С другой стороны, те же «Псалмы» отчетливо ориентированы на фонетическую презентацию, в том числе и на вариативность произнесения. Столь же непредставимы без звуковой формы и «сокращенные» стихи из «Детей в саду» и «Формы голоса». Наконец, в «дыхательных» стихотворениях из книги «Дыхание ангела» (1989) и ряде других, прямо апеллирующих, вслед Фету, к «безмолвному шевелению губ», звуковая форма только описывается автором, ее же реальное исполнение должно реализовываться (вслух или во внутренней речи) самим читателем. Приведем пример из этой, менее других известной книги (обычно Генрих Вениаминович ограничивал знакомство с ней чтением своего хрестоматийного стихотворения «Море в раковине»):
Домовой
(хриплое дыхание)
(мучительный храп)
(детский всхлип)
(резкий выдох) – хук хук хук
(притаился)
(слышно – дышит тихонько)
хук! – (пальцем – там!)
хук хук! – (нет! в другом месте)
(слышно – дышит)
(зашлепал по полу – мягко как ладошками)
1, 2, 3, 4… (шлепки)
1, 2, 3, 4… (шлепки)
1, 2… (шлепки)
1… (вдох – затаился)
(короткий пугающий выдох) – х-ху!
(короткий пугающий выдох) – х-ху!
(кряхтит) – кхе кхе
Х – английское – простой выдох557557
Сапгир Г. Складень. М.: Время, 2008. С. 683. Здесь и далее стихотворения Г. Сапгира будут даваться по этому изданию – с указанием в круглых скобках страницы.
[Закрыть]
Своеобразным синтезом двух названных выше тенденций можно считать поздние «Стихи на неизвестном языке», в которых равно значимы и авторское начертание текста, и его предполагаемое звучание.
Как оппозицию можно трактовать и актуальное, часто обыгрываемое в стихах поэта противостояние своего и чужого слова. «Чужие голоса» зазвучали уже в первой книге поэта, так и названной – «Голоса». Затем поэт нередко начал использовать традиционные речевые маски (наиболее явный случай – «Терцихи Генриха Буфарева») и мистификации, как в «Черновиках Пушкина», где дописывание стихов классика соседствует в одном тексте с прямым обращением к нему. Кроме того, многие тексты Сапгира, созданные в разные периоды, включают цитаты и аллюзии, а иногда и целиком построены на их «развертывании» (например, некоторые сонеты и особенно – «трансформационные» стихи из книги «Развитие метода»).
В прямой связи с названной оппозицией, успешно используемой Сапгиром, находится и мнимое противостояние романтического волюнтаризма поэта-теурга и демонстрируемой в ряде поздних книг стратегии автоматического саморазвертывания текста. В более ранних произведениях – «Псалмах», поэме «Еще не родившимся» и ряде других – аналог этому саморазвертыванию находим в пропусках строк и строф (эквивалентах текста, по Ю. Н. Тынянову558558
Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка // Тынянов Ю. Литературный факт / Вступ. ст., коммент. В. И. Новикова, сост. О. И. Новиковой. М.: Высшая школа, 1993. С. 35–39 и др.
[Закрыть]) и сопутствующих им ремарках, описывающих правила речевого поведения читателя.
На первый взгляд, теургическому пониманию функций поэта должен сопутствовать полный жанровый произвол, каковой мы и обнаруживаем во многих книгах Сапгира: например, там, где он явно выходит за рамки линейного развертывания речи, в синтетические формы. Эту же тенденцию поддерживают и новации в авторских жанрообозначениях – например, «Сонет-статья» или «Терцихи». Однако этот вектор уравновешивается в контексте творчества как целом вполне жанровыми стихотворениями, без труда определяемыми как сатиры, оды, элегии и т. д. Структурированная жанровость обнаруживается и в ряде циклов-книг: «Сонеты», «Элегии», «Псалмы», «Монологи», под обложками которых, правда, мы встречаемся с самыми причудливыми вариациями традиционных жанровых схем и мотивов.
Вообще, жанровые и жанроподобные именования книг («Голоса», «Московские мифы», «Люстихи», «Книга духов», «Терцихи»), организующие их целостность, – отличительная черта творческого мира Сапгира. Для него характерна сквозная концептуальность каждой книги – начиная от заглавия и кончая господством в подавляющем большинстве текстов единого конструктивного приема. На первый взгляд, эта особенность сапгировских книг выглядит как безусловное следование традиции. Однако внутри каждой книги часто возникают вставные иножанровые образования – например, «Жития» в «Московских мифах»; крайне разнородны, в том числе в жанровом и стилистическом отношении, стихи, составившие книгу с явно мистифицирующим читателя названием «Черновики Пушкина». С другой стороны, сквозной для книги прием может импортироваться в другие целостности – как это происходит, например, с «сокращениями» текста или с трансформационными текстами, встречающимися в нескольких книгах.
Без особого труда преодолевает Сапгир господствующий в современной паниронической словесности запрет на пафосность, как правило, четко делящий всех писателей на «архаистов» и «новаторов». Достигается это, как и в разрешении других оппозиций, прежде всего за счет объединения и того, и другого генеральных принципов подхода к действительности и рефлектирующему ее тексту в рамках единого художественного целого – отдельного стихотворения, цикла или книги. Наиболее очевидный пример тут – опять же «Псалмы», где открыто пафосные стихотворения чередуются с откровенно ироническими и игровыми. Позднее это чередование постепенно уходит внутрь текста, создавая его пафосную двунаправленность. И действительно, мало кто назовет Сапгира «ироническим поэтом», однако он – несомненно свой в этой теплой компании (как, впрочем, и во всякой другой).
Возможно, это связано еще с одной характерной особенностью сапгировского мира, которую мы рискнули бы назвать столь же парадоксальным, как и все его творчество, словосочетанием «Жизнетворчество без иллюзий». Эпицентр этого явления – книга «Московские мифы», в которой одна мера обобщенности, общезначимости и сакральности присвоена и античной мифологии, и быту московской богемы. Оба эти мира парадоксально, но вполне органично сходятся в знаменитом «античном» двустишии «Из Катулла»:
С яблоком голубем розами ждал я вчера Афродиту
Пьяная Нинка и чех с польскою водкой пришли (185)
Описанная выше антиномичность творчества Генриха Сапгира не могла не проявиться и в рецепции его творчества. Так, один из главных вопросов, обязательно возникающий перед исследователем – статус детского творчества поэта. Для массового читателя, воспитанного на «Принцессе и людоеде» и «Лошарике», «взрослые» стихи Сапгира воспринимаются чаще всего как дополнение к ним, часто – не вполне обязательное (типа собственного поэтического творчества известных переводчиков); для читателя и почитателя Сапгира взрослого – напротив, как необязательная (а подчас и досадная) ипостась поэта, избравшего средством существования не кочегарку, а писание сценариев и пьес для советского детского театра и кино, выглядит его детское творчество.
Столь же непросто решается и связанный с теми же биографическими реальностями вопрос об официальности/неофициальности поэзии Сапгира – здесь бесспорный, на первый взгляд, статус ставится под некоторое сомнение опять-таки активной и крайне результативной (в отличие от многих единомышленников) работой для юного читателя.
Наконец, описанные выше оппозиции приводят к двоению образа поэта, радикальными модернистами нередко воспринимаемого как чрезмерно робкий новатор, пишущий одновременно вполне традиционные стихи, а традиционалистами – как крайний экспериментатор. Последние, нам кажется, значительно ближе к истине, однако все эти чисто бытовые оценки приводятся здесь только потому, что их корни – в той самой антиномичности творчества поэта, о которой мы говорили выше. Не учитывая ее и не отталкиваясь в каждом конкретном случае от той или иной оппозиции или их комбинации, описать творческий мир поэта или его фрагмент представляется нам невозможным, по крайней мере, на первых порах. Именно поэтому мы решили построить наше «Введение…» как попытку инвентаризации наиболее явных оппозиций, конструирующих, как нам кажется, уникальность творческого космоса крупнейшего современного поэта, не претендуя, разумеется, на полноту и исчерпанность предпринятой попытки.
***
В таком же «пробном» режиме нам представляется очень плодотворной попытка сопоставить художественные миры Сапгира и двух его знаменитых современников: бывшего некоторое время его близким товарищем Иосифа Бродского (не случайно Сапгир ездил к нему в ссылку и даже посвятил этому поэму «Командировка»), с которым они, несмотря на это, принадлежали к абсолютно разным поэтическим школам, и оставшегося ближайшим другом до конца жизни «лианозовца» Игоря Холина, тоже очень во многом не похожего на Сапгира.
Напомним, что в 1977 году в статье об Б. Ахмадулиной «Зачем российские поэты?» Бродский так определяет два основных пути русской поэзии своего времени и, соответственно, две главные стратегии, на которые может ориентироваться современный русский поэт:
Поэзия есть искусство границ, и никто не знает этого лучше, чем русский поэт. Метр, рифма, фольклорная традиция и классическое наследие, сама просодия – решительно злоумышляют против чьей-либо «потребности в песне». Существуют лишь два выхода из этой ситуации: либо предпринять попытку прорваться сквозь барьеры, либо возлюбить их. Второе – выбор более смиренный и, вероятно, неизбежный559559
Бродский И. Зачем российские поэты? / Пер. с англ. В. Куллэ // Звезда. 1997. № 4. С. 4.
[Закрыть].
«Неизбежность» в конце цитаты – определение собственного пути, который правильнее всего можно определить как «неоклассика». Вместе с Бродским «смирение» выбрали многие другие русские поэты, отдавшие решительное предпочтение традиционным формам, их дальнейшему развитию. Оказалось, однако, что и пожелавших «прорваться сквозь барьеры» в русской поэзии на так уж неизбежно мало: в те же годы, что и Бродский, на русском языке творило несколько безусловно крупных русских поэтов, отдающих решительное предпочтение неоавангардистской поэтике: И. Холин, Вс. Некрасов, Г. Айги. Важное место среди них занимал и Генрих Сапгир; вместе с Бродским они сделались в последние годы своего рода символами двух названных выше традиций: неоклассики и неоавангардизма.
При этом, говоря о Бродском, очень важно иметь в виду, что полноценное понимание особенностей его творческой индивидуальности вне поэтического контекста современности практически невозможно. Для всех современников, знакомых с ним, было очевидно, что как поэт он формировался не только под воздействием русской поэзии Серебряного века и – позднее – англоязычной поэзии, но и под непосредственным влиянием поэтов-современников, среди которых было немало ярчайших индивидуальностей. То, что сам Бродский в своих эссе и интервью никого из них не называет по имени, можно считать не более чем попыткой сознательно выстроить линию преемственности именно от Мандельштама, Цветаевой и Ахматовой, с одной стороны, и Донна, Блейка и Одена – с другой, а не от Рейна, Кривулина, Стратановского и Уфлянда, например.
И еще одно важное предварительное замечание. На вечере памяти Сапгира в Москве, в Георгиевском клубе поэт Слава Лён очень точно заметил: «У них в Питере был Бродский, а у нас в Москве – Сапгир». Об этом же писала и Е. Невзглядова, точно определившая главное основу противостояния двух городов и родившихся в них на заре так называемого Бронзового века поэтических школ: петербургской с опорой на традицию и московской, решительно тяготевшей к ее расшатыванию и обновлению560560
Невзглядова Е. Петербургско-ленинградская и московская поэтические школы в русской поэзии 60-х – 70-х годов // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. СПб.: Ж-л «Звезда», 1998. С. 119 и далее.
[Закрыть]. Это противостояние сохранилось и тогда, когда Бродский оказался далеко от своего родного города: оно безусловно коррелирует с трехвековым противостоянием двух российских столиц.
Разумеется, у Бродского и Сапгира – поэтов, в равной степени противостоящих эстетике официальной советской поэзии и отталкивающихся от нее, – было много общих черт. Нам, однако, интереснее и важнее показать не их, а отличия, возможно, несколько заостряя и укрупняя их.
Прежде всего, общий пафос каждого поэта, напрямую связанный с выбранной им социальной ролью. Бродский сознательно выступает как поэт-пророк, провозвестник истины, обличитель мировых пороков, творец тотального мифа. Эта роль подразумевает серьезный тон повествования и большой объем продуцируемых текстов; ирония, без которой не мог в конце ХХ века обойтись ни один крупный поэт, сведена у него к минимуму (кстати, характерно, что Сапгир в своих кратких воспоминаниях о встречах с Бродским отмечает в нем именно эту черту: «Ироничный. И в первую очередь, по отношению к самому себе»561561
Сапгир Г. «Я его все равно увидел» // Цирк «Олимп». Самара, 1996. № 8. С. 15.
[Закрыть]. Как часто случается, поэт увидел в собрате по перу именно свою главную черту: все творчество Сапгира проникнуто иронией и самоиронией, чего нельзя сказать о большинстве произведений Бродского.
Постмодернистская ситуация, в которой объективно оказались оба поэта, сказалась на их творчестве по-разному: Сапгир, с увлечением отдававшийся веяниям времени, охотно «впускал» в свое творчества как самые разнообразные новации (неофутуризм с его заумью, визуальную поэзию, конкретизм, мейл-арт), так и диалог с традицией (древнерусской поэзией и русской классикой XVIII и XIX веков; европейским сонетом); Бродский, напротив, за исключением нескольких стихотворений (например, широко поэтому известного «Представления»), обычно придерживался традиционных форм.
Характерны в этом смысле и ориентиры, которые выбрали для себя (и о которых писали и говорили) оба поэта: для Бродского это – римская античность, русская поэзия Серебряного века и английские метафизики, Рильке, современные американские авторы неоклассической ориентации, для Сапгира – русская виршевая поэзия, Пушкин и его предшественники («Черновики Пушкина»), русская лирика второй половины XIX века («Этюды в манере Огарева и Полонского»), русский футуризм, западный авангард ХХ века.
Не менее отчетливо сказались эти ориентиры и в переводческом репертуаре обоих авторов. На раннем этапе они, как большинство талантливых современников, занимались стихотворным переводов вынужденно, однако затем каждый выбрал свой круг авторов: Бродский – Галчинского, Одена – в общем, достаточно широкий круг европейских и американских авторов; Сапгир, напротив, переводил меньше: еврейские народные песни, О. Дриза, А. Милна, У. Блейка, немецких конкретистов (Ф. Мона и др.) – вообще, в той или иной степени «игровых» авторов.
Названные предпочтения отчетливо сказались и в выборе стихотворной техники. Особенно очевидно противостояние поэтик сказалось в отношении двух поэтов к свободному стиху. Сапгир начинает использовать различные свободные формы достаточно рано: прежде всего, это акцентный рифмованный и чисто рифменный стих, причем с нерегулярной и очень вольной рифмовкой – своего рода аналог фольклорного раешника. В отдельных строфах рифма, даже приблизительная, может теряться – и тогда перед нами оказывается свободный стих («Ау-Ау» из книги 1958–1962 годов «Голоса», «Храпоидолы» и другие стихи из книги 1963 года «Молчание»). В середине 1960-х верлибр используется им в «Псалмах» и поэме-цикле «Люстихи»; в дальнейшем он появляется практически во всех книгах поэта, чередуясь с разными формами рифмованного стиха и прозаическими миниатюрами («Элегии»).
Первые известные нам опыты обращения Бродского к близким верлибру формам тоже относятся к началу 1960-х годов. Прежде всего это «настоящий» свободный стих «Определение поэзии» (1959) (Сочинения И. Бродского. Том 1. 1992. С. 30–31) и пятая часть цикла «Июльское интермеццо» – «Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона» (1961). В это же время поэт создает также несколько стихотворений белым акцентным стихом, в некоторых из них акцентная доминанта теряется, и они сближаются с верлибром. Это стихотворения 1960 года «Памяти Феди Добровольского» и «Лучше всего спалось на Савеловском…».
Напомню начало первого из них:
Мы продолжаем жить.
Мы читаем или пишем стихи.
Мы разглядываем красивых женщин,
улыбающихся миру с обложки
иллюстрированных журналов.
Мы обдумываем своих друзей,
возвращаясь через весь город
в полузамерзшем и дрожащем трамвае:
мы продолжаем жить562562
Бродский И. Памяти Феди Добровольского // 45 параллель. https://45parallel.net/iosif_brodskiy/pamyati_fedi_dobrovolskogo.html
[Закрыть].
В дальнейшем Бродский ежегодно создает по одному-два стихотворения этим специфическим типом стиха, который можно назвать его собственным аналогом верлибра, своего рода упорядоченным свободным стихом563563
См. Орлицкий Ю. Белый акцентный стих Иосифа Бродского // Славянский стих. Вып. IX. М., 2012. С. 117–124).
[Закрыть].
Спустя несколько лет после собственных опытов свободного стиха Бродский во внутренней рецензии на рукопись ленинградского поэта Геннадия Алексеева так охарактеризует этот тип русского стихосложения, с трудом пробивавшийся тогда в официальную русскую литературу:
Не обладая основным формальным признаком поэзии – рифмой, стихи, представленные в данной рукописи, имеют к поэзии самое непосредственное отношение. Это, так сказать, родное дитя без портретного сходства. Стихи эти написаны свободным стихом, так называемым «верлибром», который еще не завоевал себе в русской поэзии ни места, ни популярности, ибо чрезвычайно трудно добиться того, чтобы строки «держались» сами по себе, без поддержки рифм и твердого метра. Это мало кому удавалось, и глаз и ухо русского читателя к «верлибру» пока еще непривычны. Едва ли в русской поэзии «верлибр» может рассчитывать на большое будущее, но право на существование он имеет наравне со всеми другими формами организации речи. Тем более он имеет это право, когда он обладает такой выразительностью, как у Г. Алексеева.
Стихи Г. Алексеева читаются так же свободно, как если бы они были написаны любым рифмованным четырехстопником, но без тех гармонических (и в общем лишних) ассоциаций, которые связаны с любым часто употребляемым метром. Поэтому взгляд наш становится как бы пристальней, и пристальность эта вознаграждается. Главный эффект, производимый верлибром, это – чудо обыденной речи. То есть, это даже не главный эффект, а главное средство. Мы видим доселе не замечавшуюся нами пластику обыденных оборотов, их своеобразную гармоничность и, тем самым, наше отношение к словам, к собственной ежедневной речи становится глубже, точней, чувство речи и сама речь углубляются.
Рифма и метр, обеспечивающие гармонию, с успехом заменены в стихах Г. Алексеева диалектикой сюжета, пафос – точностью слов, эффектные концовки – логикой мысли. <…> Пусть читатель тем или иным образом все-таки приучается к свободному стиху. Никакое знание не бесполезно, а в таких случаях, как с Г. Алексеевым, подобное знание гарантирует радость»564564
В полном объеме отзыв опубликован нами в статье: Долгий сон с продолжением // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 59–60.
[Закрыть].
Однако уже в следующем году в своих «Азиатских максимах» (из записной книжки 1970 года) Бродский запишет:
Классическая поэзия (рифмы, метр etc.) дает возможность формального резерва: других рифм, другого метра. Модернисты с ихним verse libre пленники плоскости. Это как рисунок в профиль, когда не можешь представить себе фас. Отсутствие других средств565565
Бродский И. Азиатские максимы – из записной книжки 1970 года // Бродский И. Полное собрание сочинений. http://iosif-brodskiy.ru/proza-i-esse/aziatskie-maksimy-iz-zapisnoi-knizhki-1970-g.html.
[Закрыть].
Соответственно, в его поэзии последующих десятилетий свободный стих и близкие к нему формы раскованного стиха не встречаются; новый интерес к нерифмованному акцентному стиху появляется только в последние годы жизни поэта. Однако Дж. Смит, подробно характеризуя эти произведения, справедливо пишет: «Назвать их свободным стихом не приходится: даже при наибольшей расшатанности они сохраняют отчетливый ритмический профиль»566566
Смит Дж. Стихосложение последних стихотворений И. Бродского // Смит Дж. Взгляд извне. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 498.
[Закрыть].
О метрике Бродского сегодня пишется много; главная мысль большинства исследователей при этом сводится к тому, что ее характеризует сдержанность и сбалансированность, решительное преобладание того или иного типа стиха на каждом этапе эволюции стиховой системы, безусловное предпочтение тонического стиха перед силлаботоникой, обилие стиховых переносов, усиливающих ощущение стиховой природы речи на фоне определенной монотонности, ритмического однообразия. Таким образом, стих оказывается в лирике Бродского скорее фоном, чем активным элементом образной системы.
Для Сапгира, напротив, форма стиха оказывается максимально активным элементом новаторства, он с равным успехом использует как традиционные метры, так и максимально раскованные композиции.
Подобное же противостояние можно отметить и на уровне строфики: Бродский и здесь отдает решительное предпочтение стертым традицией катренам, в большинстве его стихотворений, отчетливо выделенных графически, в то время как Сапгир предпочитает несистемную рифмовку и белый стих с неопределенными, подвижными границами строфоидов. С другой стороны, он охотно использует традиционные твердые формы, в первую очередь – сонет во всем богатстве вариантов этой канонической формы («Сонеты на рубашках»). При этом из 87 произведений, опубликованных в наиболее полном издании сонетов 1991 года, 54 написаны пятистопным ямбом, что вполне вписывается в сонетный канон. Однако второй по частотности размер сапгировских сонетов оказывается столь же абсолютно невозможным для этого самого канона: 15 произведений написано свободным стихом, т. е. с традиционной точки зрения вообще не могут рассматриваться как сонеты из-за отсутствия рифм, образующих обязательную специфическую для сонета форму рифмовки. Сонетами – а точнее, квазисонетами – их делают только каноническое количество строк и авторская воля, согласно которой они помещены в книгу сонетов рядом и вперемешку с «настоящими» образцами этой формы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































