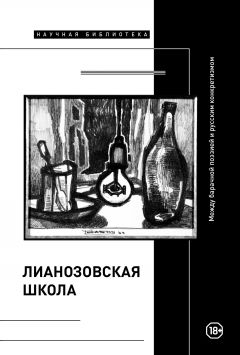
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 43 страниц)
Известное стихотворение Сатуновского о Холокосте подчеркивает это различие. Поэт начинает с перечисления имен жертв, которые говорят о себе от первого лица, но, несмотря на первое лицо, судьбы их типичны, а индивидуальные качества стерты. Перечисление заставляет ожидать обобщающего тропа – «мы», которое возникнет из отдельных «я», однако ничего такого не происходит:
* * *
Я Мойша з Бердычева.
Я Мóйзбер.
А, может быть, Райзман.
Гинцбург, может быть.
Я плюнул в лицо
оккупантским гадинам.
Меня закопали в глину заживо.
Я Вайнберг.
Я Вайнберг из Пятихатки.
Я Вайнберг.
За что меня расстреляли?
Я жид пархатый дерьмом напхатый.
Мне памятник стоит в Роттердаме.
20 сентября 1963 (С. 141).
«Памятник в Роттердаме», которым заканчивается стихотворение, указывает на своего рода смысловой разрыв между жертвами и тем типом искупления, который они в реальности получают: то, что должно наделять жертвы смыслом, становится лишь пустым указанием на сами эти жертвы. Ожидание смысловой развязки не оправдывается здесь так же, как в стихотворении «Я помню ЛЦК…», только вместо буквального повтора строк поэт использует смысловой повтор: памятник, который указывает на жертвы, отсылает к жертвам, которые указывают на памятник.
Локальный метод, который у Слуцкого подчеркивал спаянность событий истории превосходящим их смыслом, здесь работает «вхолостую», оставляя после себя смысловые зияния. Это принципиальное расхождение между двумя поэтами: закономерность «я», рождающегося из случайности исторических обстоятельств у Слуцкого, и случайность «я» Сатуновского, формирующегося из ослышек, неверно прочитанных фраз, курьезных сочетаний звуков и стилистических сломов – из типичности и клишированности советской жизни907907
Ср.: «Сатуновского занимает не момент речи сам по себе, обнаруживающий в изолированном положении те или иные семантические, грамматические или фонические особенности, а происходящая в речи кристаллизация субъекта. Иначе говоря, <…> моностихи Сатуновского отвечают на вопрос о минимальном размере высказывания, передающего определенную эмоцию, душевное движение» (Кузьмин Д. Русский моностих: Очерк истории и теории. М: Новое литературное обозрение, 2016. C. 228).
[Закрыть].
У Слуцкого «я» не функционирует без «мы»: «я» всегда понимается как часть некой коллективности и потенциально включает всех, кто участвует в рождающейся на глазах истории. В этом отношении показательно стихотворение «Госпиталь» (сборник «Память», 1957), где «мы» возникает лишь один раз – в форме глагола лежим, а остальное повествование идет в третьем лице. Тем не менее, уже одно это употребление срабатывает как триггер, включая всех участников ситуации в коллективный проект по созиданию истории:
Сатуновский использует местоимение «мы» существенно реже, чем местоимение «я». Наполнение для такого «мы» у него также иное, чем у Слуцкого: оно обозначает близкий круг – семью, фронтовых товарищей, сообщество неофициальных литераторов. «Мы» – это всегда относительно небольшое количество людей, причем конкретных – тех, которые могут быть названы по именам (часто поэт так и делает):
* * *
Вот он, тот дом,
где мы жили,
и не жи́ли.
спать ложились,
и вставали,
и валялись на диване…
<…>
25 ноября 1963 (С. 148)
* * *
Легкие на помине,
а в поминании нас нет,
в святцах нет,
на афишах, на обложках нет.
Мы – неупоминаемые.
24 апреля 1968 (С. 252)
Такое «мы» уже не может замещать все человечество или хотя бы значительную его часть, как это происходит у Слуцкого. Даже в тех случаях, когда такое обобщение подготавливается развитием стихотворения, поэт отказывается от него. Скажем, в стихотворении ниже речь могла бы идти про весь советский народ или хотя бы про всех советских евреев (так, скорее всего, и написал бы Слуцкий), но в итоге все ограничивается кругом знакомых Сатуновского по Днепропетровску. Мессианические ноты, которые доминируют в «мы» Слуцкого, здесь намеренно приглушены:
<…>
В будущем клубе швейников еще функционировала
хоральная синагога,
но мы не верили в Бога, —
мы, дети Карла Либкнехта и Розы Люксембург,
верили в Красную кавалерию и мировую Революцию.
Дядю Мулле
я знал только по фотокарточке, но дядя Леопольд
погиб еще не скоро…
22 марта 1972(«Приснились…». С. 334)
Таким образом, субъект у Слуцкого и Сатуновского при общности строительного материала, из которого он создается, различается в отношении того, как он существует во времени: целенаправленная история у Слуцкого противостоит не поддающейся обобщению последовательности событий и дней у Сатуновского. Одновременно это и два противоположных ответа на вопрос, как иметь дело с событиями недавнего прошлого, включать их или нет в большую историю. Но также и ответ на вопрос о границах применимости локального метода: у Слуцкого он подчеркивает обобщенность происходящего, включенность любой частной истории в историю глобального «мы», у Сатуновского, напротив, указывает на границу, которую человек не может преодолеть, – границу собственного «я» и его повседневной жизни.
Это различие позволяет снова вернуться к стихотворению «Помню ЛЦК…». То «я», которое в нем присутствует, помнит события прошлого, но не способно сложить их в целенаправленный нарратив. Они остаются несвязанными фактами, сохраненными в памяти, но лишенными дальнейшего развития: вместо ожидаемого после истории «констрика» обобщения следует повтор первой строфы, блокирующий любые попытки вписать конкретную ситуацию в глобальную историю, по крайней мере, в рамках самого этого стихотворения.
В поэтической манере Яна Сатуновского можно выделить черты, роднящие его с конструктивистским движением двадцатых годов. На протяжении всей жизни поэт сохранял интерес к советскому авангарду, воспринимал его ключевые фигуры как основных поэтических собеседников. В то же время он видоизменял конструктивистскую поэтику, приспосабливая ее к военной и послевоенной ситуации. Еще в тридцатые годы, подростком, он был близок к представителям младоконструктивистской группы «Союз приблизительно равных» и на протяжении всей жизни сохранял верность центральному принципу конструктивистской поэтики – локальному методу, требующему обнаруживать поэтические средства непосредственно в той ситуации, о которой повествует стихотворение.
Сатуновский разрабатывал локальный метод применительно к «камерной» лирике, компактной и нередко напоминающей дневниковые записи, и сама эта дневниковость была его ответом на вопрос, поставленный конструктивизмом, – как работать с событиями недавней истории. Параллельно с Сатуновским на этот вопрос пытался ответить другой последователь конструктивизма, Борис Слуцкий. Слуцкий и Сатуновский пошли разными путями: первый развивал историческую программу конструктивизма, опираясь на марксистские представления об историческом процессе, в то время как второй отказывался от исторического мышления в пользу «плоского», монотонного времени, в котором исторические события не поддаются не только обобщению, но даже осмыслению, остаются разрозненными фактами, не связанными никаким общим смыслом.
Георг Витте
«ВМЕСТО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ – ТОЧНАЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТЬ»
«БЕДНАЯ ПОЭЗИЯ» ЯНА САТУНОВСКОГО
Мне говорят: какая бедность словаря!
Да, бедность, бедность;
низость, гнилость бараков;
серость,
сырость смертная;
и вечный страх: а ну как…
да, бедность, так.
(Ян Сатуновский)
Поэтическое и художественное творчество Лианозовской школы, к которой принадлежал Ян Сатуновский, вращается вокруг проблемы бедности как одного из источников ее вдохновения. На первый взгляд это проявляется прежде всего на уровне мотивов и тем. Мотив «бараков» был очевидным образом описан в предыдущих исследованиях и изданиях, посвященных Лианозовской школе как ядру поэтического самиздата. Акцент делался на особом пространственном условии – ситуации «на окраине» метрополии и «на окраине» официальной культуры909909
Ср. Хэнгсен С. Лианозово. Эстетика окраины // Ичин К. И после авангарда – авангард: Сб. статей. Белград, 2017. С. 176–187.
[Закрыть]. Настоящая работа – попытка на примере Сатуновского более детально обсудить поэтологическое измерение «бедности» этой поэзии.
Бедная поэзия?
Идея «бедной» эстетики, или эстетики бедности, тесно связана с радикальным сведением формы к минимуму и отказом от любого чрезмерного украшательства. Однако бедность формы не следует путать с еще одним методом редукции формы, известным нам со времен конструктивизма, а именно с радикально функционалистским понятием формы. «Бедная» эстетика не столько утверждает, что «орнамент есть преступление» (Адольф Лоос)910910
Loos A. Ornament und Verbrechen // Sämtliche Schriften in zwei Bänden. Vol. 1 / Ed. Franz Glück. Wien—München, 1962. S. 276–288.
[Закрыть], сколько ищет простые, «примитивные» орнаменты. Не следует также путать бедность формы с минимализмом в искусстве 1950–1960-х. Конечно, здесь есть некоторые пересечения и совпадения, но есть и важные различия. «Бедность» не идентична элитарной форме аскетизма. Для эстетики бедности важны коннотации, связанные с простым, если не «примитивным», – в минимализме они играют второстепенную роль. Это относится преимущественно к материалам: здесь они бедные, дешевые и грязные, тогда как в минимализме, как правило, задействованы чистые промышленные материалы. В этом отношении в эстетику бедности скорее вписывается Arte Povera (1960–1970-е, крупнейшие представители – Марио Мерц и Яннис Кунеллис), главным образом благодаря «бедным» и повседневным материалам, используемым в инсталляциях (земля, осколки стекла, дерево, мешковина, бечевка, лоскут)911911
Ср. Christov-Bakargiev C. Arte Povera. London, 1999.
[Закрыть]. Яркий пример – «Конус» Марио Мерца (предшественник его позднейших «иглу»).
В описании галереи Тейт к этой работе читаем: «Мерц изначально сделал инсталляцию конуса, внутри которого кастрюля с кипящими бобами. Скульптура скрывала источник энергии, но пар, шедший из ее воронкообразной верхушки, намекал, что внутри что-то есть. Выдержанный в пропорциях человеческого тела, конус также может восприниматься как укрытие для одного человека»912912
https://www.tate.org.uk/art/artworks/merz-cone-t03674.
[Закрыть]. Эта семантика защиты относится и к «Линготто» (1968) – инсталляции, которая состоит из двадцати связок хвороста, образующих единую композицию вдоль стены галереи.
См. также Яннис Кунеллис, «Без названия» (1969). Инсталляция состоит из семи холщовых мешков, неровно стоящих в ряд на полу. Каждый мешок наполнен всякой всячиной: горохом, кукурузой, кофейными зернами, чечевицей, красной и белой фасолью.
Идея теплоты, дома, печки, защиты, домашнего очага возникает здесь как культурно-антропологическая константа. Можно вспомнить об идеале «эллинистической культуры» Осипа Мандельштама или о феноменологии пространства Гастона Башляра, центральная тема которого – архетипическое переживание дома как пространства защиты913913
Ср. Bachelard G. La Poétique de l’ espace. Paris, 1957.
[Закрыть].
В этом контексте весьма интересно, что в ключевом произведении позднемодернистской философии «ущербной жизни» – Minima Moralia Теодора Адорно (опубликовано в 1951 году) – именно разрушение атмосферы дома напрямую связано с разграничением семантического спектра бедности. «Приют для бездомных» – так называется один из текстов из его сборника эссе. Бездомность в нем – диагноз не только для тех, «у кого нет выбора», но и для тех, кто живет «если не в трущобах, то в бунгало, а назавтра, возможно, в летних домиках, трейлерах, машинах или палатках для кемпинга на открытом воздухе»914914
«Sie wohnen wenn nicht in Slums so in Bungalows, die morgen schon Laubenhütten, Trailers, Autors oder Camps, Bleiben unter freiem Himmel sein mögen» (Adorno T. Asyl für Obdachlose // Gesammelte Schriften. Vol. 4: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben / Ed. R. Tiedemann. Frankfurt а. M., 1980. Р. 42).
[Закрыть]. Адорно заключает: «Дома больше нет». Дома «годятся лишь на то, чтобы выбросить их как старые консервные банки»915915
«Diese taugen nur noch dazu, wie alte Konservenbüchsen fortgeworfen zu werden» (Ibid. P. 42).
[Закрыть]. Конечно, есть и тематические (хотя и не только) аспекты, характеризующие эстетику бедности. И аспект бездомности, естественно, играет здесь немаловажную роль.
Нельзя не вспомнить: быть «духовно бедным» – поэтика поведения, субверсивный жест со времен античных киников, затем у ранних христиан («нищие духом», а позднее – юродивые) и вплоть до «добровольного нищего» Ницше. Бедность есть не только отказ от официального или материального богатства, но и – реальный или мнимый – отказ от интеллектуального ума. В «Добровольном нищем» Ницше в саркастичной манере описал связь этих аспектов: нищий – один из персонажей, встреченных Заратустрой во время его прогулок. Он дружит с коровами, и вот его «нагорная проповедь»:
Ибо если не обратимся и не станем подобны коровам, то не войдем в царствие небесное. Особенно же вот чему должны мы у них научиться: умению пережевывать (пер. В. В. Рынкевича)916916
«So wir nicht umkehren und werden wie die Kühe, so kommen wir nicht in das Himmelreich. Wir sollten ihnen nämlich Eins ablernen: das Wiederkäuen» (Nietzsche F. Also sprach Zarathustra. I–IV // Kritische Studienausgabe / Ed. G. Colli, M. Montinari. Vol. 4. Munich, 1988. Р. 334.
[Закрыть].
Причем он бежит не только от богатых, но и от умных людей, а его тотемными животными оказываются не змея и орел (как у Заратустры), а «тупейшие» из зверей. В этой сцене присутствует двойная ирония. Она заключается в том факте, что «добровольный нищий», бывший богатый, пришедший к бедным, не был принят бедными. Он в итоге остался с животными, потому что бедные не хотят иметь ничего общего с теми, кто стал бедным искусственно.
И последнее, но не менее важное: «бедная» эстетика содержит в себе – назовем это так – склонность к фактицизму. Она стремится избежать парадокса репрезентации, но не с помощью антимиметизма, абстракции, самоотсылок и т. д., а наоборот: через «веристический» настрой, который настолько близок, настолько непосредственно присущ вещам, что дилемма условности каким-то образом снимается. Таким образом, речь о близости эстетики бедности документалистским техникам917917
См.: Kukulin I. Documentalist Strategies in Contemporary Russian Poetry // The Russian Review. Vol. 69. № 4. 2010. Р. 585–614.
[Закрыть] и о ее стремлении к правдивому представлению действительности.
Тот факт, что понятие «действительность» само по себе относительно, исторически обусловлено и всегда конструируется в рамках конкретного дискурса, не препятствует этому стремлению. Вам не нужно эссенциалистское понимание «подлинности» (или даже «истины»), чтобы увидеть художественную или литературную референтность в полярном спектре: с одной стороны – непосредственность и «запись фактов», с другой – опосредованность и «репрезентация». В этом спектре документальная эстетика тяготеет к первому из полюсов. В дискурсе авангарда эта проблема обсуждалась как взаимоотношение материала и конструкции. Диалектика между материалом и конструкцией имела два возможных последствия для поэзии: а) поэзия должна была «остранить» повседневный язык, создать из непоэтичного и нехудожественного языкового материала новый, художественный язык; б) она должна была как бы лишить искусственности излишне искусственные фразы канонической поэзии. Таковы две стороны «остранения». Последняя известна как «прозаизация поэзии» – своего рода очищение, или «чистка», поэтического языка, чтобы сделать его более прозаическим. Прозаизация требует двух вещей – точности и краткости. Точного описания, выраженного в лаконичной форме. А. С. Пушкин уже прокомментировал тесную взаимосвязь между этими двумя качествами в заметке 1822 года «О русской прозе»918918
Пушкин А. С. О русской прозе // Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959–1962. Т. 6 (1962): Критика и публицистика. С. 255.
[Закрыть]. Идея в том, что отказ от плеонастического языка позволяет достичь референциальной точности. Хотя может показаться, что речь просто о создании более легкого языка, на деле верно обратное: результат – сложность второго уровня. Поэтический язык, очищенный от его искусственной усложненности, становится не простым, а сложным и волнующим, просто по-другому.
Эта двойная динамика применима к любому виду поэтической эволюции, до или после модернизма, однако выражаться может абсолютно по-разному. В 1960-е годы точность и краткость имеют особую оболочку: ее отличительная черта – бедность. Бедность на разных уровнях – не только на содержательном (то есть социальные мотивы бедных жизненных условий), но и, что даже более важно, на стилистическом уровне (лексическая и синтаксическая скупость) и, наконец, на базовом формальном уровне структуры стиха.
Естественно, нельзя сказать, что эти черты присущи исключительно поэзии Лианозовской школы. «Бедную поэзию» можно найти не только в произведениях Яна Сатуновского, но и у Михаила Соковнина, Бориса Слуцкого, Алексея Хвостенко, Олега Григорьева и многих других, даже если эта бедность звучит у них совсем по-разному. И, конечно, мы находим ее и за пределами России: в ранней лирике Пьера Паоло Пазолини, в «Обеденных стихах» Фрэнка О’Хары (1964), в «тесном дневнике моего сознания» Энн Секстон919919
«Not that it was beautiful, / but that, in the end, there was / a certain sense of order there; / something worth learning / in that narrow diary of my mind / in the commonplaces of the asylum / where the cracked mirror / or my own selfish death / outstared me <…>» (Anne Sexton: For John, Who Begs Me Not to Inquire Further // To Bedlam and Part Way Back (1960). Selected poems of Anne Sexton / Ed. D. W. Middlebrook, D. H. George. Boston; New York, 1988. Р. 26).
[Закрыть], в поэмах Чарльза Буковски 1960-х годов, в баварской и австрийской диалектной поэзии, в «Отъезде налегке» Хильде Домин (1962), в призыве Петера Рюмкорфа исследовать лингвистическое «Volksvermögen» (1967).
Заголовок книги Рюмкорфа вращается между различными семантическими потенциалами этого концепта: фашистским подтекстом «народа» («Volk») и основным понятием простых людей – и в то же время он наносит удар по экономической категории «национального богатства». Лингвистическое исследование «богатства народа» в этом смысле состоит из «экскурсий в литературный андеграунд» (как гласит подзаголовок) – под андеграундом в данном случае понимается не неподцензурная литература, а низкие поэтические жанры вроде детских стишков, считалок, шлягеров и непристойных куплетов.
Что касается немецкой «бедной поэзии» 1960-х, то ранние циклы поэм Рольфа Дитера Бринкманна («Ihr nennt es Sprache», «Le Chant du Monde», «Die Piloten», «Standphotos» и другие) также весьма характерны:
Мы рассмотрели лишь несколько примеров, демонстрирующих огромный международный масштаб этого явления.
Поэзия после верлибра
Поэзия функционирует в меняющихся речевых реалиях, отражающих исторический момент. Речевой контекст для русских поэтов 1950-х и 1960-х состоял из трех частей: а) из крайне официозного языка, типичного для советской риторики; б) из повседневного языка, в некоторых случаях подпадающего под влияние этого официозного языка, а в некоторых – абсолютного свободного от него; в) из поэтического языка, пережившего радикальную прозаизацию благодаря авангарду. Что касается третьего аспекта, в 1960-х верлибр больше не был провокационным художественным жестом – он стал почти элитарным и приобрел канонический статус. Из него уже нельзя было извлечь ничего новаторского, поэтому он и выглядел как тупиковый путь для таких поэтов, как Генрих Сапгир, Игорь Холин, Всеволод Некрасов и Ян Сатуновский. Их интересовало упрощение второго уровня: они стремились заново открыть самую элементарную динамику формирования поэтического языка, например, через примитивное повторение слов, тавтологические рифмы («саморифма»), лаконичные стихотворные формулы, так же легко запоминающиеся, как детские песенки и считалки, парономазии, упрощенные до каламбуров, бесконечные и забавные перечисления921921
Ср.: Morse A. Detki v kletke. The Childlike Aesthetic in Soviet Children’s Literature and Unofficial Poetry. Diss. Harvard University, Cambridge, Mass., 2016. https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/33493521/MORSE-DISSERTATION2016.pdf?sequence=4&isAllowed=y.
[Закрыть]. В случае Сатуновского этот интерес подкреплен тем фактом, что он черпал «резерв» для своих стихов на поэтических задворках начиная с юности. Будучи студентом Днепропетровского университета в 1930-х годах, он писал сатирические стихи для юмористического раздела местной газеты «Звезда»922922
Ср.: Сатуновский Л. Неизвестные страницы творчества Яна Сатуновского (2009). https://imwerden.de/pdf/satunovsky_neizvestnye_stranicy_tvorchestva.pdf.
[Закрыть]. Именно сочетание этих «элементарных» поэтических традиций с влиянием поэтического авангарда 1910-х и 1920-х – то, что определяет интонацию Сатуновского923923
Ср. о биографической и художественной связи Сатуновского с поэзией авангарда: Айги Г. «Летопись всей нашей жизни»: О поэзии Яна Сатуновского // Сатуновский Я. Рубленная проза: Собр. стихотворений / Сост. В. Казака. Мюнхен, 1994. С. 307–308. Ср. также: Иванов В. Становой хребет русского авангарда // Новое литературное обозрение. № 119. 2013. https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/119_nlo_1_2013/article/10322/.
[Закрыть].
Поэзия Лианозовской школы исследует низкую, обыденную повседневную речь, чтобы выловить, «отрыть» в ней «молекулы» речи поэтической: «остался ли там еще кто живой, хоть из междометий», по меткому выражению Всеволода Некрасова924924
Некрасов Вс. Объяснительная записка // Некрасов Вс. Ich lebe ich sehe. Живу и вижу. Двуязычное изд. / Сост. Гюнтер Хирт, Саша Вондерс. Мюнстер, 2017. С. 294. Также в: Журавлева А. / Некрасов Вс. Пакет. М., 1996. С. 300.
[Закрыть]. Язык здесь сам рассматривается как «факт», «найденное слово», безыскусное, простое, не нуждающееся в специальной «поэтизации». Слова просто должны быть услышаны благодаря своей собственной неповторимой интонации и поэтической энергии. Владислав Кулаков утверждает, что поэт, который таким образом установил связь со словами, вовлечен в «эстетическое ненасилие»925925
Кулаков В. Стихи, с которыми можно жить: К 80-летию Яна Сатуновского // Поэзия как факт. М., 1999. С. 131. Ср. также: Кулаков В. Неофициальная поэзия 1950–1980-х гг.: Дисс. http://cheloveknauka.com/neofitsionalnaya-poeziya-1950-1980-h-gg.
[Закрыть]. Михаил Сухотин обращал внимание на подлинную поэтичность самой речи и на зарождение стихов Сатуновского из внутренней речи автора926926
Сухотин М. Внутренняя речь как критерий поэтической формы (о поэзии Яна Сатуновского). http://docplayer.ru/50556662-Vnutrennyaya-rech-kak-kriteriy-poeticheskoy-formy-o-poezii-ya-asatunovskogo.html . Также: http://reading-hall.ru/publication.php?id=719. Сухотин подтверждает, что Сатуновский «пишет не верлибром или регулярным стихом, а речью. Ведь наша речь – не исключительно верлибр. В ней сколько угодно ямбов-хореев, „дактилей-дактилей, так тире так…“ (Вс. Некрасов)».
[Закрыть]. По словам самого Сатуновского, стих «себя сознает» и «себя диктует» в этой речи:
В одном из своих парономастических игровых стихотворений Сатуновский создает слово, которое должно обозначать «де-артификацию» (или уход от искусственности) поэзии. Но само слово превращается в лексический монстр:
За этой языковой игрой стоит концепция поэзии, которая упрощается «искусственно» и делает это, чтобы ее продолжали опознавать как поэзию.
В 1960-е верлибр больше не считается «бедной поэзией». Ирония в том, что с помощью него можно заработать, как утверждает Сатуновский в другом каламбуре:
Параномастическая игра слов «рубленая/рубль» имеет историческую подоплеку: «рубленая проза» – выражение, введенное в обиход литературным критиком Вячеславом Полонским, когда он полемически высказался о так называемой «лесенке» Маяковского: по его словам, эти стихи словно «рубленая проза – два рубля строка». Маяковский ответил на упрек в написании стихов ради финансовой выгоды не менее остро, заявив, что единственный журнал, который платит два рубля за строку, – это как раз «Новый мир» Полонского. Напротив, журнал Маяковского «Леф» мог позволить себе лишь 27 копеек за строку, и даже они уходили на канцелярские расходы930930
Маяковский В. В. Выступления на диспуте «ЛЕФ или блеф?» 23 марта 1927 г. // Новое о Маяковском. Т. 1. М., 1958. С. 47–70 (здесь 60) (Лит. наследство. Т. 65). Ср. примечание составителя в: Сатуновский Я. Стихи и проза к стихам. С. 663.
[Закрыть].
Комедия и поэтологическая программа переплетаются и в других стихах Сатуновского. Они создают, даже можно сказать, режиссируют то, как строки, метафорически говоря, выползают из прозаической речи. Строки, которые на самом деле поэтические «молекулы», из которых «остался ли там еще кто живой» (повторяя уже цитируемое высказывание Некрасова). Как личинки мух.
Вчера я опять написал животрепещущий стих, который оправдал мою жизнь за последние два или три года.
В этом стихотворении присутствует тройная ирония. Во-первых, пламенный, «животрепещущий» стих родился не «только что» или «сегодня», а «вчера»932932
Иван Ахметьев, редактор книги Сатуновского «Стихи и проза к стихам», отмечает, что стихотворение изначально называлось «Животрепещущий стих» и было датировано 6 апреля 1966 года. Преамбула и дата 7 апреля были добавлены на следующий день (Там же. С. 653).
[Закрыть]. Во-вторых, стих ковыляет и хромает, в точности как муха, о которой он говорит. Само стихотворение – это муха, воскресшая из мертвых, муха – Лазарь, воспевание Лазаря. В-третьих, стихотворение, как насекомое, практически приклеено к газете, которая теоретически служит эмблемой «животрепещущего» и «злободневного», но в действительности, будучи советской газетой, воплощает прямо противоположное – она отражает застывшую навеки неизменность, олицетворяя неактуальное. Однако сквозь эти три уровня иронии просвечивает иная актуальность, подлинная, экзистенциальная и поэтическая: наблюдая за мухой так пристально – в течение секунды или даже минуты, – мы испытываем нечто вроде эффекта присутствия. Мы находимся так близко от нее, словно читаем вместе с ней новости или, точнее, не читаем, а прикасаемся к ним.
Все это – жесты самоуничижения. В определенном смысле Сатуновский – «добровольный нищий», о котором говорил Ницше. Он очень образованный автор, живущий в традиции современной поэзии, словно в эхо-камере. Следовательно, здесь и речи нет о выходе на сцену дикаря. Бедность словарного запаса – осознанный поэтологический выбор, чрезвычайно отрефлектированный жест самоотречения. То же демонстрируют и поэтологические эссе Сатуновского. Здесь доминирует жест скромности. Эти эссе не есть поэтическая программа с некими общими декларациями. Это небольшие комментарии, касающиеся лишь одного или нескольких стихотворений, выражающие благодарность отдельным поэтам за некоторые идеи, которые они привнесли. Автор эссе скромно отступает, выдвигая на первый план суть своих текстов.
Остатки
Соблазнительно оценивать «актуальность» этих стихотворений – будь то значимость уловленной бедной жизни или интенсивность самого момента наблюдения – как элемент «эстетики присутствия». Однако я сомневаюсь, что это верно. Так, настоящее в этом стихотворении не связано с идеей полноты, богатства переживаний и чувственного восприятия, что обычно предполагают эмфатические концепты «присутствия» и «абсолютно настоящего». Совсем наоборот: для описания этой бедной жизни характерна скудность. Это не обилие, но скудные остатки. Поэтому не случайно, что Сатуновский заостряет внимание на отдельных вещах. Предметы ежедневного обихода вырастают, будто под увеличительным стеклом, и в стихотворениях других поэтов Лианозовской школы. Напомню для примера «Предметы потребления» или «Вещи прячутся» Евгения Кропивницкого.
Все нужно всем, все нужно всем:
Калоши, брюки нужны всем:
Подвязки, юбки и носки.
Кровати, лампы нужны всем.
И чай, и сахара куски,
И керосин – все нужно всем.
И так до гробовой доски —
Все нужно всем, все нужно всем933933
Кропивницкий Е. Предметы потребления // Кропивницкий Е. Земной уют: Избр. стихи. М., 1989. С. 27. См. также: Günter Hirt, Sascha Wonders (ed.): Lianosowo. Gedichte und Bilder aus Moskau. Wuppertal, 1992. S. 34.
[Закрыть].
То же можно увидеть и в работах Оскара Рабина, в том, как он изображает вещи и предметы, находящиеся в бараках. Сатуновский, вдохновленный этими картинами, обращается к ним в своих стихах.
Рабин: бараки, сараи, казармы.
Два цвета времени:
серый
и желто-фонарный.
Воздух
железным занавесом
бьёт по глазам; по мозгам.
Спутница жизни – селёдка.
Зараза – примус.
Рабин: распивочно и на вынос.
Рабин: Лондон – Москва.
Оскар Рабин, «Три крыши» (1963)
Интересна связь между поэтикой остатков Сатуновского и одним из его поэтологических эссе. Сатуновский исследует стихотворение «Вещи» малоизвестного поэта Мирры Лохвицкой, старшей сестры Тэффи. В стихотворении Лохвицкой есть строфа, которая представляет собой длинное перечисление предметов.
О, вы, картонки, перья, нитки, папки,
Обрезки кружев, ленты, лоскутки,
Крючки, флаконы, пряжки, бусы, тряпки,
Дневной кошмар унынья и тоски <…>935935
Приведено в: Satunovsky J. Odno stikhotvorenie // Satunovsky, Jan: Literaturovedcheskie i kriticheskie stat’i. Munich (imwerden), 2009. S. 87–90 (здесь 88). https://imwerden.de/pdf/satunovsky_statji.pdf.
[Закрыть]
В этом стихотворении все предметы оказываются излишними. Такой итог подводит «герой», который выбросит весь этот хлам.
Именно такая поэтичность простейших вещей, вырастающая из простого, ритмического перечисления «скудных остатков», и привлекает Сатуновского. Причем отметим, что здесь совсем не тот интерес к живой, бунтарской атмосфере, воплощенной в вещах, которую выражали футуристы.
Внимательность к тому, что брошено или остается, отдаленно перекликается с немецкой послевоенной «литературой развалин», которую представляют Гюнтер Айх и другие авторы. Вспомним близкое по теме стихотворение Айха «Опись имущества» (1947), в котором приводится скромный перечень личных вещей пленника войны:
Читая стихотворение Сатуновского, написанное 20 лет спустя, мы видим, что в его основе все тот же круг образов: быт и предметы повседневного существования. Но жизнь в 1960-е годы все же более комфортна, чем в 1940-е, даже притом что в советских условиях комфорт весьма скромен. В «скудные остатки» тем временем вторгаются и совершенно новые образы: это уже не вещи или предметы, это мертвые тела.
Я теперь стал регулярно бриться,
меняю носки
и носовые платки.
Это за границей самоубийства,
а от нас какой-нибудь час
до Москвы.
Ночью падал снег
чернее копоти.
Шёл и шёл до самого утра.
Плотники потрогали —
а он ещё тёпленький.
Плотники на это мастера.
Лирический герой отступает и вытесняется из мира вещей. Он переключает внимание с себя на некоего другого.938938
Это можно понять в более широком контексте дистанцированного лирического героя. Сатуновский дает переживания «дистанцированно, задним числом», «пересказывает их», он предпочитает «создавать ситуацию извне, а не изнутри» (Казарина Т. Три эпохи русского литературного авангарда. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2004. С. 330–331).
[Закрыть]
Причем когда этот человек становится видимым, после апофатической ночи, остаются лишь его останки – в строгом смысле этого слова: он мертвец. Происходит что-то непостижимое. Читатель смутно осознает появление нового протагониста из тьмы, движущегося к своей последней вещи – к гробу.
Бедность образов
Поэзия Сатуновского не «безóбразная», как Роман Якобсон характеризовал одну из форм поэзии грамматики. В поэзии Сатуновского образы есть. Однако эти образы бедные в двух смыслах: во-первых, они в стихах редки, а во-вторых, в них мало эвокативного потенциала. Они «страдают» от явного – и намеренного – недостатка наглядности (evidentia – что в древней риторике означало «приближение происходящего к аудитории, будто все совершается в реальности, прямо перед их глазами» (quasi gerantur, sub aspectum paene subiectio)939939
Cicero. De oratore. Über den Redner. Lateinisch/deutsch. Ed. and trans. Harald Merklin. Stuttgart, 1986. P. 574. Примеч. пер.: Пер. М. В. Ломоносова: «Яркое разъяснение с наглядным показом событий» (Риторика М. В. Ломоносова. СПб.: Нестор-История, 2017. С. 291).
[Закрыть], с целью пробудить их воображение).
Все не «совершается прямо перед их глазами». Образность Сатуновского феноменологически парадоксальна: все, что его образы действительно представляют перед глазами аудитории, – это невидимость. Или, другими словами, это иная видимость, которая просто означает восприятие отсутствия, а не следов присутствия.
Этот аспект образной бедности находит подтверждение и в скептическом отношении Сатуновского к цвету, что порой приводит к почти полной обесцвеченности повествования. Замечу, что это скептическое отношение к цвету становится источником своеобразной поэтической графики. Доминирующие оттенки в цветовой палитре Сатуновского – это черный, белый и серый. Вспомним «серость бараков» в процитированном мной стихотворении о картинах Оскара Рабина. В другом стихотворении читаем:
Здесь идея бедности проявляет себя на нескольких уровнях: 1) на материальном уровне: это идея потерь, представленная опустевшими кладовыми; 2) на уровне восприятия: это отсутствие цвета, что может быть только названо, хотя и не видимо; 3) касаясь мотива художественной деятельности: в экзистенциальном акте записи впечатлений лирического героя остывшими угольями. Это описание записи как таковое, то есть образ создания совершенно невозможного образа, отсылает читателя к печи, как к культурному антропологическому архетипу или, скорее, разрушает этот архетип941941
Вспомним Осипа Мандельштама, который называл очаг или печку символом «эллинистической» культуры, предметы которой проникнуты «телеологическим теплом» (Мандельштам О. О природе слова // Мандельштам О. Соч.: В 2 т. Т. 2 / Сост. С. С. Аверинцева и П. М. Нерлера. М., 1990. С. 172–187 (здесь 182)).
[Закрыть]; 4) касаясь лингвистического аспекта: поэт «обозначает буквами». Буквенное написание, т. е. сосредоточение на материальную составляющую языка, является ядром поэтической практики: поэт учится писать. А тем же временем обнаженный акт письма становится ядром новой записи, феноменологии ab ovo: все сначала, все заново… Происходящее в этом стихотворении – это не авангардное «новое ви́дение», но это «новое обозначение». Это скорее проект основных предпосылок ви́дения.
Перед нами цепочка отрицаний: сначала материальное создание образа оказывается невозможным. Причем это отрицание, однако, в свою очередь, отрицается самим актом интенсивной записи. Но создание образа опять-таки не происходит, так как рисунок, который, как мы ждем, должен возникнуть под рукой, держащей кусочек угля, так и не возникает; вместо рисунка мы видим написанные слова, слова, обозначающие цвета, но не сами цвета. Стихотворение отчетливо дает понять, что нам показывают именно написанные слова, слова как результат акта написания. Слова: черное на белом, уголь на бумаге. Но вновь – не реальность. Все, что видим мы, читатели напечатанного стихотворения, – это лишь машинопись (или напечатанные в книге буквы), являющаяся тенью надписей углем.
Приведем другой любопытный пример графики в стихах Сатуновского:
Здесь отрицание цвета осуществляется иначе. Рассмотрим временные отрезки: пламенеющие цвета осени – в прошлом. Действие стихотворения происходит зимой, а цвета зимы – это черный и белый. Заметим, что опять нет образного зимнего пейзажа, его появление лишь ожидается. Называя предметы, необходимые для изображения этого пейзажа (ватман и тушь), автор просто определяет предпосылки для создания образа943943
Ср.: Witte G. Das Gesicht des Gedichts // Susanne Strätling, Georg Witte (ed.): Die Sichtbarkeit der Schrift. Munich, 2006. Р. 173–190.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































