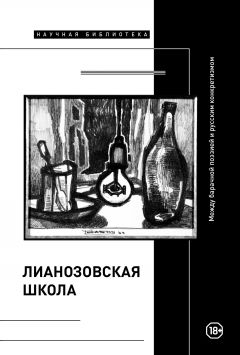
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 43 страниц)
Возможны и более недавние предшественники. Один напрашивающийся пре-текст относится к чисто русской поэтической линии – народно-песенной. Это очень популярная песня В. Захарова (1939) на стихи М. Исаковского (1938) «И кто его знает…»:
На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.
И кто его знает,
Чего он моргает,
Чего он моргает,
Чего он моргает.
Как приду я на гулянье,
Он танцует и поёт,
А простимся у калитки —
Отвернётся и вздохнёт.
И кто его знает,
Чего он вздыхает,
Чего он вздыхает,
Чего он вздыхает.
Я спросила: – Что не весел?
Иль не радует житьё?
– Потерял я, – отвечает —
Сердце бедное своё.
И кто его знает,
Зачем он теряет,
Зачем он теряет,
Зачем он теряет.
А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке – только точки, —
Догадайся, мол, сама.
И кто его знает,
На что намекает,
На что намекает,
На что намекает.
Я разгадывать не стала —
Не надейся и не жди, —
Только сердце почему-то
Сладко таяло в груди.
И кто его знает,
Чего оно тает,
Чего оно тает,
Чего оно тает?!10491049
Исаковский М. В. «И кто его знает…» // Русская советская поэзия / Под ред. Л. П. Кременцова. Л.: Просвещение, 1988 (https://rupoem.ru/isakovskij/na-zakate-xodit.aspx).
[Закрыть]
Тут тоже, при всех отличиях от «Кто лежит там на диване…», бросается в глаза и четко выдержанная вопросительность, и загадочность ответов, и непритязательная глагольная рифмовка (на -Ает), и перетекание ключевых слов из строфы в строфу (в данном случае – из куплета в припев: поморгает – моргает; вздохнет – вздыхает; потерял – теряет; таяло – тает), и даже общая словесная деталь (моргает).
Связь очевидна, очевидна и ее функция – опора нового текста на еще одну ветвь поэтической традиции, тем более ценную, что, в противовес «Лесному царю», она откровенно «низколоба».
2. Но обратимся к рифменной структуре лимоновского текста. В отличие от двух рассмотренных выше его стихотворений, рифмовка здесь с самого начала задается, причем самая примитивная: глагольная, смежная и очень навязчивая – тавтологическая, проникающая внутрь строк и амебейно перетекающая из одной строки в другую. Но постепенно она становится менее точной, затем, в кульминации, полностью исчезает, а в развязке возвращается с новой силой:
желает / желает… моргает / моргает… желает / желает… дремает / дремает / заболевший / заболевший… уставший / уставший… работа / работа… отличным / взял бы… сравнялся… не отличался / не хочет / пеняет / пеняет… моргает / дремает / выступает.
Смысл и оправдание этой довольно правильной кольцевой композиции, построенной из явно бедного/неправильного материала (и с явной опорой на «И кто его знает…»), разумеется, не в ней самой, а в том, как она работает на лирический сюжет стихотворения. Сюжет опять строится на неудачном взаимодействии между «я» и окружающей средой, трактуемом не так трагически, как в «Послании», но и не столь самодовольно, как «Я в мыслях подержу…».
Повествование ведется не от имени обычного лирического/творческого героя, здесь присутствующего в подчеркнуто отдаленном 3-м л. (Кто…? Он… Он…), а с точки зрения двух беседующих на авансцене наблюдателей:
– один как бы представляет читателя и является совершенно сторонним по отношению к герою; он задает наивно-доброжелательные вопросы, постепенно становящиеся агрессивными;
– другой, более далекий от читателя, ближе к загадочному герою и потому отвечает на вопросы практически от его имени, хотя и в 3-м лице.
В трех первых, густо зарифмованных двустишиях разговор ведется на более или менее общей для обоих собеседников смысловой, интонационной и рифменной ноте. Хотя ответы каждый раз носят противительный характер (Ничего он не… Ничего он не… Он совсем не…), все же диалог держится в рамках дружественных – пусть нарастающих – разногласий. Правда, в 3-м двустишии точность рифмовки немного снижается: вопрос замыкается словом заболевший, а ответ – словом уставший, с сохранением полного морфологического сходства, но уже без полного фонетического. Заодно обрывается инерция глагольной рифмовки на -Ает.
В 4-м двустишии наступает четкий поворот. Рифмовка исчезает полностью, вторя эпифаническому сообщению, что причиной усталости героя является не обычная работа (предположительно, физическая и на пользу общества), а сугубо духовная, внутренняя (ср. у Пастернака: С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой). Такая работа, продуцирующая отличие героя от окружающих, естественно противоречит установке на совместность – и, значит, на рифмовку.
В следующем двустишии, опять нерифмованном, сторонний собеседник-вопрошатель, наконец, откровенно предстает голосом истеблишмента (пушкинской толпы, которая бранит художника) и от заботливых вопросов переходит к подаче решительных советов, правда, пока что в сослагательном наклонении: – Ну дак взял бы и сравнялся и не отличался. При этом он налегает на хотя бы внутреннюю рифмовку (сравнялся… отличался), но представитель лирического героя не отвечает ему взаимностью, слов его не подхватывает и все более уверенно отстаивает индивидуалистические ценности героя: Дорожит…быть как все не хочет (ср. мандельштамовское: Не сравнивай: живущий несравним).
В предпоследнем двустишии сторонний собеседник берет еще более высокую, осуждающе-командную ноту (А! Так пусть такая личность на себя пеняет), причем возвращается к исходной «совместной» рифмовке на -Ает. И представитель героя-уникума сдает свои позиции (так сказать, соглашается не оспоривать глупца) – принимает и подхватывает рифмовку, навязываемую ему общественным обвинителем, и три свои заключительные строчки произносит в этом конформистском ключе (пеняет… дремает – моргает – выступает).
Казалось бы, бунт героя-одиночки, типичного лимоновского нарцисса, наконец, подавлен (да и совершался-то он сквозь пелену 3-го лица). Но в последней строке выясняется, что подавлен он не полностью: внутри героя продолжается его сложная работа, как оказывается, нарциссически-словесная (и, по всей вероятности, поэтическая), для описания которой у его представителя находятся новые слова: большие речи речи выступает. Уступка примитивным рифмам и тавтологиям (речи речи) налицо, но под их спудом оригинальная деятельность лирического героя не прекращается. Так важнейший мотив «внутри» (вспомним отчаянное внутри в «Послании» – и императивное дай в придаточном в «Я вас любил…») получает мощное иконическое воплощение: под покровом вернувшейся банальной рифмовки произносятся отличные от принятых большие речи.
А как при этом обстоит дело с грамматической (не)правильностью? Если не считать нарочитой стилистической бедности/сниженности текста, то прямых аграмматизмов в стихотворении немного. В ранних двустишиях, 2-м и 3-м, дважды проскальзывает неграмотная глагольная форма (дремает), а в 3-м и 4-м причастия (заболевший, уставший) четырежды употреблены полуграмотно, «по-деревенски», – в предикативной роли (он совсем не заболевший…). Казалось бы, немного. Но в финале неправильное дремает, в окружении всего репертуара начальных рифм, возвращается, и на этот раз приводит за собой – натурализует – совершенно новое и по-новому, не морфологически, а синтаксически неправильное словосочетание речи выступает, программно венчающее композицию10501050
Эта пуанта, построенная по известному принципу «перемена в последний раз», опирается на аналогичный, хотя и вполне натуральный, сдвиг в конце песенки «И кто его знает…», где при финальном проведении припева подхватываемый из куплета глагол (таяло – тает) в первый и единственный раз описывает действия не героя, а тронутой им, наконец, героини.
Прецедентом по отношению к лимоновскому стихотворению песенка на слова Исаковского является и по линии неграмматичности: в 3-м проведении припева (И кто его знает, Зачем он теряет…) глагол теряет копируется из предыдущего куплета обрывочно, без дополнения (сердце), то есть на грани грамматической нормы, хотя благодаря контексту смысл не страдает.
Перекличка двух текстов не чисто словесна, а вполне функциональна. Песенка последовательно играет с загадочной «неопределенностью/негативностью» всех знаковых действий (ходит возле дома – не скажет ничего – кто его знает – отвернётся и вздохнет – потерял – теряет – загадочных – только точки – догадайся – мол – намекает – разгадывать не стала – почему-то таяло), позитивный любовный смысл которых тем не менее прозрачен благодаря контексту. Стихотворение Лимонова переводит эту элементарную «ухажерскую» игру в высокий план диалога о «загадочном гении». Но в обоих регистрах «неграмматичность» оказывается сильной нотой в иконизации «загадочности».
[Закрыть].
Филипп Коль
АВТОР КАК ТАВТОЛОГ
ЛИМОНОВ И ПРИГОВ
Одна из характерных черт поэзии как «Лианозовской школы», так и московского концептуализма – торжество тавтологии. Во многих работах о поэтах и отдельных произведениях «тавтология» используется как технический термин со снисходительным оттенком, как термин, по-видимому, не требующий дальнейшего определения10511051
В недавней книге о московском концептуализме Джеральда Янечека о тавтологиях говорится одиннадцать раз (про стихи Кропивницкого, Некрасова, Рубинштейна и Пригова, а также в цитатах из исследований Гройса и Эпштейна). Любопытным образом, в индексе терминов лемма «тавтология» отсутствует (см. Janecek G. Everything has already been written. Moscow conceptualist poetry and performance (Studies in Russian literature and theory). Evanston: Northwestern University Press, 2018).
[Закрыть]. В тех редких случаях, когда литературоведение и критика не ограничиваются его упоминанием, тавтология обсуждается либо в контексте философских модусов поэтического говорения10521052
У Аркадия Драгомощенко, к примеру, этот термин стал названием объемного сборника стихотворений (Драгомощенко А. Тавтология: Стихотворения, эссе / Предисл. А. Скидана. Послесл. Е. Павлова. М.: Новое литературное обозрение, 2011), где «тавтология» читается как мутация слова «антология». О поэтическом развертывании виттгенштейновской философии тавтологии см. работы Евгения Павлова: Павлов Е. Шествие форм // Драгомощенко А., 2011. С. 438–445.; Павлов Е. Тавтологии Драгомощенко // Новое литературное обозрение. 2015. № 1 (131). С. 289–301.
[Закрыть], либо как явление обостренной саморефлексивности поэтического субъекта современной поэзии10531053
Евгения Суслова в своей диссертации определяет разные формы «тавтологизации» (основанной на видах тождества, повтора, удвоения, серийности, конкретизации/определения, дейксиса) в разных моделях поэтической субъективности, при этом подробно анализируя тавтологические приемы Всеволода Некрасова и Геннадия Айги (см. Суслова Е. Рефлексивность в языке современной русской поэзии (субъективация и тавтологизация): Дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2013. Благодарю за указание на эту работу Илью Кукулина).
[Закрыть]. Самым ярким представителем тавтологического говорения «Лианозовской школы» несомненно является поэт Всеволод Некрасов. В его стихах тавтология встречается часто и многообразно, особенно в отношении к поэтическому субъекту. В одном ключевом стихотворении 1965 или 1966 года этот субъект странствует по разным рядам тавтологий:
Дейктическая тавтология («я есть я») превращается в парадокс («я <…> и обойдусь / и без меня»); игра в логику превращается в игру во время.
В данной статье нас интересуют не столько тавтологические приемы в области поэтической субъективности, сколько именно авторские стратегии, основанные на тавтологических моделях. Для этого будут рассматриваться два автора, карьеры которых можно связать неким хиазмом: Эдуард Лимонов – от неофициального «лианозовского» поэта к суперзвезде тамиздатской прозы, и Дмитрий Пригов – от суперзвезды андеграундной поэзии к мультимедийному художнику, чья проза мало кем читается. Сопоставление намерено продемонстрировать, как именно в их менее ярких фазах они работают над авторскими стратегиями тавтологии.
Тавтология, парадокс и пара-тавтология
Логически говоря, тавтология («х есть х») представляет собой обратную сторону парадокса («х не х»), той более яркой фигуры постмодерна. Марк Липовецкий в своей книге «Паралогии» (2008) назвал «выставку парадоксов» главной чертой русской постмодернистской литературы. Термин «паралогия» был введен французским философом Жаном-Франсуа Лиотаром как неологизм и сопоставлен «гомологии». Если классическое знание основано на «гомологии» экспертов, знание постмодерна легитимировано «паралогией», которая больше не скрывает парадоксы, ему подлежащие, а выставляет их10551055
Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. VI; Лиотар Ж. Состояние постмодерна / Пер. с франц. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 1998. С. 12.
[Закрыть]. Для стратегии концептуальной поэзии в данном случае можно предлагать альтернативное сочетание: пара-тавтология, то есть саморефлексивная стратегия, при которой остается нечто, превосходящее чистое логическое тождество (исходя из греческого para не в значении противоречия, а пространственного или временного параллелизма).
Такая саморефлексивная стратегия в данной статье будет рассмотрена как авторская поэтика. То есть, она здесь интересна не как предмет стилистики, риторики или как стихотворная категория (например, тавтологическая рифма, тавтологический параллелизм или тавтограмма). Оба слова – автор и тавтология – не только делят греческий корень auto10561056
Др.-греч. tauto = «to auto» = то же самое.
[Закрыть], но и являются двумя видами саморефлексивности. Для Пригова современная идея автора сама собой тавтологична, что становится очевидным, если рассматривать его поэтику поведения. Пригов при этом ссылается на Джозефа Кошута, который основал американский conceptual art на тавтологическом определении искусства, как его ввел Марсель Дюшан:
Произведение искусства есть тавтология потому, что оно есть презентация намерения художника, т. е. он говорит, что конкретное произведение искусства есть искусство, и это значит: оно есть определение <понятия> искусства10571057
Кошут Дж. Искусство после философии (1969) / Пер. с англ. А. А. Курбановского // Искусствознание. 2001. № 1. С. 543–563; 550.
[Закрыть].
В разговоре с Алексеем Парщиковым о самоидентификации современного художника Пригов говорит:
В ретроспективе понятно, что художник являл не новые формы рисования, а новый тип поведения творческой личности в обществе, на которую смотрели и понимали себя в качестве креативных личностей – через это поведение. Сейчас, собственно, креативное поведение полностью стало тавтологичным: я веду <себя> так, потому что так я себя веду10581058
Пригов Д. / Парщиков А. «Мои рассуждения говорят о кризисе нынешнего состояния …» (беседа о «новой антропологии») (1997) // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов / Сост. Е. Добренко. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 15–29, 27.
[Закрыть].
Поведение и номинация – т. е. вести себя как автор или назвать себя автором – минимальные и исчерпывающие для Пригова категории, необходимые для определения современного писателя. Его мысль любопытна тем, что она опровергает представления об авторе как о парадоксальной, неидентичной единице, стремящейся к Другому. Оба варианта – и тавтологическая, и парадоксальная модель автора – в идеальном виде не существуют. Немецкий социолог Никлас Луман в статье 1987 года указывает на этот имманентный недостаток, говоря не об авторском поведении, а о самоописаниях общества:
Возможны две формы рефлексии тождества системы: тавтологическая и парадоксальная. Соответственно, можно сказать: общество есть то, что оно есть; или же: общество есть то, что оно не есть. Обе эти формы не способны к последующим подсоединениям. Они не ведут дальше, но блокируют операции системы10591059
Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества / Пер. с нем. и адапт. А. Ф. Филиппова // Социо-Логос. Вып. 1. М., 1991. С. 194–218. С. 197.
[Закрыть].
Для теоретика социальных систем ни тавтология, ни парадокс не дают продолжать коммуникацию. Оба варианта требуют либо «детавтологизации», либо «депарадоксализации». Луман здесь ссылается на работы историка Рейнхарда Козеллека, который описал темпорализацию и идеологизируемость многих понятий с середины XVIII века. Луман считает, что именно эти два процесса традиционно выполняют задачи снятия тавтологии и парадокса. Однако к концу ХХ века оба варианта решения проблемы тождества стали скучны, поскольку они не дают место новому10601060
Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества. С. 204.
[Закрыть]. Не только в позднесоветском обществе становится очевидно, что изнемогающая идеология более не способна к детавтологизации своих самоописаний. Самый известный пример тавтологического говорения «Лианозовской школы», стихотворение «Свобода есть свобода» Всеволода Некрасова (1964), разыгрывает эту неспособность к детавтологизации обратным путем10611061
Некрасов Вс. 2012. С. 62.
[Закрыть]. Текст показывает игру в темпорализацию: первые его строки повторяют идеологическое утверждение, что «свобода есть» (и в этом состоянии нет истории, нет времени). В последней строке («Свобода есть свобода») это утверждение становится тавтологией, не относящейся к реальности.
В дискурсе постмодерна появляются новые подходы к тавтологии. Одна философская стратегия – различение между хорошими и плохими, вернее – теоретически плодотворными и бесполезными тавтологиями. Жиль Делез в «Различии и повторении» (1968) упоминает два вида ее: «великую, но банальную тавтологию Тождественного» и «прекрасн<ую>, глубок<ую> тавтологи<ю> Различного»10621062
Делез Ж. Различие и повторение / Пер. с франц. Н. Б. Маньковской, Э. П. Юровской. СПб.: Петрополис, 1998. С. 292.
[Закрыть]. Михаил Эпштейн противопоставляет тавтологии новый, спекулятивный термин тавтософия. Согласно одной из статей его «Проективного словаря гуманитарных наук» (2017), качество тавтологии зависит от того, кто говорит:
У одного тавтология прозвучит как механический повтор, а другой произнесет: «люди»… помедлит… помолчит… подумает… окинет мысленным взором весь круг референтов этого понятия… заключит: «это люди» – и прозвучит это как откровение. <…>
Обыватель вообще не трогается с места, а мудрец возвращается к своему халату и креслу из дальних странствий (пусть только мысленных, воображаемых), повидав мир и людей. <…> Он не топчется на месте, а совершает широкий круг, возвращаясь в исходную точку. <…>
Разница тавтологии и тавтософии изоморфна различению аналитических и синтетических суждений у И. Канта. Первые ничего не добавляют к предмету, а просто раскрывают присущие ему свойства <…> Вторые добавляют к предмету то, что в нем самом не содержится, и требуют знания и опыта10631063
Эпштейн М. Проективный словарь гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 94–95.
[Закрыть].
Банальная тавтология может обратиться глубокой тавтософией – но тогда она перестанет быть тавтологией. Возникает тогда еще один вопрос, ведь важно не только, кто высказывает тавтологию, но и как. Это проблема поэзии. И Эпштейн в своей философской прозе имплицитно предлагает поэтический подход: описывая тавтологию как пространство, которое можно обойти пешком, он предлагает альтернативу темпорализации Лумана: опространствливание. Поэтическая теория опространствливания тавтологии четко изложена в начале стихотворения «Изображение Плантации» Аркадия Драгомощенко (2011):
Поэтические практики расширения тавтологии во времени и в пространстве, конечно, существуют и у других авторов. В дальнейшем они будут рассмотрены в ранней поэзии Лимонова и позднем творчестве Пригова.
Лимонов: Тавтология и имя
Лианозовские стихи Эдуарда Лимонова представляют собой особенный вариант тавтологической поэзии. Подобная характеристика может показаться неожиданной, поскольку форма саморефлексивности у Лимонова обычно воспринимается как нарциссизм – что безусловно верно для прозаика и политика Лимонова. Но подобное нарциссическое «я» совершенно отсутствует в его первом опубликованном стихотворении «В совершенно пустом саду» (1967/1968).
В совершенно пустом саду
собирается кто-то есть
собирается кушать старик
из бумажки какое-то кушанье
Половина его жива
(старика половина жива)
а другая совсем мертва
и старик приступает есть
Он засовывает в полость рта
перемалывает десной
что-то вроде бы творога
нечто будто бы творожок10651065
Лимонов Э. Стихотворения. М., 2003. С. 9.
[Закрыть]
Повествовательное содержание этих трех строф можно обобщить одной фразой: Безымянный старик в саду собирается есть творог10661066
См. также анализ стихотворения Александра Жолковского: «Если добавить к ним остальные парные лексемы (кто-то – какое-то – что-то – нечто; жива – мертва; засовывает – перемалывает; полость рта – десной), то окажется, что текст крайне тавтологичен. Однако это не создает комического эффекта (хотя легкая усмешка сопровождает все изложение), а подключается к центральной установке текста – сосредоточению на элементарном, основном, стоящем у грани бытия. Отсюда и та «совершенная пустота», из которой рождается действие» (Жолковский A. «В совершенно пустом саду…» Эдуарда Лимонова // Звезда. 2008. № 4. С. 225–234).
[Закрыть]. То, что кто-то находится в якобы «совершенно пустом саду», конечно, парадокс. Тем более, не только старик, но и наблюдатель должны заполнять этот сад. Но это невозможное пространство и парадокс присутствия постепенно перекрываются тавтологическими описаниями. Старик собирается «кушать <…> какое-то кушанье», «собирается есть» / «приступает есть», и в конце оказывается, что он ест «что-то вроде бы творога / нечто будто бы творожок», как будто наблюдатель осторожно приближается к месту действия. Эти уточнения и приближения создают все новые области семантического несовпадения10671067
О подобной динамике в поэзии Драгомощенко см.: «Драгомощенко, со своей стороны, подходит к исследованиям Витгенштейна с несколько иной позиции. В отличие от американских поэтов его интересует не столько диссоциация слов от их устоявшихся значений или остранение обычного языка. В первую очередь, его интересует остаток, постоянно ускользающие области семантического несовпадения, появляющиеся при тавтологическом наложении значений – иными словами, когда мы „снова и снова говорим одно и то же“» (Павлов Е. 2011. С. 439–440).
[Закрыть].
В стихотворении «Каждому свое» того же времени тавтология бросается в глаза уже в названии. То юридическое начало suum cuique, по которому каждый должен быть судим по своим качествам, у Лимонова определяет отношение между именем и поведением. Действия людей тут определяют их необычные фамилии:
Подобная работа с именами встречается в другом стихотворении цикла, на которое стоит обратить больше внимания. В нем идет речь о любовном треугольнике на тюлево-набивной фабрике:
В один и тот же день двенадцатого декабря
На тюлево-набивную фабрику в переулке
Пришли и начали там работать
Бухгалтер. кассир. машинистка
Фамилия кассира была Чугунов
Фамилия машинистки была Черепкова
Фамилия бухгалтера была Галтер
Они стали меж собой находиться в сложных отношениях
Черепкову плотски любил Чугунов
Галтер тайно любил Черепкову
Был замешан еще ряд лиц
С фабрики тюлево-набивной
Были споры и тайные страхи
Об их тройной судьбе
А кончилось это уходом
Галтера с поста бухгалтера
И он бросился прочь
С фабрики тюлево-набивной10691069
Лимонов Э. 2003. С. 34.
[Закрыть]
В отличие от кассира и машинистки, у которых складываются «плотски<е>» отношения, бухгалтер только «тайно» ее любит. В отличие от их обычных фамилий, его (псевдо-)немецкая фамилия явно образована от профессии бухгалтера, которая дословно означает того, кто «держит книгу». Этот персонаж испытывает три утраты: (1) Еще до начала текста из его фамилии была утеряна «бух»/«книга»; (2) в служебном романе он проигрывает кассиру (человеку, ответственному за денежное движение) и теряет объект желания (женщине за пишущей машиной), и (3) в конечном счете теряет и должность бухгалтера. Но только теперь его ситуация полностью совпадает с ономастическим назначением: он держит имя Галтер, что по-немецки «тот, кто держит». Если применить лозунг «каждому свое» к этому положению, никакого «чужого» больше нет, кроме самоцели имени. В сравнении с первым стихотворением, которое компенсирует изначальный парадокс тавтологиями, здесь получается обратный случай – парадокс любви обернулся тавтологией одиночки. Как аллегория словесности в обществе, фигура бухгалтера Галтера уже в конце 1960-х рисует тонкую карикатуру автора после «ухода с поста» неофициального поэта, т. е. после социализма. Со времен оттепели неофициальная литература определяется тем, что она существует вне книги, что она отброшена назад в догутенбергскую эру10701070
О «догутенбергской ситуации» неофициальной литературы см. Hirt G., Wonders S. Einführung // Hirt G., Wonders S. Präprintium, Moskauer Bücher aus dem Samizdat. Mit Multimedia-CD und zahlreichen Abbildungen. Bremen: Edition Temmen, 1998. S. 8.
[Закрыть]. Если бухгалтер Галтер символически теряет свою «книжность», на аллегорическом уровне неофициальный поэт лишается официальной культуры, с которой он соревнуется, – и теряет ранг неофициального поэта, оставаясь просто автором.
Пригов: Тавтология и пространство
Именно это тавтологическое самоопределение автора интересует позднего Пригова. Как мы уже видели, Пригов рассматривает тавтологию в категориях поведения и самономинации: называть себя автором, вести себя как автор и, следовательно, являться автором. В его поэзии тавтологические и парадоксальные самономинации весьма распространены. В его поздних работах, включая не только поэзию, но и романную прозу, авторское «я» чаще всего выражается в мыслительных и исчислительных операциях. Интересным примером может служить исповедальный текст «Тварь неподсудная» (2004), который должен был войти в трилогию романов, но остался незаконченным. Авторское «я» здесь ставит себе оценки за положительные и отрицательные поступки своего детства. Цифры изначально должны были быть средними показателями из разных оценок по пятибалльной шкале. Но они стремительно начинают превышать эту рамку, и рассказчик самовольно добавляет и вычитает баллы. В конце концов, после 75 страниц текста, получается число 128, что объясняется как дважды «64» – возраст Пригова к моменту написания текста.
Этого пока достаточно. Нет, все-таки недостает еще трех до 128. И я сейчас объясню, почему и что это значит. Я открыл, что есть некая закономерность распределения по возрастным периодам. Ну это понятно. Сумма страданий, получаемая, скажем, за 64 года (как мне почти почти почти уже почти есть уже сейчас)10711071
Пригов Д. А. Собр. соч.: В 5 т. / Ред.-сост. М. Липовецкий. Т. 1: Монады. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 488.
[Закрыть].
Числа таким образом теряют функцию автобиографической оценки. Они лишь передают то, что «я» жил своей жизнью. Чтобы обойти круг такого рода автобиографической тавтологии (оба слова, как было сказано выше, разделяют греческий корень auto), Пригов тратит неимоверные усилия.
Последний цикл стихотворений, который поэт Пригов написал, посвящен теме апокалипсиса. В библиографии машинописных сборников на последнем месте находится текст под названием «Средне-апокалиптический текст» (2007). Идея текста – ряд простых уравнений, на правой стороне которых всегда стоит число апокалиптического зверя, 666.
Стихи очевидно пародируют магию чисел, описание апокалипсиса через «средние» глаза обывателя. Но к концу текст начинает «сонировать» числа, растягивая слова и забывая о математической точности: «И все + все + все + все +все + все + все + все + все + всевсевсевсевсевсевсе – все – все + 3 = шшшшшесссстттьссссотттт шшшшессссттттьддддессссяттт шшшшесссстттть»10731073
Там же.
[Закрыть].
То, что Пригов понимает тавтологию как некий род силового поля, можно вывести из текста «Мощь тавтологии» (1999), единственный его цикл, который ищет поэтологический метаязык тавтологии. «Предуведомление» определяет тавтологию как случаи, «когда нечто не имеет слабой опоры на стороне, но только в самом себе и объясняется только через самое себя и через то объясняет все остальное»10741074
Пригов Д. А. Исчисления и установления. Стратификационные и конвертационные тексты. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 205.
[Закрыть]. Цикл состоит из 19 вопросов и ответов о том, чем отличается одно качество от его противоположности. Процитирую первую и три последних пары:
Данный текст – типичный пример приговского жанра «исчислений и установлений»: вознесение от обыденного к космическому. Вполне соответствуя эпштейновскому определению «тавтософии», текст к описываемому предмету ничего не добавляет. В другом цикле, который относится к ряду работ о национальностях, сила тавтологий действует путем звуковой экспансии высказываний. Название цикла Пригова «Русское» (1997) – Лимонов так назвал первую тамиздатскую книгу стихов 1979 года10761076
Лимонов Э. Русское. Стихотворения. Ann Arbor, Michigan: Ardis, 1979.
[Закрыть]. Пригов в своем тексте фонетически разыгрывает мнимое определение «русского».
Нуууу руууускооое онооо труууудно уууловиииимоооое
Нууууу раааазв чтоооо:
Бдыххх, бдыххх, бдыххх-бдыххх-бдыхххх
Бдыххххх
Бдыххххх
Но онооооо руссскооое ууууловииимо
Не потомууууу чтооооо оноооооо
Бдыхххх, бдыххххх, бдыхххх-бдыххх-бдыххх
Бдыхххх
Бдыхххх
<…>10771077
Пригов Д. А. Собр. соч.: В 5 т. / Ред-сост. М. Липовецкий, Ж. Галиева. Т. 4: Места. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 390.
[Закрыть]
Смысловой материал целого стихотворения занимает всего десять строк: «Ну, русское оно трудно уловимое / Но оно, русское, уловимо / Не потому что оно / Но потому что оно этим самым / Выражает нечто такое / Что остается после вычленения / Неуловимое и никаким разумом / Неуловимое и неузнаваемое / Именно это самое / Но совсем совсем другое». До монструозности фонетически расширяется замечание, что русское одновременно «это самое» и «совсем другое». Текст таким образом осуществляет тот отказ от «детавтологизации» и «депарадоксализации», о которых пишет Луман. Из этого отказа, естественно, выходит новый парадокс, который в данном стихотворении переносится решительно в историческое измерение: графически-фонетическое растягивание слов находит свой аналог на топографическом или же геополитическом уровне, где общество описывает «русское» либо тавтологическим, либо парадоксальным путем.
Если вместо заключения сопоставить «Русское» Лимонова и Пригова, то можно подытожить, что эти одноименные произведения не могли бы быть более разными: Лимонов задним числом так обозначил стихотворения, относящиеся к его «русскому», «лианозовскому» периоду. Пригов, в свою очередь, в своем позднем тексте разворачивает банальное рассуждение о том, что может быть «русское» как таковое, в звуковую композицию. Оба автора демонстрируют банальную тавтологичность метафизического качества, применяя свойственные им «тавтософские» стратегии, причем в совершенно разных этапах творческой биографии. Что касается связи тавтологии с функцией поэтического языка, то эти стратегии фундаментально различаются: если тавтологии Лимонова возвращают слову его конкретность, Пригов подрывает (тавто)логические конструкции, выводящие предмет из него самого. Приведенное здесь сопоставление не имело собой целью объявить «тавтологами» писателей, чье творчество более чем насыщено парадоксами. Оно лишь должно указать на то, что тавтология, выводимая за границы поэтической субъективности и применяемая как термин в вопросах авторской саморефлексивности, может оказаться фигурой не менее многогранной, чем парадокс.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































