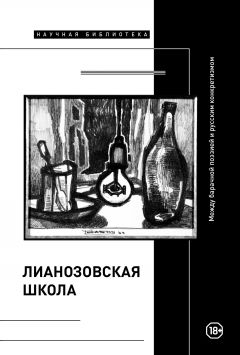
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 43 страниц)
Хотя самому Рогинскому это помогло мало. И работы Рогинского начала 60-х, как и Рабина конца 50-х, где сейчас – неизвестно. Я, кстати, совсем не хочу сказать, что Рогинский перекрыл Рабина. Да и задачи у него все-таки другие. Я только думаю, что еще чуть-чуть последовательности – и это место тоже было бы за Рабиным. По-моему. А так – на нем все-таки другой. По крайней мере, так сказать, большей частью. Хотя по заслугам.
Всеволод Некрасов
ЛИАНОЗОВСКАЯ ЧЕРНУХА
Так когда же все-таки началась перестройка в нашем деле? Точно сказать трудно, а примерно – пожалуйста. Между декабрем 85 и мартом 86. Декабрь. Кузнецкий. Генисаретский на трибуне. Обсуждается очередная авангардная молодежная экстренная выставка-вечер под названием, если не ошибаюсь, «Концепция и интуиция». И руководствуя авангард нашей молодежи, Генисаретский грозно и громогласно остерегает (уж тут я не ошибаюсь) первым делом от Лианозовской чернухи. Вот так.
Март. Крымский вал. Условия получше, попросторнее, выставка хоть не на один вечер, но тоже какая-то еще специальная, паническая – смотреть ее надо сегодня, завтра может быть поздно. И сейчас будет обсуждение. Странноватая выставка, тут Тышлер, тут Штейнберг. «Технический прогресс» припутали к названию: следы заметают11691169
Выставка «Научно-технический прогресс и изобразительное искусство» – Центральный дом художника, 11.04.1986. – Здесь и далее примеч. публ.
[Закрыть]. Но увидеть что-то можно. Спасибо. А обсуждение того страннее: это не обсуждение – торжественное заседание: в президиуме, понятно, не выбранном – залу явлены Алимов, Андронов. Ладно: художники. Но почему-то Кедров. Кого-то не помню, кого-то не знаю – но на трибуне опять он. Генисаретский. И что же слышим:
– Благословенные шестидесятые… Вот те на. Так вот какая нынче здесь служба… Но шестидесятые – благословенные, окаянные, какие угодно – это и есть первым делом Лианозово – чернуха оно, или не знаю – лебединый стан. Хотя ясно, что ни то, ни другое. Благословенная чернуха. Аминь.
Кому поп, кому свиной хрящик, кому Зверев (а мне, скажем, скорей Краснопевцев), кому Целков, а мне пожалуй что Харитонов. А раньше наверно больше Плавинский. Ну, не говоря о Вейсберге: Яковлев-то вообще вне конкуренции. По-моему. Хотя и очень по-своему. Но так или иначе, а мимо Рабина пройти трудно. Не помню, кого-то попросили назвать любимых артистов в порядке их значения. Ответ был: Райкин, а потом до-олго никого нет… Для меня где-нибудь в 60-м после Рабина долго никого не было, хоть и начал кое-кто появляться. Для вас – иначе11701170
Статья написана для каталога выставки, и эти обращения, видимо, – реакция на характер предполагаемой экспозиции.
[Закрыть].
Дело ваше, но примите хоть во внимание: в том самом 60-м, благословенном ныне и самим Генисаретским, всех «левых», «неофициальных» художников Москвы было около двух десятков, все были наперечет, на виду. Объявлялся новый – предшественники ехали на любой край столицы и смотрели. Со смесью ревности и солидарности. Учтем еще, что позиция «неофициальности» была позиция очень отчетливая, практически без нюансов, поступок: ты или решаешься, или нет. Практически все фамилии, перечисленные в предыдущем абзаце, да Лианозово – это и была московская «левая» живопись. И Лианозово тех лет (еще без Валентины Кропивницкой: она стала рисовать года на два-три позже) и даже не считая Бориса Свешникова – не почему-нибудь, а только по нелюдимости – как ни кинь, составит не меньше половины «левых» Москвы только по количеству. Надеюсь, никто не попробует доказать, что-де лицо 60-х определяли не какие-то отщепенцы, самодеятельность, а организованные, настоящие художники, «левый МОСХ»? Это было бы очень трудно11711171
Выставка, видимо, несколько уточнила представления Некрасова о разнообразии московского андеграунда «лианозовских» времен; в серии интервью, данных Вл. Кулакову в 1990–1991 годах, есть отдельный разговор о «Другом искусстве», и там, в частности, Некрасов говорит: «Сейчас я посмотрел <„Лианозовскую чернуху“> – конечно, там не упомянуты некоторые имена и даже некоторые группы – например, Злотников… тогда эти люди были известны, хотя я их знал мало» (неопубл.).
[Закрыть].
Сейчас такие трудности не смущают, но то сейчас. Как луна делается в Гамбурге (и прескверно якобы делается), так ведь и неофициальный поэтический авангард, как выяснилось, выделывается шибче всего в солидных «офисах»: в журнале «Юность» – «иронисты» и, соответственно, «мета-мета»… и т. д. – аж в самом Литературном институте. И ничего, номер прошел на глазах публики, и создался официальный неофициальный клуб «Поэзия», и влился в клуб «Апрель» – и в полном составе. Но это сейчас. Тогда были времена хуже, а чтобы сделались они подлей настолько – для этого надо было прожить вот так тридцать лет.
Понятно, и в МОСХе можно быть хорошим художником (тогда, думаю, было трудней, чем сейчас). Вейсберг был член МОСХа. Кажется, Свешников и формально Е. Л. Кропивницкий. Дела это не меняло. На выставки в 60-е тот же Вейсберг попадал очень редко, и большинство увидевших его (а не только взглянувших) всё равно, думаю, увидели его у него дома – на тех же правах, что и других.
И несмотря на всю, как Глазунову кажется, доступность, соблазнительность такого шага – расхрабрился, взял да и объявил себя «левым»! не было из тех же лианозовцев никого без серьезной, уж не хуже среднемосховской, подготовки. Чаще учебной, а нет – практической, зато такой, как у Ольги Ананьевны Потаповой.
И «левей» Тышлера в МОСХе всё равно никого не было, а Тышлер – это ведь все-таки не 60-е, это сильно пораньше… Нет, как ни кинь, а то новое, что тогда явилось, – художники именно левые – раз, и неофициальные – два. В неразрывной связи: «левое», т. е. не по ГОСТу, искусство можно было делать только на неофициальном, независимом положении.
А раз так, Лианозово и есть самые-самые шестидесятые – хотя бы по большинству голосов. Хоть еще важней то, что неофициальность Лианозова была особая – активная и открытая. Совсем диковинная тогда. В том-то и дело.
Мало того, что «самодеятельные» художники – самодеятельная выставка, музей, всегда открытый по воскресеньям. Любой приходит, и никто не боится – по крайней мере, не показывает вида. Беседуют, прорабатывают, дергают в ГБ с расчетом, что потянутый побежит пугать остальных (и побежишь, будь здоров) – а хоть ты что. Демонстрируют опеку, организуют в газетах «благословения» в памятном тогда всякому «предарестном» стиле (тогда еще не говорили «чернуха»; тогда писали прямо: «очернительство») – результат тот же. Без результата.
Это уже не просто неофициальность – в художественном мире это ее явный центр. Это вызов официальности. Откровенная, демонстративная даже антиофициальность, независимость, прежде – до 60-х, начавшихся, как известно, после 56-го – просто немыслимая. Да и в то время не понять было, возможная ли на самом деле – т. е. к чему всё идет и чем вот-вот может кончиться.
И сколько такая «чернуха» нервов стоила Оскару и Вале – знают только они сами. Даже не будь такой приманки, как рабинские картины (а приманка, могу свидетельствовать, действовала отлично, безотказно – и отнюдь не на меня одного), само такое положение, позиция лианозовцев делала Лианозово центром притяжения. Беспримерное дело: каждое воскресенье можно смотреть «подпольных», «левых» художников… Тогда только-только начали в Москве заводиться «открытые дома» с гостеприимными хозяевами, – про которые расходился непременно, немедленно дежурный слух: осторожней, дескать, это они неспроста… Так или иначе, в домах действительно бывало как-то скверно. Думаю, оттого, что хозяева брались не с того конца: пытались контролировать состав гостей (знакомые приводят знакомых), что плохо получалось и смысла имело мало. И собравшиеся неизвестно зачем косились один на другого. И напивались. А в Лианозове взялись с того конца, с какого надо: сборища имели простую цель, программу – показ картин. Иной раз – чтение стихов. Обмен новостями, какие-то журналы, каталоги выставок, монографии, которые после фестиваля начали просачиваться сюда, – это само собой.
И если уж мы считали художников, не забудем и поэтов – был Сапгир, пришел Холин, затем Некрасов, затем Сатуновский. А уж о Евгении Леонидовиче Кропивницком и говорить нечего. К стихам любого из них или всех вместе, понятно, можно относиться по-разному, но факт сообщества такой тройки или пятерки (можно считать, без манифестирования) – это факт. И подобного на тот момент (до прославленных «смогистов») я что-то не припомню. Были Хромов и Красовицкий, но недолго и вдвоем: Хромов и Красовицкий11721172
Эта неточность Некрасова – в так называемую «группу Черткова», сложившуюся до Лианозова, конечно, входили не только Валентин Хромов и Станислав Красовицкий – косвенно свидетельствует о степени интенсивности общения в московском литературном андеграунде. В первых трех выпусках альманаха «Синтаксис», к подготовке которых Некрасов имел отношение, нет поэтов «группы Черткова» (хотя в фонде А. Гинзбурга в архиве «Мемориала» сохранилась машинопись и рукописи не только Хромова и Красовицкого, но и А. Сергеева, Л. Черткова, Г. Андреевой, О. Гриценко). В собрании Некрасова есть машинописный сборник Красовицкого (сейчас передан в РГАЛИ); Некрасов очень ценил оригинальные стихи А. Сергеева, но общение с ним поддерживал, кажется, только с 1980-х (время и обстоятельства уточнить пока не можем).
[Закрыть].
А уж «барачная»-то поэзия – это ли не шестидесятые годы? И, конечно, чернуха. Чернуха чернущая – так можно было думать до момента, когда нас накрыл такой вал чернятины, производство которого по внезапно выданному разрешению могли наладить только набившие руку отличники, набившие на голубом и розовом, выдрессированные как надо.
Эта чернуха – это да, чернуха. А та была и не чернуха, а просто-напросто окружающая жизнь. Бараки были вовсе не литература – в бараке жил Лев Кропивницкий. Рабин жил и принимал гостей в бараке и писал бараки. Холин жил в бараке и писал про бараки. И что существенно, писали они без разрешения. То есть то была не чернуха, а, выражаясь полностью, типичное очернение нашей светлой советской действительности. Вне всяких сомнений. В общем, товарищ Генисаретский не только неудачно понял момент, но и явно увлекся этим своим неудачным пониманием. Но оставим Генисаретского на данной ему свыше трибуне и попробуем поговорить в нормальной обстановке. Что-то черное-пречерное было? Было. Рабин отлично работал с черным цветом и с черным контуром, хоть и не написал, по-моему, ни одной монохромной картины. Что до Холина и особенно Сапгира, то, по-моему, да, с ними бывало. Чернуха эта была сила духа – та самая, которую Сапгир находил в стихах исключительно своих – и отчасти холинских. И не уставал выступать с этим открытием.
Давайте разберемся. Повторяю: Сталин – не «эпоха застоя». Сталин – ноль. Смерть. Ничего. Принципиальное ничего – и в том же искусстве. И для тех, кто начинал отходить, очухиваться от этой комы, не было трудней и важней задачи, чем уцепиться за что-то, отличающееся от ничего. Отличаться от ничего любыми средствами. Отличаться от смерти – не до разборчивости, любая жизнь годится, хоть какая. Выйти, выбить себя из шока шоком.
Вот почему так хотелось какого-то Маяковского – максимального отличия от предыдущего, самого резкого перепада. Событие было необходимо. И Сапгир сумел сделать событие – или, по крайней мере, обозначить событие.
Попросту, разногласная (диссонансная) и разноударная рифма в стихе у него звучала максимально выраженным событием, поскольку звучала резким нарушением – если не разрушением строки:
И это было то, что надо. Что-то, чего все ждали – или, во всяком случае, очень похожее на то, чего все ждали. То, чего хотел Вознесенский, – но… «Стихи должны быть такие, что кинуть их в стекло – стекло разобьется», – говорил Хармс11741174
Неточная цитата из записных книжек Даниила Хармса: «Стихи надо писать так, что если бросить ими в окно, то стекло разобьется» (Хармс Д. Из записных книжек / Публ. В. Эрля // Аврора. 1974. № 7. С. 78).
[Закрыть]. В стихах Сапгира стекло разбивалось. Оставался ли сам булыжник – еще, может быть, и не очень ясно. Но треск, удар, звон, крик – это было. И это и требовалось. Ну а булыжник, кирпич, может быть, – это, конечно, Холин. Кинуть в стекло? Наверно, можно и кинуть. Но так или иначе, сам по себе существовал этот булыжник с невиданной прямо-таки убедительностью, неопровержимостью. Вот это был факт так факт. Плевать такому стиху, что там про него скажут, его главное свойство: вот он есть и никуда он не денется. Говорят, мебель Собакевича – единственное, что реально уцелело ото всех «Мертвых душ» в Н-ской губернии: часть в музее, часть в исполкоме. Вот эта прочность, способность запомниться и сохраниться и делает, может быть, стихи – стихами. Стих – речь, которая удерживается в памяти, сознании, а причины, механику можно (как всегда с этим сознанием) анализировать бесконечно. Таково свойство стиха вообще. Так он живет в голове. А в 50-е, когда начинал Холин, это было не свойство вообще, а сюжет, развертывавшийся в сознании общественном, да просто в жизни, на глазах: в сознании общественном, да просто в жизни выяснялись результаты проверки на неуничтожимость, выживаемость стиха, поэзию именно вспоминали. А какая она была, а у кого, где уцелела. И увесистая фактичность существования холинских стихов была, пожалуй, еще насущней, чем сапгировская активность проявления:
Дамба, клумба,
Облезлая липа.
Дом барачного типа.
Коридор 18 квартир.
На стене лозунг: миру – мир!
Во дворе Иванов
Морит клопов.
Он бухгалтер Гознака.
У Романовых пьянка.
У Барановых драка11751175
См.: Холин И. Дамба. Клумба. Облезлая липа… // Холин И. Избранное. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 27.
[Закрыть].
Но это по сути, если подумать, среди серьезных людей. А экспансия-экспрессия-агрессия, сплошной треск ломающихся на разноударных рифмах строк Сапгира свое дело делали: Сапгир, я бы сказал, занял место гения – или, пожалуй, сам·даже соорудил такое место. Гений? Гений – это тот, кто знает, как надо. Знает, как надо писать, и пишет. Кто способен предложить свою – и обязательно остро ощутимую, маркированную, как теперь говорят, версию догмы: т. е. версию метода. Манеру. И чтоб было ощущение: ну, в рай попали – теперь стараться не надо. Поспевай знай…
Такой московский поэтический престол после Сапгира занимали на моей памяти двое: Лимонов, а затем Пригов. Но думаю, что после Сапгира это было уже не совсем то. Во-первых, не тот метод: повтор (и такой, как у Пригова, и такой, как у Лимонова) – прием с врожденной специфичностью.
Сапгировские резкие передергивания строк в итоге оказались методом, может быть, и не менее жестким и ограниченным, но поначалу этот стих можно было еще подозревать в чем угодно: хоть в лиризме, в патетике.
Необычность, броская фактура стиха действительно тогда была содержательна всерьез: была то самое событие. А главное, Сапгир, как никто после, совпал с моментом. Что вселяло дополнительную уверенность, и уверенность особенно легко сходила за безошибочность. И это отнюдь не осталось только там, тогда, в каких-то мемуарах. Да нет же – возьмите подборку Сапгира в 12-м «Новом мире» за 8811761176
См.: Сапгир Г. Сатиры и сонеты // Новый мир. 1988. № 12. С. 77–79. В подборку «Сатиры и сонеты» вошли, в частности, классические ранние стихи: «Икар», «Знаменитый хирург», «Обезьян».
[Закрыть] – настоящий Сапгир все-таки – те стихи, давние, никакая мифология, никакая демонстрация культурности их не перевешивает.
(Уж эта наша культура. Март 88. Зал Дома актера. Сапгиру отдали кукольники выпуск своего «устного журнала». На сцене Рейн: никак не кукольник, разве что с большой буквы, зато приятель Юрского – и Бродского. И Рейн ведет, и Рейн ведет, куда Рейну надо: отныне здесь им, Рейном, Сапгир провозглашается в числе немногих ведущих, истинно культурных поэтов. Поэты перечисляются – Бродский, Кушнер, Чухонцев, Тарковский, Рейн в уме (оттуда Рейна только что поминал Бродский) – Остальные да-алеко отстали… Это «да-алеко» было аж пропето…
После аплодисментов Сапгира попросили записочкой сказать, что сам он об этом думает. Сапгир культурно уклонился. Холин сидел тут же, в зале. И я сидел с отвисшей челюстью).
Кто-кто, а я-то помню лианозовские собеседования и сапгировскую силу духа – заклятие, на которое у меня очень скоро выработались устойчивые рефлексы: шерсть дыбом. И кому-кому первым делом в силе этого духа отказывали, так уж… Правда, слово культура было малоупотребительно. Интеллигенция говорилось куда чаще. И далеко не в одобрительном смысле. Красиво бы, конечно, сказать, что Сапгир с тех пор вырос и овладел всей культурой – как Мартин Иден. Но я, например, плохо верю во всю культуру, которой овладевают. Знаю, что культуру растят, наращивают из какой-то своей, живой, собственной точки. В похвальбе культурой культуры меньше всего – культура в умении. А умел Сапгир в 58–60-м все-таки больше, чем в последующий культурный период. Это просто видно. (А Кушнер поэт, по-моему, и правда отличный. Но мы тогда его не знали).
Конечно, свой тогдашний стих Сапгир мог создавать только на каком-то душевном подъеме. Иначе не бывает. Но когда метод, манера найдены, они уже есть – они обретают инерцию. Да еще такие выигрышные, эффектные. И силой духа автор уже приучился почем зря обзывать просто характерность своей манеры, которая к тому же срабатывалась на глазах – как всякая манера, а острая, эффектная – подавно. Это было, но прошло. А другое зато было и осталось – в лучших стихах ничего не выдохлось, стихи работают как работали, всё при них – они зацепились за время, вросли, живут.
Культурой же заклинать еще хуже, чем силой духа, – культуре-то оно особенно бы не к лицу, неудобно. Другое дело: а при чем тут культура…
А в общем, в сапгировских острых, максимальных эффектах есть, по-моему, что-то очень важное для Лианозова – для лианозовской живописи. Отличиться от ничего – задача всякого, кто приходит в искусство, но в те времена подавно. А Лианозово и есть те времена, самая их гуща. Любой ценой отличиться от ничего – пожалуй, даже так. Искусство любой ценой – формула, вообще говоря, неприемлемая, но для себя та эпоха допускала исключение. По причинам, описанным выше. Эффект, когда его удавалось добиться, был слишком важен – слишком дорог, чтобы быть «дешевым». И никуда, никак без чернухи – яркого черного, провоцирующего контраст, событие, – позволяющего засветить вспышку.
Уже приходилось рассказывать, как Евгений Леонидович, «Кропивницкий-дед», учил гостей (не только художников) делать абстракции: давал черный фон и красную краску11771177
Возможно, имеется в виду текст, открывающийся словами «В Лианозово меня привезли осенью 59…».
[Закрыть]. Выходило наверняка. Лев, сын, подозревал тут, помнится, скрытую шпильку против абстракционизма вообще (самое ходовое слово, точка всех споров тех лет – особенно после 62) и отчасти собственной живописи… Евгений Леонидович, и правда, бывал очень лукав – но если и посмеивался, то в данном случае над собой первым. Не последним, по крайней мере: он сам с удовольствием делал, например, «коврики» (как их называла жена, Ольга Ананьевна) – открытые композиции с яркими мазками чаще именно на темном фоне. А позже написал серию работ, где живописно очень разработанные, мерцающие массы зависали в черном пространстве. Названия работ были на -ость и -ие. Мне он подарил «Воспоминание»11781178
В коллекции Некрасова есть картина «Воспоминание», написанная маслом и датированная 1965 годом (передано в ГМИИ).
[Закрыть]…
Единственная избежала черного цвета Ольга Ананьевна. Но дело и не в черноте – дело в тьме, в которой видно свечение. И есть ее работа из самых первых «абстрактных» – а до того она писала цветы – по существу, фигуративная, фантастическая с бесхитростно сияющим кристаллом на фоне – не черном, а темном: пятен разных цветов, замечательно найденных и подобранных – как всегда…
И я до сих пор думаю: а все-таки зря Лев погасил огни, когда где-то к середине 60-х стал делать фигуративные стилизации. При всех возможных позднейших плюсах и достижениях для меня самыми заразительными остаются первые, сделанные гладкой живописью и аэрографом откровенные световые эффекты, от которых он резко перешел к ташизму, размашистым мазкам – тоже, однако, еще не совсем чуждым приключениям с освещением…
«Эффекты» – это я сейчас пишу фамильярно, для краткости. Тогда это было неспроста: это был сюр, фантастика, это был космос – но космос тогда был повсеместно и надоел уже страшно, стремительно. Тогда как вечтомовские фонарики и светила горят себе, горят 30 лет и не тухнут, если не пожухнут. Секрет простой: искренность. Луна над лесом, закат за виноградовским парком11791179
Рядом с селом Виноградово (Мытищи), где жил Н. Вечтомов, находится старинная усадьба с парком.
[Закрыть], высотные огни на трубе, стрелочный фонарь, самолет и две-три машины. Ничего не надумано, но всё обострено, очищено и обобщено.
Немухин, Мастеркова – художники с солидным опытом, подготовкой, очень щедрые и плодовитые, не фиксировались только на вечерних эффектах, но отнюдь их не избежали. И их абстракции начала 60-х – мастерковские заросли, немухинские кресты, начертания и переплетения – картины преимущественно «ночного видения» – откровенно подсвеченные, озаренные, если не горящие. Таковы и первые «карты» Немухина – не знаю только, где их сейчас можно увидеть… И лучшая абстрактная графика у него – вспышки, искры, разряды, застывающие в металлические нити и линии, резиновый клей по черному-черному фону.
Ну а что такое ночная тьма, фонари и окошки для Рабина – и говорить не приходится. Редко когда писал он «дневную» картину. А вот что иная «дневная», темнея, на глазах оживала – так случалось. Понятно, и Рабин – человек, и у Рабина нарабатывалась своя инерция, свои шаблоны. Больше того: где-то тут, думаю, немалая драма Рабинахудожника. Художник-живописец с художником-поэтом, по-моему, не всегда в нем ладил. Будучи человеком регулярным и работящим, он писал работы, где главное – все-таки напряженное переживание, состояние, острый момент. Не сюжетный момент, но душевный. Как отразились поиски такой «регулярной остроты» в живописном языке, технике – я уже писал11801180
Эволюция техники Рабина обсуждается и оценивается в тексте «В Лианозово меня привезли осенью 59…».
[Закрыть]. Но как бы то ни было, к «ночному» состоянию возвращала снова и снова во всяком случае не подсказка техники, не инерция приема – тогда уж инерция самого этого состояния. Его органический характер, устойчивость. Почему так – тут можно сказать немало. Вспомнить, например, солженицынское электричество «В круге первом»: и лампочку на крыльце марфинской шарашки, и сумасшедший «запертый» свет, почти одинаковый в лубянской камере и сталинском кабинете. Или просто сообразить, с другой стороны, что лианозовские все перебывали служивыми людьми, у которых «личное», свое время начиналось с концом рабочего дня, с этого момента, как водится, шли и живые впечатления по дороге домой – как у большинства горожан. Да и само электричество тогда еще не надоело, не посинело, фонари были не сизые, а золотые. И про «световое загрязнение среды» еще никто не слышал… Москва была по населенности меньше нынешней в полтора-два раза, а по расселенности – наверное, вдесятеро. И безликой Москвы было меньше. Безобразной – больше. Город был концентрирован, дома, окошки битком набиты светом, неосвещенными комнаты коммуналок не оставались, как не оставались пустыми. И свет еще отнюдь не успел надоесть после военного затемнения, а тем, кто вернулся в столицу из темных углов, как Лев, – подавно.
Один из любимых рабинских мотивов – пейзаж-натюрморт с лампочкой на переднем плане (вариант – свеча, керосиновая лампа) – возник, во всяком случае, лет за десять до того, как все прочли и «В круге первом», и шаламовское «Колымское золото». Огонек лампочки выражал и обозначал тогда, по-моему, гораздо больше, чем сейчас. Он просто был самым первым, несомненным фактом, событием для глаза, и обойти это событие художнику, да еще такому, как «лианозовский», было прямо-таки невозможно.
И понятно, что такое событие происходило только при достаточно сгустившейся – да не чернухе, а просто-напросто темноте.
<1989–1990>
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































