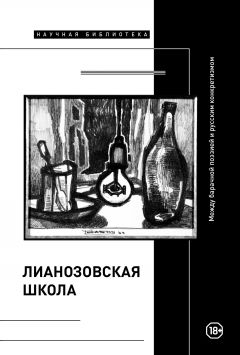
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 43 страниц)
Наше знакомство с Игорем Холиным, культовым поэтом московского андерграунда 1960-х годов (который, казалось бы, давно ушел с литературной сцены и якобы не писал много лет), помогло нам в поисках материальных свидетельств. Холину, который уже очень рано начал делать звукозаписи частных поэтических чтений, мы обязаны уникальным звуковым архивом московской поэзии 1960-х и 1970-х годов, из которого взяты все материалы на приложенной аудиокассете, не нами записанные.
Продолжение издания этого, представленного здесь только фрагментами, архива, который, помимо чтений поэтов Лианозова, также содержит записи группы СМОГ – еще одной группы 1960-х годов, также приверженной традициям абсурдизма, будет задачей на ближайшие годы. Прилагаемые фотографии мы также получили от Игоря Холина.
Мы в особом долгу перед Львом Кропивницким, передавшим нам большое количество чрезвычайно ценных самиздатовских книг своего отца, которые часто существуют только в виде уникальных экземпляров, написанных от руки и переплетенных в самодельные обложки. Эти тетради представляют собой ранний образец так называемых «книг художника» московского самиздата, оформленных с использованием графических и коллажных техник.
Представление этих произведений как произведений гибридного художественно-литературного жанра на отдельной выставке, посвященной как поэтическим книгам авангарда, так и специфическим формам публичности постсталинского Советского Союза, скорее всего, в будущем станет интересной экспозиционной и издательской задачей.
Особую благодарность хотелось бы выразить также молодым московским поэтам и художникам, поддержавшим наш проект документальной истории московского поставангарда советом и действием. Прежде всего следует упомянуть Андрея Монастырского, через которого были установлены контакты со Всеволодом Некрасовым и Игорем Холиным и который как один из собирателей М. А. Н. И. (Московского Архива Нового Искусства) дал нам доступ к важным документальным материалам из истории Московского концептуализма.
Перевод Ольги Денисовой
Ойген Гомрингер
«ЖИВУ И ВИЖУ» – ЛИРИКА МИРА ПО-РУССКИ
Сегодня, когда мы знакомимся с творчеством русского поэта Всеволода Некрасова, кажется, есть больше, чем когда-либо, людей, считающих, что им известно, что такое поэзия. Однако закрадывается подозрение, не следует ли оградить поэзию от посягательств, когда под видом поэзии людям настырно подсовывают poetry, неотличимую от comedy, которая, собственно, и производится прямо по ходу ее предъявления публике и, тем самым, претендует на то, чтобы ее законно, в согласии с духом времени, принимали за поэзию. Некрасов – именно в этом, скажем предварительно, мы видим значение его творчества – может помочь перебросить мостки и найти дорогу обратно. Ведь эта штука пришла сюда, как и все теперь, из Северной Америки, а точнее – стремительно обрушилась на нас (так сказать, торнадо-трендом) как раз тогда, когда мы, находясь под знаком всеобщей усложненности, решили подвергнуть ревизии обширное поле супранациональной поэзии и, применяя шрифт-код 39, осваивали новые типографские возможности. Разумеется, poetry и т. д. тоже появились не совсем уж без предупреждения. Ведь к тому, что осознавшая себя поэзия тут и там превращалась в poetry, собственно, и приводила одна из линий развития: сам путь конкретной поэзии в сложный период времени, в сложном контексте. Ее поведение – если посмотреть на все в целом – часто выглядело настолько напряженным, что наверное какой-то демиург предписал ей научиться расслабляться. С другой стороны, на это следовало возражение, что, при беспардонном присвоении текстов конкретной поэзии, поверхностный слой словесной игры принимался подчас за целое, поскольку утрачен был опыт восприятия простого. И, конечно же, простое как нечто читаемое, стоящее прямо перед глазами, провозглашаемое формулообразно мистиками, таоистами и траппистами и заучиваемое их адептами, постоянно и недвусмысленно уклонялось от такого рода скоропалительных перехватов. Poetry довольствовалась лишь банальным.
Но вот чествуется не столько то, что стоит перед глазами, сколько сам голос – орган и средство поэзии. И в случае Некрасова было уже отмечено, что его поэзия имеет голосовое происхождение, а не переходит от текста написанного к последующему устному произнесению, так что письменный текст у него можно рассматривать скорее как сопровождающую фиксацию. Тем более поразительно выглядят его стихи в текстовом воспроизведении, перед нами – поэтический сборник с современными стиховыми формулировками и структурами, выдерживающий, также и в переводе, любое сравнение с печатными изданиями западной поэзии. И потому читатель немецкого сборника Некрасова может не только довериться искусству перевода, но также довериться своей интуиции относительно этого творчества, которое дарит возможность проникнуться, почувствовать запахи, а при тонком настрое и услышать русский ландшафт во всей его поэтической полноте – от волжских просторов до оживленных городских улиц, от самого дальнего к тому, что вблизи, и от самого близкого к дальнему (кстати: эти стихотворения, с их лирической многогранностью, могут стать чудесным спутником для путешествующих).
Тексты Некрасова, даже и без голоса, соприкасаются с западным опытом экспериментальной поэзии во всем его почти привычном объеме. И все же тут, от имени самого поэта, следует заявить протест, и очень существенный: он против того, чтобы его поэзию определяли как экспериментальную. Правильно. В сущности, ни у кого нет намерения писать экспериментально, разве что у участников какого-нибудь семинара по семиотике. Ведь то были как раз самые продвинутые научные дисциплины 1950-х годов, в чьих рамках за нами признали стохастический модус письма (Хельмут Хайссенбюттель, по телефону: Мы теперь стали стохасты). Несомненно однако, что уже и в футуризме Маринетти с избытком хватало экспериментальных актов и что его «Слова на свободе» произвели экспериментальный резонанс, без которого даже и у Некрасова не вполне обошлось. А перед тем был Малларме, чья прославленная свободная расстановка слов на странице досталась нам как значимый опыт. А позже, начиная с 1950-х годов, в практику стали входить разнообразные конкретистские приемы: последовательности слов, каскады слов, ряды, повторы, инверсии, речевые реальности, белый лист и констелляции – все это, почти одно к одному, встречаем мы и у Некрасова. Но у Некрасова-поэта это все живет настолько своей особой своевольной жизнью, что безусловно веришь Некрасову-теоретику, когда он предъявляет как свои собственные находки то, что по сути является разного рода совпадениями. Ведь тот, кто, всегда придерживаясь своего строгого метода и логики, распоряжается словарным запасом, однажды, в конце концов, нечаянно обнаружит себя в родственном ему круге конкретной поэзии. Тождественное или схожее залегает на общем основании простого, готовое к тому, что его обнаружат и подымут наверх.
Теперь до нас дошел, на немецком языке, большой русский вклад в конкретную поэзию, но дошел отнюдь не как завершение эпохи модернизма – слишком уж он живет в настоящем, повернувшись спиной к любому прошлому, даже не называя предшественников из своих же русских 1920-х годов. И не нужно – ведь Некрасов, так же, как и западные конкретисты, стремился реформировать комплексную систему, обрести поэтический язык своего времени. Этот язык придерживается наивной и всемирной формулы поэзии: «Живу и вижу», – и ставит ее перед нашими глазами, для чтения. И вот, слышащий видит, и видящий слышит. Это и есть поэзия.
Перевод Ольги Денисовой
Галина Зыкова, Елена Пенская
ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ: ВОСПОМИНАНИЯ О ЛИАНОЗОВЕ
Две статьи, печатаемые здесь, публиковались в каталоге выставки «Другое искусство: Москва 1956–76»11441144
Третьяковская галерея, Русский музей, 1990–1991 гг. (М.: Интербук, 1991, С. 259–266). Кроме этого, в каталоге были помещены стихи Некрасова, а также не отмеченный в оглавлении (инкорпорирован как огромная цитата в разделе о Ф. Инфанте) «Текст выступления на обсуждении выставки художника Ф. Инфанте, проходившей в Центральном научно-исследовательском институте теории и истории архитектуры со 2 по 29 апреля 1982 г. Обсуждение – 29 апреля 1982 г.»)
[Закрыть]. Работать над ними Некрасов начал еще в 1988 году, когда Л. Талочкин готовил в Куйбышеве выставку и обратился с просьбой написать к ней небольшой текст11451145
1 марта выставка «Московское неофициальное искусство 1960–1970-х годов из собрания Леонида Талочкина» открылась в Куйбышевском областном художественном музее; представлены 82 работы 30 художников, каталог издан не был.
[Закрыть].
В ноябре 1988 года составители каталога «Другое искусство» приезжали к Некрасову в Сокольники, чтобы отобрать для выставки некоторые объекты из его коллекции. Некрасов вспоминал, что среди текстов, переданных редактору каталога Ирине Алпатовой для возможной публикации, были статьи «Как смотрим (Симпозиум в ЦТЭ)», «Фикция как искусство, но не искусство как фикция»11461146
В архиве Некрасова сохранилась подготовленная для каталога корректура, включающая «Фикцию как искусство…», правленную редактором «Лианозовскую чернуху», объединенную с мемуарным текстом, и стихи.
[Закрыть], «Обязанность знать», письмо в журнал «Искусство».
В процессе подготовки каталога составители постепенно отказывались от некоторых материалов – видимо, в результате конфликта между автором и составителями, вызванным прежде всего тем, что в «Лианозовской чернухе» И. Алпатова купировала упоминание об О. Генисаретском и фрагмент о Е. Рейне и Г. Сапгире.
Статьи были напечатаны с искажениями, в том числе существенными: так, «Лианозовская чернуха» была соединена с другим, собственно мемуарным текстом (без названия, начинающемся со слов «В Лианозово меня привезли осенью 59…»). Публикация сопровождалась примечанием, внесенным по требованию автора и данным в его формулировке11471147
Это видно из письма Некрасова к И. Алпатовой (наброски сохранились в личном архиве поэта).
[Закрыть]: «Составители приносят извинения Вс. Некрасову за публикацию неполной подборки статей, предоставленной им, и вынужденные сокращения, внесенные в текст без ведома автора11481148
См. об этом, напр.: Журавлева А., Некрасов Вс. Пакет. М.: Меридиан, 1996. С. 282; Некрасов Вс. Лианозово. М.: Век ХХ и мир, 1999. С. 75.
[Закрыть].
Источник текста в настоящем издании – авторская беловая машинопись с незначительной авторской карандашной правкой; некоторые сомнительные места прояснены по черновой машинописи.
Характер статей позволяет предположить, что «Лианозовская чернуха» была написана, собственно, к выставке (в 1990 году?), а мемуарный текст – несколько раньше (к нему есть отсылки в «Лианозовской чернухе»).
С другими публичными высказываниями Некрасова (не только статьями, но и стихами) «Лианозовскую чернуху» объединяют многие идеи и формулировки, особенно образы тьмы и света в послевоенной Москве11491149
См. особ.: «Лианозовская группа. Лианозовская школа» в кн.: Некрасов Вс. 1999. С. 56–71, а также воспоминания о детстве и юности в интервью Некрасова Вл. Кулакову, данном в 1990 г.
[Закрыть], но ранними редакциями «Лианозовской группы» или каких-то других текстов печатаемые здесь статьи не являются.
Позволим себе здесь комментарий к одному имени, упоминаемому Некрасовым. В начале первого мемуарного текста назван Альберт Борисович Русанов (14.01.1936, Петропавловск-Камчатский – 05.01.2002, Москва), школьный друг Некрасова, московский коллекционер неофициального искусства в 1970–1980-х, приятель Н. Глазкова и пропагандист его творчества. О том, как много значил для него Русанов, показавший ему, например, «Воронежские тетради» Мандельштама еще зимой 1954/1955 годов11501150
О том, что «Воронежские тетради» в 1950-х годах действительно распространялись в списках, по крайней мере в некоторых кругах московской литературной молодежи, свидетельствует, например, присутствие таких списков в фонде А. И. Гинзбурга, хранящемся в архиве «Мемориала».
[Закрыть], Некрасов говорил и публично11511151
Некрасов Вс. Предыстория // Пушкин. 1997. № 1. С. 14–17.
[Закрыть], и – более развернуто – в непубликовавшемся наброске; приводим его здесь по авторской машинописи:
«Как я стал поэтом?.. Н-ну… Чтоб лишний раз не раздражать зря оппонентов (так их тут назовем), скажем осторожно: если я стал поэтом, то стал я им благодаря школьному товарищу Алику Русанову.
Во всяком случае, на добрую долю. Остальные доли (неравной величины) – толстенный Пушкин, компактный Лермонтов (до школы), дореволюционный Некрасов (лет в 10), Теркин из „тарелки“ в войну, книжечка Антокольского „Сын“, Том 1 Маяковского плюс книга Перцова, (еще раньше – „Маяковский сам“); Есенин (листочки, потом книжечка и „Роман без вранья“); Блок 46 и сборник пародий Архангельского 28 года, почитать который дала Ира М. в 8 классе. Да, наверно, сюда же Зощенко и Ильф с Петровым, практически заучивавшиеся наизусть: чем не стихи?
(А вообще вопрос мне кажется по адресу: я вроде бы действительно помню, как становился кем-то и чем-то. Постепенно, поэтапно, со скрипом, куда медленнее, чем хотелось бы. Я, прошу прощенья, человек не талантливый, в смысле не одаренный. Скорее, копивший).
Т. е. уже к старшим классам был я закоренелый поэт-читатель. Как и многие тогда. Каким образом и почему полез я в поэты-авторы? Тут-то и придется обратиться к Алику Русанову. Дело было так.
Алик в юности был парень фантастически заводной и вообще фантастический. В том числе и в том смысле, что невероятный фантазер. До того, что с ним, наверно, трудно было бы иметь дело, кабы не одна черта, странность даже. В нем, по-моему, начисто не было злости. И никакой подлости, ни в каких её модификациях. И что бы ни городил Алик, он никогда не врал – только фантазировал, и слушать его было, что называется, любо. Любили Алика все, и фантазировать мешать Алику было бы просто кощунство. Хоть бы его фантазии были и про тебя самого…
У меня могли быть какие-то стихи, относившиеся некогда к Ире М., но своих этих стихов Алику я не показывал точно. Уже понимая, что не годятся они никуда ни с какой стороны. Другой разговор, что как одержимый поэт-читатель я так на Алика наседал, так прожужжал ему уши футуристами-имажинистами, что завелся бы, наверно, любой, а Алик вышел на полные обороты очень быстро: почти сразу с самой серьезной физиономией стал требовать, чтобы и нам, раз такое дело, прямо выступить с манифестом – чем мы, действительно, хуже имажинистов-футуристов?.. Я ошарашивался и начинал мямлить, что и кроме манифестов неплохо бы иметь в багаже что-то – скажем, те же стихи… Алик не терялся и возражал в том смысле, что поначалу и у футуристов-имажинистов со стихами было не так уж густо – стихи или там романы – дело наживное, вообще лиха беда начало и т.д…
Будучи балбесом сравнительно взрослым, под 20 лет, на манифесты я всё же не клюнул, но с панталыку незаметно таки сбился и принялся писать стихи ни с чего и ни для чего – просто вот, чтобы были и у меня мои стихи… Как у людей… Для рекомендации, что ли…
Резон для стихов не самый серьезный и стихи были – не бей лежачего. И более чем беспомощные, и с художественными претензиями. Хуже не бывает. А хуже всего то, что с этими стихами я, подзуживаемый Аликом, сунулся на приемный конкурс в литинститут – вообще-то на авось сунулся, на всякий случай, но всё равно – сраму было… Т. е. сраму вроде бы и не было тогда: ну отказ и отказ, но как вспомнишь… Ладно уж – что говорить…
Надо сказать, что мои разговоры про футуристов-имажинистов – это было еще что. Детский лепет рядом с Аликом, который был куда продвинутее и информированнее…»
Всеволод Некрасов
<В ЛИАНОЗОВО МЕНЯ ПРИВЕЗЛИ ОСЕНЬЮ 59…>
В Лианозово меня привезли осенью 59 два Алика – Русанов и Гинзбург. С Русановым дружили со школы, а Гинзбург тогда как раз делал первый выпуск «Синтаксиса». Русанов помогал по приятельству, а я участвовал стихами. Хотелось бы думать, что не по знакомству.
Пользуюсь случаем предупредить: за те стихи я не отвечаю. Стихи, которые и сегодня – мои стихи, такие у меня тогда стали получаться всего около года. Отбирать и зачеркивать я еще умел плохо, а тут друзья наседают – не мудри, давай стихи лучше даже не лучшие. Сейчас наладимся, такие выпуски пойдут каждую неделю. Ну, две недели. Дать всё сразу – материала потом просто не хватит. И т. д. Словом, из того, что я дал, стихами сегодня считаю только «И я про космическое»11521152
См. Некрасов Вс. Стихи 1956–1983. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2012. С. 38. – Прим. публ.
[Закрыть]. Выпусков же «Синтаксиса» было три, по десять авторов, у каждого – по пять стихов. Только у Холина – 10, за гениальность. Экземпляров, кажется, тоже 10 или 12 – две закладки на машинке11531153
Обычно называется другое, гораздо большее число. – Прим. публ.
[Закрыть]. И с этой подрывной литературы началась лагерная эпопея Алика Гинзбурга, хотя формально первая посадка – за подделку документов: сдавал экзамен за другого. Два года срок. Но это почти через год, а пока едем в Лианозово, везем по экземпляру Холину, Сапгиру и Льву Кропивницкому, который сделал к «Синтаксису» гравюры. Абстрактные11541154
Известна одна. – Прим. публ.
[Закрыть].
Я-то еду знакомиться с Холиным и Сапгиром: уж очень стихи заинтересовали. Что надо стихи, убедительные. Сам я на последнем курсе и, в общем, в курсе событий, хожу в лито, ценю и «Теркина», и Светлова и Мартынова (как и сейчас), и Слуцкого и Самойлова (сейчас меньше), крайне уважаю Глазкова (сейчас тоже), а Окуджаву люблю, как любимую девушку (сейчас, может, и того больше). Пастернак мне долго был вроде Ахматовой, пока одна умная знакомая не ткнула меня носом в «Сестру мою жизнь». А вот Мандельштам не вызвал затруднений с самого начала, хоть с ним всё тот же Русанов (как и с Глазковым) ознакомил аж в 54 году, когда всего багажа было: Маяковский, Есенин, Блок. В описываемый же период усваивал, помнится, Хлебникова и Цветаеву, Заболоцкого и Олейникова11551155
Одно из любимых, возможно, позднее ассоциировавшееся со стихами Холина: «Пришел я в гости, водку пил, / Хозяйкин сдерживая пыл. / Но водка выпита была. / Меня хозяйка увлекла. / Она меня прельщала так: / „Раскинем с вами бивуак, / Поверьте, насмешу я вас: / Я хороша, как тарантас“» («Быль, случившаяся с автором в ЦЧО (Стихотворение, бичующее разврат)». Своими соображениями о сходстве Олейникова и Козьмы Пруткова Вс. Некрасов делился в беседе с Е. Пенской 11 января 1990 года. – Прим. публ.
[Закрыть]. И Олейникова живей других…
Но это все-таки классика. А вот кто сейчас Маяковский? Ясно только, что Вознесенский – едва ли… А вот Холин с Сапгиром, писавшим в те поры себя через б – Сабгир – пожалуй, ближайшие кандидатуры. А почему так хотелось событий? 1. Тем, чья очередь подходит, их, наверное, и всегда хочется. 2. Были, думаю, и дополнительные причины. О них я писал в «Объяснительной записке» (Лит. выпуск «А–Я»).
С живописью же контактов было, в сущности, мало. Только-только научился смотреть только-только вывешенных импрессионистов11561156
В ГМИИ в 1956 г. – Прим. публ.
[Закрыть]. Правда, предпочитал Марке. От фестивальной выставки 57 впечатление осталось самое общее, хоть и бодрящее – некой идеи современности11571157
Международная выставка изобразительного и прикладного искусства в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького открылась 30 июня 1957. Среди участников были, в частности, Э. Булатов, О. Целков, Э. Неизвестный и даже О. Рабин. Издан каталог (М., 1957). – Прим. публ.
[Закрыть]. Понравился Глазунов 5611581158
Некрасов немного неточен: первая выставка Глазунова была не в 1956, а в начале 1957 года. Подробнее о своем отношении к Глазунову Некрасов говорил примерно тогда же в интервью, данном В. Кулакову (аудиозапись публиковалась нами на персональном сайте Некрасова, расшифровка готовится к печати).
[Закрыть]. Он и правда ведь тогда был живой. А чего этой жизни не хватало – этим осенним, зимним, городским состояниям – прочности. Убедительности, обобщенности. Достаточной выраженности – не хватало события.
Вот это самое острое состояние, живой, мой воздух пятьдесят какого-то года, состояние (условно скажем), как у Глазунова, но усиленное, пронзительно обостренное и сумевшее-таки стать событием, какого не заметить нельзя – как у Холина и Сапгира, а может, и покрупнее, – вот что увидел я на картинах Рабина – и слегка ошалел. Такое я и не знал, что бывает. Пожалуй, так можно сказать: увидел собственные стихи в изображении. Что-то даже было уже написано – «Ночью электричеству не спится». Но, в общем, это именно написать предстояло. Хотелось бы. Хотелось бы так же. Просто необходимо было. Точней, конечно, не стихи, а поэзию11591159
Это же впечатление будет от работ Булатова и Васильева в 65–67 гг. Только рабинские «стихи» – ночь и город, а эти – день и «природа»… – Прим. автора.
[Закрыть].
Рабин как-то сразу заслонил не только Холина с Сапгиром, а пожалуй что и всю поэзию – на какой-то момент, поскольку, повторяю, такого от изобразительного искусства я просто не ожидал. Картин-то тогда было немного – вероятно, десять, много пятнадцать. Уходить картины уже начали быстро, а писались с трудом – просто времени не было: если Оскар уже не работал тогда десятником на железной дороге (точно не помню) – значит, брал на дом поденщину из художественного комбината. Это были чудовищно подробные, каторжно трудоемкие плакаты и схемы. Писал чаще по ночам, а во время дневных воскресных показов сплошь и рядом задремывал перед собственными картинами, единственный из присутствующих, которые переглядывались: уж так скромничать автору… Показов этих зимой 59/60 навряд ли я пропустил хоть один: боялся, что какую-то картину могу не увидеть. Для меня главные события в современном искусстве стали уже происходить именно здесь, на рабинском мольберте, и носился с Рабиным тогда буквально как дурень с писаной торбой.
Не зря я говорю буквально носился: вот, носился и принес действительно рабинскую картину, метровую, естественно, Окуджаве в Литгазету11601160
Окуджава работал там с 1959 г., см., напр., об этом его рассказ: YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=LBdD7DK8Kuo (дата доступа: 30.01.2020). – Прим. публ.
[Закрыть] и там оставил дня на три. Пусть они смотрят. Пусть видят, и если Окуджава не захочет после этого съездить в Лианозово в воскресенье и спеть, пусть ему будет стыдно. Но стыдно было мне, когда Окуджава, картину похвалив, на всё согласившись, на Савеловский вокзал не явился. А я-то назвал народу… И в том числе ту самую девушку. На Окуджаву я так обозлился, что бросил и знаться с Окуджавой, при всем благоговении перед его песнями. Точней, пением. Правда, знакомы мы были только по «Магистрали», да еще брал я у него тексты песен для «Синтаксиса», сумев даже убедить, что нет смысла перепечатывать на машинке уже напечатанное в типографии, лучше на машинке перепечатать что-нибудь другое11611161
Подробнее см.: Некрасов Всеволод. Окуджава // Литературное обозрение. 1998. № 3. C. 40–41. – Прим. публ.
[Закрыть]… И, конечно, подсунул ему собственные стихи. По-моему, кое-что там уже начиналось, но рецензия была смутной: «Что-то, знаешь, не пойму я… И голова болит, вчера посидели… Пиши лучше русские песни…»
Больно уж отечески, но все-тки по-человечески. Обстоятельные отзывы двух других мэтров и вспоминать тошно: одна нотация высокопоэтическая, другая сугубообщественная, да еще с партийным отливом…11621162
См. в интервью В. Кулакову: «…В 1962 году дал стихи Борису Абрамовичу Слуцкому, попросив, если можно, что-то из них дать в „День поэзии“. Борис Абрамович Слуцкий, почитав эти стихи, – сейчас уже не помню, лично или по телефону, или через кого-то, выразил мне некоторое неудовольствие – впрочем, в достаточно вежливой форме, но в том смысле, что хватит валять дурака, надо быть верным – истинным ленинцем. Не то что были сказаны эти слова, но смысл и тенденция были именно такие: надо серьезно относиться ко всему.
<…> Самойлов был тогда не совсем то же, что потом: он тогда не был классик, не был такой пушкин… И у него были замечательные стихи: «Элегия», например. <…>
Ну вот, со Слуцким моя встреча закончилась нотацией с позиции серьезности, народности и партийности. С Самойловым кончилось и того хуже. Я получил нотацию уже вполне развернутую, программу классического стихописания: надо уважать поэзию, а это всё безобразие – черт его знает, что такое! Я, говорит, мысли люблю, а у вас всё штучки». – Прим. публ.
[Закрыть] Окуджава еще вправе подумать, что всё дело в песнях, раз он пишет песни и получается лучше всех. А вот мэтрам бы поосторожней с пропагандой позиций, мэтры едва ли уж лучше всех; один другого лучше – это пожалуй. В общем, Мартынову11631163
Одно из самых любимых Некрасовым стихотворений Мартынова, «Что-то новое в мире…», упоминается в докладе, прочитанном им в Минске, в Белорусском государственном университете, на конференции «Славянские литературы в контексте мировой» (12–14 октября 2005 г.) – Прим. публ.
[Закрыть], как хотел, стихи я уже не понес (может, и зря)11641164
В интервью Некрасов говорил об этом В. Кулакову так: «А к Мартынову я когда сунулся – вообще услышал мефистофелевский хохот: что, хотите показать стихи? – Ха-ха-ха-ха-ха – ну, приходите! приходите! и я как-то уж после этого не пошел. При всей к нему симпатии – я и сейчас думаю, что Мартынов самый интересный и живой из них. И бесспорный. Очень обаятельный человек. Ну, в общем, духу у меня не хватило». – Прим. публ.
[Закрыть] и окончательно убедился: нет, главнее Лианозова нету.
Хотя, надо сказать, чего-чего, а пропаганды как раз тут хватало. Особенно отличался Сапгир, имевший привычку под веселую руку позвонить Слуцкому и напомнить тому, что его, Сапгира, поэзия тем и отличается, что в ней – сила духа…
И конечно уж, всех там моих Мартыновых и Светловых, Твардовских и Окуджав, Глазковых – этих Сапгир крыл разом, походя. Той же силой того же Духа. И с Духом этим личные счеты у меня именно еще с тех пор, а когда лет мало не через десять Сила Духа поперла из всех дырок11651165
Среди неославянофилов в 1970-х годах оказались люди, ранее Некрасову близкие, например, Ю. Лощиц. – Прим. публ.
[Закрыть], я просто узнал ее мгновенно, не вникая, по одному звуку, даром что ее оборотило в другую сторону. Ну, это-то она как раз запросто.
А вот Рабин пропагандой не занимался. Подчеркнуто, нарочито даже. Я бы сказал, ехидно. Сидит, покуривает, слушает какую-нибудь радикальнейшую сентенцию, очередную систему проектирования магистрального пути всего современного искусства – кратчайшего и удобнейшего – за счет сноса всего остального, внемагистрального, а когда оратор умолкнет, с самым кротким видом скажет: «С одной стороны».
Не то чтобы накладывая резолюцию – нет, с интонацией незавершенности, как бы приглашая к продолжению. Но продолжения почему-то уже не получается… Возникает галдеж. Валя идет на кухню, несет картошку, масло, селедку. И остальное… И всё шло только на пользу.
С пищей же духовной было по-разному. В марте 1945 я впервые за войну наелся, да как – у тети в Мариуполе слопал банку тушенки. И мучился-страдал недели две. А тут не две недели, тут лет 10 – и не я один. Может, я как раз и меньше других. Насчет поэзии мозги запудрить мне было уже трудновато, и вкусы, мнения мои и сейчас примерно те же. Другое дело – всё изобразительное. Беда моя была та же, что у большинства: у меня просто-напросто не было, что называется, глаза, вкуса к живописи. То есть было восприятие – как здание без основания, без самой первоначальной, органической реакции на цвет, фактуру и т. п. – той, что у любой модницы и рукодельницы.
Скажут: «Краси-иво…» И смотришь: ну и что тут красиво?.. Считаю этот мелкий факт своей биографии любопытным типичностью, если не сказать – знаменательностью. Избавление, высвобождение из-под всей пропагандистской нагрузки социалистического так называемого реализма – это было первое условие. Глотнуть воздуху, а там уже можно начинать разговаривать. Значит, святое дело, первое дело – снимать с искусства всякие нагрузки. Искусство надо настоящее, современное. Свободное, естественное, каким оно само хочет быть. И т. д. Недогматическое. Не выставят, за него не заплатят, но за него и не посадят – сейчас, пока что. В своем кругу можно. Значит, дело за малым – самим таким искусством. Ну и где же оно у нас? И тут вот заминка. Искусство-то есть уже и есть, пожалуйста – Рабин. Нравится? Еще как, больше всех. Но правильно ли он мне нравится, то ли, истинное ли это искусство? Наконец-то вполне свободное и т. д. Опять-таки я не о себе – играю за другого. Другого этого не было, однако, много. Большинство – если – не подавляющее, то давившее на мозги и давившее.
Нет, искусство вполне свободное и как таковое – с ним явно было неладно. Бывает ли оно, есть ли оно в природе – вопрос пока отложим, но в 60 году в этой стране его, думаю, не то чтобы не было – быть не могло. – Всё, не надо идейно: давай красиво. – А что это такое – красиво?.. Конечно, вслух с таким вопросом не выступали, совсем напротив: что такое настоящее искусство, а не то, каким нас хотели обмануть, – это все знали назубок, первым делом. То есть что такое красиво – знать знали. Да вот беда – знали умозрительно…
Помните «Зеленый фургон» Козачинского? Как сформировалась даже научная теория, считавшая поимку преступника практически невозможной, и сам товарищ Ценципер, начальник угрозыска, разделял и поддерживал эту теорию?11661166
Начальник угрозыска у Козачинского не товарищ Ценципер, а положительный герой, но соответствующий эпизод в повести есть: «Обнаружение украденных лошадей в те времена в уездном розыске считалось почти невозможным. Сам начальник уезда товарищ Цинципер поддерживал эту теорию…». Возможно, это воспоминание о персонаже Козачинского связано с помещенной в «Огоньке» статьей о выставке «Другое искусство», написанной И. Осколковым-Ценципером и вызывавшей негодование Некрасова. – Прим. публ.
[Закрыть] Не знаю, как в угрозыске, а в искусстве пришло, пришло время товарища Ценципера, диктатура болтуна сменяет диктатуру начальника. И что поимка пре…, то бишь понимание произведения искусства, с современной научной точки зрения невозможно и по меньшей мере не обязательно – больше и не теория, а уже азы обучения. Не нужно «понимать»: надо знать…
Да я же помню его, вижу как облупленного, его лично или такого, как он, – он еще не паразит, только целится. Пока болтун и болтун. Вот мы рядышком на рабинском диване или на лежаночке Евгения Леонидовича, силимся постичь секрет: почему вот эта работа «лучше»? Чем «красивей»? Дураки пока оба, но покуда я пытаюсь вникнуть, сообразить, сопоставить, а, главное, увидеть, он уже начинает путь к вершинам освоения знаний. Слышу, уже делает выкладки… Учится смотреть не глазами, а языком. Слепым органом. Учится и распространяет учение.
Не зря же Евгений Леонидович обожал нагонять азарт, устраивать среди посетителей своей каморки (от 2-х до 5-ти, больше редко: тесно) тараканьи бега, безденежные аукционы (иногда и покупали, тратя сколько могли, но не часто) – но главное была личная прямая заинтересованность не ошибиться в выборе – уж тут наука наукой, а сам не плошай… Из-под руки Евгения Леонидовича, с утра усаживавшегося за рисование как некое рукоделие, в иные дни выходило разных набросков с десяток, а может, и больше. И много чего шло прямо в печку. По свидетельству Ольги Ананьевны – совершенно напрасно. Лучшее Евгений Леонидович откладывал, а остальное запросто мог подарить первому гостю. А мог и не подарить.
Наброски, рисунки были самые разнообразные: абстрактные, фигуративные, натуральные, обобщенные, вариации по этюдам с натуры и портреты, и букеты, и особенно цветы. Разрабатывались мотивы и прогонялись по целой парадигме стилей и техники, к которым добавлялись вновь изобретенные и разработанные. И потеха, которую время от времени Кропивницкий-дед устраивал с нашим братом, кидая нас в это море художественной разноголосицы, – иногда чуть-чуть и нарочитой – и заставляя делать какой-то выбор, а не просто созерцать, – она, по-моему, была для него продолжением все той же затеи «под Пикассо», форсированной чехарды манер и стилей. Никого он не мистифицировал, не издевался. Ни в коем случае. Он любил эти все свои стили, но еще больше любил их менять. И никакой рисунок, никакую почеркушку не хотел делать плохо – конечно, честно, только хорошо. Но он по-своему, почти не вылезая из своего угла (а угол самый дальний – Долгопрудный – это уже было целое путешествие, в него пускались обычно редкие из лианозовских гостей, и недаром горе-воспоминатели сейчас поселяют и Е. Л. в Лианозово – а он с женой жил как-никак еще на 6 км подальше), по живости натуры принимал, может, как никто бурное на свой лад участие во всей московской каше. Очень не прочь бывал мирить и ссорить, но главное, поддавал изо всех сил жару под котел непрерывных выяснений отношений с искусством, панического, судорожного, многократно ускоренного его постижения после 30 лет голодного пайка… И сам и поддавался панике, и потешался над ней.
Все, в общем, одного хотели: избавиться от догматичности в искусстве. Ради этого хватались за любые альтернативные догмы – иногда самые уродливые. А догматизм ведь не обязательно от какой-то злонамеренности – от убожества, невежества. Беспомощности. Спешки. И одолевается практикой, опытом. Что, собственно, и шло. Но вот так вот.
И ей-богу, для девятерых из десяти, толковавших о чистой живописности и Сезанне, Сезанн был именно выбранной догмой – самой солидной. По мере того как я учился глядеть живопись (а все-таки я учился), я лучше видел и природу этой солидности. Но дело в том, что такой живописный пуризм догмой был и для десятого. Десятый (ая) вроде бы и сам имел практический, собственный опыт, иногда даже был художник. Он действительно опирался на опыт, но что-то было не так с самим опытом (по крайней мере в здешнем контексте). И правда видел, имел глаз, но глаз какой-то – отдельный от головы. И всякие как бы свысока роняемые или подразумеваемые замечания насчет рабинской сюжетности, литературности звучали как зуб со свистом – всё равно неубедительно. Но звучали или проглатывались, в общем, регулярно. «А вот я смотрю, и все-таки думаю: ну а как бы Оскар натюрморт написал?..» и т. п. Передовая общественность желала непременно всё мерить Фальком, тем более что насчет, скажем, Джаспера Джонса11671167
Джаспер Джонс (род. в 1930) упоминался Некрасовым в связи с работами Кошута при посещении мастерской И. И. Кабакова в 1983–1984 годах. Одна из основных еще неодадаистских работ Джонса «Флаг» (1954–1955) уже была известна в СССР как предвестие концептуализма. – Прим. Е. Пенской.
[Закрыть] находилась пока в полном неведении… Рабин потихоньку злился, по-моему; отмалчивался, упирался и незаметно для себя, чуть-чуть, но поддавался. К сожалению. Так мне кажется.
По-моему, первые картины, которые я застал в Лианозове, – они не только мне показались по первости, они и были самыми сильными, свежими, острыми. И в основном, насколько помню, темперными. Возможно, я тогда не знал толком и слова «темпера», но эффект подлинности от шероховатой, «штукатурной», лишенной видимой разделки поверхности помню отлично. Как и цвета московского непогожего электричества – серый, желтоватый, зеленоватый и фиолетовый, школьный – цвет известки на синих пиджачках или мела, толченного в чернильнице. Мокрая тряпка на классной доске оставляет следы такого же цвета – только мазистее, экспрессивнее… Как хотите, вот это было живописно, это была живопись. Сегодня из тех картин 59 года в Москве я знаю только подаренную в свое время Леониду Ефимовичу Пинскому, с которым Рабин был в самых добрых отношениях11681168
Возможно, имеется в виду та, которая в 1991 году демонстрировалась на выставке Рабина в Литературном музее: «Букет цветов», 1958, бумага, темпера. – Прим. публ.
[Закрыть]. Картина в Москве, думаю, лучшая, но другие тогдашние помнятся еще острей, пронзительней, открытей той самой сюжетности, которую все пытались изгнать куда-то… И как раз 60 год – время, когда у Рабина становится меньше темперной, больше масляной живописи. Он сам говорил, помню, о каких-то технических резонах, но мне чудилось, что его все-таки «завели» наши эстеты, и он взялся им что-то доказать насчет живописи. Возможно, и доказал, не спорю. И мир картин вроде остался всё тот же. И впереди были удачи и успехи. Но я всё думаю – если бы можно было собрать Рабина-58-60 и показать как следует, многое стало бы на свое место.
Острейшая, активная сюжетность (разумеется, не МОСХовская) и рождала антиживописные темперные эффекты – глухие, шершавые и в то же время светящиеся поверхности, большие оконтуренные пятна почти локальных цветов. И это было то, что надо. Эта «антиживопись» очень быстро – года через два, три – обернется, как водится, вполне живописью; не совсем, конечно, эта же самая живопись, поскольку и художник другой – Михаил Рогинский. От Рабина прямо он никогда не зависел – по работам это очевидно. Своей дорогой, от театральной декорации он пришел к эффектам того же характера, звучания. Такой же антиживописи – только выделил, подал ее, сделал программной – и эстетам пришлось с ней посчитаться. Сама его цветофактурная конкретика спичечных коробков, огромных синих оберток от рафинадных пачек (были, были такие) по сути совершенно рабинская, только от нее так просто не отделаешься: да и прошел уже слух о попарте…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































