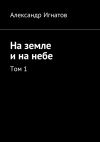Текст книги "Вначале будет тьма // Финал"

Автор книги: Михаил Веллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц)
Сука
Москва. 42 дня до финала
Она не любила футбол. Не ту игру, в которую играют во дворе мальчишки, а ту, которую показывают по телевизору. С голосом комментатора у нее перед глазами каждый раз возникал образ отца, сидящего перед экраном. Все как в том стереотипе: мужик, диван, пиво. И все как в том анекдоте: мужик, разговаривающий с телевизором. Он всегда громко комментировал игру, называя футболистов то «кривожопыми балеринами», то «левоногими педиками». Жутко матерился, когда они пропускали очередной мяч, и ходил в отвратительном настроении, когда они проигрывали. А проигрывали они постоянно, и тогда отец срывался на мать, обвиняя ее во всех бедах мира. Мать терпела, прячась за томик Рильке, а она никак не могла понять, зачем и как эти столь разные люди вообще могли найти друг друга. Однажды она прямо спросила об этом у матери и получила ответ: «Жаль его». И в этом «жаль» чувствовалось какое-то превосходство, даже высокомерие. Но сама она терпеть ничего не собиралась: ни тупости, ни глупости, ни притворства. Говорила все прямо, за что ее считали сукой.
Позже к этому детскому отторжению по поводу футбола присоединилась липкая грязь, которая лилась из СМИ. Где в большей степени говорилось не о заслугах футболиста, а о его гонорарах или переходе из одного клуба в другой. О купле и продаже. О брошенных женах, развлечениях в бане и драках. При этом сами эти люди были мало похожи на спортсменов, больше на метросексуалов, озабоченных своей внешностью, и в какой-то степени оправдывали определение отца: «балерины» и «педики».
Отец ушел сам, когда узнал, что у мамы рак. Эти два года, пока мама тихо и ни на что не жалуясь угасала, были, пожалуй, самыми счастливыми в ее жизни. Они продали дачу, сдали квартиру и уехали на море, которое обе любили. Мама отказалась лечиться. И первое время она пыталась ее переубедить, но потом поняла, что это бессмысленно, а после маминой смерти вернулась в Москву.
Журфак МГУ и мамины знакомства позволили ей устроиться на хорошую работу, но писать заказные статьи вскоре надоело, и она ушла в рекламу. Свою работу она любила, была требовательна и к себе, и к сослуживцам, из-за чего быстро продвинулась по карьерной лестнице, но заслужила нелюбовь коллег. Женщины ее молча ненавидели, мужчины побаивались, а она и не пыталась снискать их любовь. Первое время она еще переживала, когда видела, что человек обиделся на ее слова, а потом поняла, что умный поймет, а глупый долго переживать не будет, обзовет сукой и пойдет дальше.
Секс она тоже любила, а вот встретить человека, с гундежом и загонами которого могла бы смириться, пока не получилось. Она прекрасно понимала, что сможет жить только с тем мужчиной, которого будет любить. А секс – секс можно найти всегда, и в этом ее поведение больше напоминало мужское: на раз, без обязательств и обмена номерами телефонов. Ей даже не всегда было известно имя партнера. Главное, чтобы возник импульс, а потом все случалось безо всякой ложной стеснительности и манерности. Она вообще не могла понять, как люди умудряются устраивать клоунаду даже здесь, когда ты знаешь, что будет, когда ты уже раздет и нет никаких ограничений. Регулярные занятия йогой сделали ее тело способным получать удовольствие в любой позе. Способ проникновения тоже не имел никакого значения – лишь бы не боль или приятная боль. Главное, должна получаться музыка. Громкая, тихая, медленная или быстрая, но все время в унисон. Сама она очень чутко реагировала на диссонанс и старалась подстроиться (прогнуться, выгнуться, провести пальцем, губами или языком), чтобы максимально совпасть с телом партнера. А потом всегда уходила домой, по опыту зная, что музыка ночи сильно отличается от утренней. И нужно будет видеть глаза этого незнакомого человека и вести какой-то пустой разговор…
Его она заметила сразу. Он смотрел на нее так искренне и беззастенчиво, что если бы у него был хвост, то он радостно бился бы о ножки высокого барного стула. Замедляясь и практически останавливаясь, когда она отводила от него взгляд, и ускоряясь с новой силой, когда она вновь на него смотрела. В ней тоже поднялась волна какой-то нежности, и ее несуществующий хвост сначала медленно и неуверенно, а потом все быстрее забился в такт с его. Чуть позже этот ритм они отбивали у него дома, и такой трепетной мелодии в ее жизни еще не было. Она звучала, не останавливаясь ни на минуту. Затихая, замедляясь и вновь набирая обороты и громкость, но всегда совпадая и без единой фальшивой ноты. И все было хоть и незнакомо, но на своих местах и как надо. Каждая, даже самая маленькая впадинка совпадала с выпуклостью. Каждое, даже самое неуловимое движение вызывало ответный трепет. Каждое слово или взгляд поднимали волну, доводящую звук до крещендо, а темп до аллегро. А потом с ней опять случилось то, чего раньше никогда не было: впервые в жизни ей не хотелось никуда уходить, а хотелось лежать у него под боком и чтобы это длилось вечно…
О том, что он футболист, она узнала только утром, да и то после того, как они еще и еще раз убедились в своем полном совпадении. Договорились встретиться через два дня, и эти два дня она ходила, опасаясь расплескать ощущение его прикосновений на своей коже и движения внутри себя. И всю дорогу думала: «Неужели это он…»
У нее была мечта. Она появилась, когда они с мамой жили на море. По соседству с их домом, прямо в палатке на берегу, все лето провели парень с девушкой. Она постоянно встречала их на прогулках, издали наблюдая, как они держатся за руки, разговаривают, сидят вечерами у костра, разведенного прямо у кромки воды. И эти светящиеся, обращенные друг на друга и не замечающие ничего вокруг лица вызвали в ней зависть и сожаление. Она остро осознала, что ничего подобного в ее жизни не было и что это именно то, чего она по-настоящему хочет. Нет, не мимолетный курортный роман, о котором позже можно рассказать знакомым, а именно тот самый мужчина и то самое море.
Она представляла, как ранним утром идет босиком по бесконечно длинному берегу, где песок и вода одинаково прохладны и чисты. Это не тропическая, бьющая буйством красок наотмашь, а спокойная и тихая красота. Где в море смотрятся не пальмы, а сосны. Где песок цвета сильно разбавленного молоком кофе, а море цвета неба. А небо соединяется с морем безо всякого шва горизонта. Рядом собака, которая бегает по ведомой ей одной траектории, изредка останавливаясь и заглядывая в глаза, будто спрашивая: «Все хорошо? Ты счастлива?» Да, все хорошо и счастлива, потому что дома ее ждут. И сейчас она взойдет на крыльцо, смоет песок с ног, на цыпочках поднимется по лестнице, откроет дверь в спальню и прохладной рыбкой юркнет под одеяло. Нежно поцелует пока что мягкое и беззащитное. Кончиком языка проберется под кожицу и будет обнимать губами до тех пор, пока это беззащитное не нальется силой и не войдет в нее, не оставляя ни малейшего зазора для страхов, сомнений и одиночества…
Через два дня они встретились как два донельзя замерзших человека, и никакие силы не смогли бы их в тот момент разъединить. А потом она рассказала ему о бесшовном небоморе, о чистом песке, соснах и собаке. О том, что именно с ним она хотела бы жить в доме на берегу и будить по утрам, проскальзывая рыбкой под одеяло. Он счастливо рассмеялся и произнес слова, которые перечеркнули все. «Мужик и море». И не было ничего обидного в его словах, но они нивелировали мечту до пустоты. До вакуумной тишины, в которой слышался хрустальный звон рухнувшего воздушного замка.
И был прощальный поцелуй, и беспокойство в его глазах, и обещание увидеться завтра, и знание того, что это не произойдет.
Глава 11При Ём
Москва. День накануне финала
Еремеев знал, что перед финалом кремлевский прием необходим и неизбежен и что вне зависимости от результатов последней игры вся команда официально получит по миллиону, неофициально – по пять и по «Ладе»-крымчанке, и если они вырвут финал у славонцев – то авторам голов и лично ему Героя, а остальным «заслуги перед Отечеством» второй степени. Все это его не прельщало. От героя он бы даже отказался – стыдно было перед дедом, дед воевал, а они что? Ему важно было доказать – неважно кому, – и победить – неважно кого. Но он знал, что на самом верху этому финалу придают сверхъестественное значение и ожидают Бог знает чего, чуть ли не последнего божественного оправдания всего содеянного в последние годы. Эта победа оправдает и Крым, и Донбасс, и любые санкции, и пенсионную реформу, и сгнившее здравоохранение, и нефтяную иглу, и ворующих деток на всех постах, она от самого первого лица – первей и выше уже некуда – санкционирует все. То есть мы эти двадцать лет все делали правильно, и это не финал чемпионата, проведение которого мы выгрызли зубами и тоже не особо чисто, – это финал всех двадцати лет и, поднимай выше, всей российской судьбы.
Это было сравнимо с той победой и в каком-то смысле не меньше, чем та победа. На кону не стоял, конечно, тогдашний вопрос насчет быть или не быть. Но стоял вопрос о том, права ли сама Россия, можно ли так, возможна ли такая сверхдержава и все, что она позволяет себе наворотить, не сообразуясь ни со здравым смыслом, ни с людским благом. Вопрос был в том, одобряет ли Бог. Как судьбы великих битв и целых династий решались в поединке, так теперь все, что называется Россией, особым путем и единственной судьбой, было поставлено на карту. Проигрыш был бы страшней, чем вылет в первом круге, ибо с высоты больнее падать, в сантиметре от яблочка обидней щелкнуть зубами и низвергнуться. Очень может быть, что они были неправы, вот так вот ставя на все, на последнее. Но времена были такие, что ничего больше и не было. Это вам уже не социализм, приговаривал себе Еремеев, копаясь в дедовских «Жигулях». Он для чего-то поддерживал этот «жигуль» на ходу, поменял ему часть начинки, не отгоняя в сервис, – его успокаивала и даже гармонизировала эта работа, и ранним утром накануне приема он копался в моторе, отирал руки ветошью, менял масло, снова вытирался – и все это время про себя бормотал по делу и не по делу. Какая-то часть дедовой души осталась в «жигуле», и поддерживать его в рабочем состоянии было как реанимировать деда.
Да, говорил он, поставили они все, и это неправильно. Даже тогда, в той войне, на самый крайний случай можно было сказать – коммунисты виноваты. А теперь не коммунисты, теперь все мы русские, и все, что мы делали, было по-русски, и побеждает русский футбол как русский способ побеждать. Если мы окусимся – неправильно было все, начиная с Александра Невского, а если выиграем, чего не может быть, но быть может все, – если выиграем, тогда, значит, мы на все имели право. Тогда правильно положить за век шестьдесят миллионов своих во внешних и внутренних войнах; никого не щадить, ни с чем не считаться, брать числом, давить массой, выкашивать лучших, презирать всех, как теперь, и ненавидеть всех, как теперь; если мы победим, то вместе с нами победит все вот это, а не победить мы не можем, потому что это мы. Выбор этот был ложен и токсичен, как все местные споры и выборы, и все-таки они должны были побеждать, потому что на это была сделана финальная ставка. Как же тут без приема? Никак без приема.
Он вышел из гаража около полудня. Специально ездил в этот гараж на окраину, на северо-восток, где тянулись вдоль МКАДа длинные железные ряды этих гаражей еще с семидесятых. Тут он вырос, тут пережил первые вечерние любовные томления – во дворе близ Кольцевой, с которой днем и ночью доносился грузовой гул; тут захватывало его невыносимое, невыразимое чувство светлой окраинной тоски, чувство моря, которое должно начинаться за новостройками, – а на самом деле там просто обрывалась Москва, которая шагнула теперь уже и за МКАД. Не было тогда здесь ни «Икеи», ни «Меги», ничего не было, зато играли на гитаре вечерами там, где днем играли дети, и рядом был его первый стадион, ныне застроенный гигантским моллом. Он вышел, посмотрел на гаражи, рядом с которыми копались такие же, не изменившиеся за сорок лет мужики, а во дворах неподалеку пищали дети, и с Кольцевой доносился такой же гул, и по-прежнему казалось, что неподалеку будет море. На короткое время, пока садился в свой «Лендровер», он поверил даже, что они выиграют завтра; но пока ехал домой, как-то остыл. А прекрасный был день, тихий, нежаркий, редко выпадали ему такие дни.
Прибыть им было назначено к двенадцати, Еремеев просчитал, что начнется, значит, не раньше пяти, потому что досмотр, инструктаж, легкий обед – все это часа на три, плюс ничто теперь не начиналось без приличествующего опоздания, каковым подчеркивалась экстремальная занятость Верховного. Но он ошибся: их протомили до семи, после чего, пропустив еще раз через три рамки и отняв все, кроме носовых платков, которые просветили отдельно, завели-таки в Георгиевский зал.
Еремеев уже был тут один раз и мог сравнить убранство. Он с детства помнил формулу «в траурном убранстве» – тогда еще приходилось ее слышать, смерти обставлялись пышно. Теперь никто не умирал, и убранство было светозарное. По стенам развесили портреты Сборной в компьютерной обработке – якобы мозаика; типа сам Ломоносов восстал, чтобы исполнить их из своего чудесно окрашенного стекла, которое иные дураки чтут ниже минералов. Неправо о вещах те мыслят, Еремеев, которые жидов считают за евреев, – вспомнилась ему сомнительная шутка комментатора Басова. Над столами висели готовые рвануть под потолок шары в виде мячей, сами столы покрыты были зелеными скатертями с разметкой, вместо красной дорожки для Верховного протянута была новая, зеленого бархата, и официальные лица – сюрприз – явились в форме Сборной, каждый с фамилией. То есть готовились загодя и весьма серьезно – у Еремеева мелькнула даже ужасная мысль, что в самом деле все было куплено, что с самого начала предусмотрены и эти победы со всеми их случайностями, и этот банкет со всеми его разметками. Блеску и блицев было столько, что все жмурились и щурились. Их ни о чем не предупредили, и все они, как идиоты, парились в костюмах среди сплошных маечек и коротких штанов, – обычно бывало строго наоборот, и в этом, видимо, заключался юмор. Единственные, кто явился в традиционном облачении, были попы. Патриарх скромно стоял у стены, спикером был назначен митрополит Крутицкий и Коломенский, главный говорун патриархии, специалист по внешним сношениям и развесистым аналогиям.
Ровно в половине восьмого распахнулись двери, и голос свыше анонсировал явление Верховного. Еремеев видел его и раньше, но никогда так близко. Он и в нем заметил перемены: лицо его обтянулось, высохло, – то ли он отказался от инъекций, то ли нервничал так, что и они не помогали. Волосы заметно поредели, тут инъекции не действовали или он к ним не прибегал. Он стал как будто чуть выше ростом (каблуки?), меньше двигал руками при ходьбе, на лице его застыло слегка насмешливое выражение, словно он иронически недоумевал, отчего собрались все эти люди; брюки наконец были строго по росту, без уродливых морщин над ботинками. Верховный был в темно-синем костюме, дабы выделяться среди карнавальной свиты, но галстук был зеленый, в цвет ковра, в тон поля.
Еремеев смотрел на него со сложным чувством. В сущности, он все про него понимал. Он все знал про его случайное вознесение, про гэбистские взгляды и соответствующий горизонт, про злопамятность, жилистость и дворовые привычки. Но понимал он и то, что иначе на его должности никак нельзя, такая уж это должность, с единственными ходами, и всю жизнь он делал единственные ходы, иначе нельзя было, если хотел выбиться из того самого двора. Все у него было единственное, и на его месте сам Еремеев действовал бы точно так же, плюс-минус Крым, но и с Крымом, если вдуматься, те сами были виноваты. Ну а кто? И он тоже, как Еремеев, отвечал за всех, и прилетало за всех ему, хотя ему, как и Еремееву, действительно достался не лучший замес, не лучшее время – тухловатый народец, без огонька, без задоринки. И он тоже, как Еремеев, был на самом верху этой пирамиды, на острие тактики 4-2-3-1, и ни одна сволочь не подставила бы ему плеча. Тут уж надо было только жестко – и Еремеев сам изумился, что мысленно сказал это ненавистное слово. Жестко надо. И весь он был жесткий, потому что, если хочешь жить и чтобы не снесли, тебе надо играть на том единственном, что еще тут работает: на стокгольмском синдроме. Чтобы все вокруг тебя, как гранатовые зерна, – потому что внешний враг против всех. Чтобы на переправе не менять, нужно обеспечить вечную переправу. Чтобы не быть одному против всех этих людишек, неспособных позаботиться о себе, надо было выстроить схему, при которой все эти людишки одни против мира, спина к спине у мачты против тысячи вдвоем. Спина к спине у матча, подумал он. Вот так мы с ним и стоим, и весь мир против. То ли сам воздух Кремля подействовал на него, то ли и вправду в таких мыслях был резон, но схема показалась ему безупречно логичной; на вершине пирамиды выбора нет.
Слово предоставилось митрополиту, и он возгласил:
– Братие и дружине, как обращался русский князь к войску перед решительным боем! Сегодня именно этими древними словесами, – он сказал «древлими», – хочу обратиться к вам от имени православной Церкви, общей нашей матери. Да пребудет с вами в решающей битве с супостатами дух святого Александра Невского, покровителя православного футбола…
«Какого Невского, почему покровителя? – оторопел Еремеев. – Невский уж тогда покровитель хоккея, суровый бой ведет ледовая дружина! И с кем-то я вчера говорил о нем?» – говорил он с самим собой, в гараже, но теперь этого не помнил. Впрочем, митрополит быстро все объяснил.
– Это святому князю Александру принадлежит тактический прием чудской защепки, благодаря которому и помощи Божией была выиграна судьбоносная битва в 6750 году от сотворения мира, от Рождества же Христова 1242-м! – воскликнул он победительно, как если бы добежал наконец до Москвы от Чудского озера с радостной вестью, и тут бы ему рухнуть, а дистанции в 784,4 км называться Ювенальной. (Интересно, пустят ли они завтра гонца из Лужников в Кремль? И будут ли ежегодно бегать этим маршрутом, перекрывая Новый Арбат?) Но он не рухнул, а лишь вознес к небу победный перст. «Мать моя женщина, – соображал Еремеев. – Защепка, защепка… откуда они ее взяли? Волжская защепка, Абрамов, куйбышевские “Крылышки” пятьдесят лохматого года. 3-4-3, впереди Ворошилов – Гулевский – Новиков, вместо инсайдов полузащитники, игра от обороны, не от хорошей жизни, бедная послевоенная команда, хилые ребята, в гостях выгрызали ничьи, на своем поле выигрывали со страшным скрипом. Да, была такая схема, – собственно, про Абрамова рассказывал нам Зонин, читавший тактику, славный старик, глухой на одно ухо от попадания мячом на тренировке; но кто ж знал, что это придумал Александр Невский? Значит, они тоже играли от обороны. Кто ж у него был хавбеком?» И Еремеев хихикнул было, но устыдился.
– Как вам, несомненно, известно, – дружески, почти фамильярно обратился к команде митрополит, – католический покровитель футбола святой Луиджи Скрозоппи ни дня не играл в футбол, и как он там им покровительствует – видели все мы.
«Этого не надо бы», – мелькнуло в голове Еремеева.
– В отличие от него святой князь Александр Невский был мастером во многих спортивных играх – не было ему равных в борьбе-за-вороток, в борьбе-на-поясках, в городках, шолыге, ярыжке, топтушке и батожном боище. Вижу, как небесный покровитель российского футбола небесным покровом одевает нашу сборную, как в сиянии его славы наши витязи преследуют противника, как одолевают молитвой, постом и неуклонной тренировкой нечестивую силу русофобскую, как влетает в ворота мира золотой мяч русской судьбы!
При сих словах специально обученные люди перерезали нитки, и черно-белые шары русской судьбы устремились к потолку, в который и врезались с мягким «пумп».
Слово взял Верховный. Он помолчал, откашлялся, обвел всех взглядом, словно по-прежнему недоумевая, зачем тут он и все, потом бодро сказал:
– Соотечественники!
Пауза.
– Сегодня мы все соотечественники, верно? Сейчас между нами нет никаких различий – ни идейных, ни возрастных. Завтра вся страна, затаив дыхание, будет следить за главным матчем на планете, за главным спортивным событием года, а может быть…
Пауза.
– А может быть, и пятилетия, – закончил он скромней, чем можно было ожидать. Можно было ожидать «века». Перед ним лежала бумажка, но он в нее не заглядывал. – Наши парни, – он заговорил разреженно, с пятисекундными интервалами, – наши простые парни… русские мужики… показали уже всему миру… довольно неожиданно для всех нас показали, надо сказать… показали всему миру то… чего весь мир тоже никак не ожидал увидеть.
Долю секунды все размышляли – грохнуть или улыбнуться; пока выбирали, решимость пропала, и по залу пронесся тихий, деликатный, как бы дипломатичный смешок. Это звучало несолидно, и все, как будто до них дошло, с запозданием грохнули.
– У нас принято было, – продолжал Верховный, выждав, – было принято у нас ругать свой футбол. Даже это было темой шуток, реприз. Как теща. Но это был признак плохого вкуса. Ругать своих – вообще признак плохого вкуса. Не просто плохого человека, нет, говорю это специально для некоторых наших партнеров. Но именно плохого вкуса.
Он опять помолчал.
– Россия, – тут он уже рубил, перейдя на тот самый жесткий тон, – всегда становилась первой. Там, где от нее этого не ждали. Не потому, что новичкам везет. Мы знаем, что нет никакого везения. Везет тому, кто везет. Но просто потому, что мы умеем выживать в меняющемся мире. Мы умеем отвечать на вызовы. Таким вызовом стала война. И мы стали первыми в военном деле. Таким вызовом был космос. Мы стали первыми в космосе. Сейчас таким вызовом стал этот чемпионат. Мы получили этот чемпионат. Мы должны стать первыми на нем. И я верю, мы станем первыми на нем.
«Это какой же он видит Россию? – прикидывал Еремеев. – Это какая-то сказочная девка, которая никогда не пробовала – и у нее все получилось. Сидят какие-то мудрецы, рядят, гадают. Так нельзя и этак не получится. А тут вышла она, рукавом махнула – и все вышло: вылетела ракета, “катюша”, мяч в ворота. И никакого нет дела до того, что на самом деле сидят все молодые-откормленные, а она старая, вышла, брюзжит, волосенки седые, нос загибается в рот, рукавами машет, вылетают кости… Ему неважно. Он видит вот такую, и правильно. Если он будет видеть другую, для чего ему вообще просыпаться?»
Он понимал, что сейчас надо будет отвечать – заверять, клясться, – но от этой необходимости его спас Остапченко, который рванулся вон из ряда и уверенно зашагал к микрофону. Вероятно, это было согласовано – хотя с кем такое могло быть согласовано, если тренер ничего не знал?
Верховный учтиво посторонился. Костюм сидел на Остапченко, как на медведе.
– Товарищи! – сказал он вдруг тем комсомольским голосом, который ему неоткуда было слышать. – Товарищи, господин Верховный главнокомандующий! (Он именно так его назвал, а не президентом). Мы заверяем… лично я заверяю! Вот можно много тут говорить…
Он раскраснелся, его южный акцент стал еще отчетливей, он словно желал подчеркнуть, что да, перебежал – с неправильной стороны на правильную!
– Можно много разглагольствовать тут, много тут, как грится, налить воды… Но я просто хочу от себя сказать: спасибо, во-первых. Мы ощущаем заботу… каждую минуту! И без вас лично… вообще ничего бы не было! И мне есть с чем сравнивать, и я хочу сказать: таких, как я, очень много! Там, где я жил… – Он словно боялся произнести название бывшей родины. – Там, где я жил раньше, мне же пишут оттуда. И я знаю, как с надеждой смотрят на вас. Именно на Россию. Это не только на востоке, это так везде. По всему левому берегу и много по правому. И я вам лично хочу сказать, что мы не пожалеем сил, не пожалеем крови и самой жизни! Что я лично за вас отдал бы… что это не игра, что завтра не игра, вообще игры кончились! Я от всех скажу, один от всех ребят… что все ребята… не жалея, ничего не пожалев… шо мы за вас все, за вас лично… мы завтра порвем!
– Жопу, – пробормотал себе под нос Царьков, и Еремеев кивнул. Он мог теперь сознаться себе, что очень не любил Остапченко и никогда не будет его любить.
– Ну зачем же, – мягко сказал Верховный. – Зачем же кровь проливать? Завтра водки много прольется, это верно. Но для праздника, который, я уверен, вы нам подарите… это можно. А пока, поскольку вам надо еще отдохнуть… самое время нам всем вместе поднять бокалы минеральной воды!
Все задвигались, переходя к столам. Против ожиданий, за столами было скромно: давно ушли в прошлое все эти изыски кремлевских поваров, о которых Еремеев читал в мемуарах, с недавнего времени любимой своей литературе. Не было ни рябчиков, ни белорыбицы, ни заливной осетрины с фигурно вырезанной морковью, – ничего из этих чудес, приготовлявшихся, видимо, на экспорт. Так, буженинка, карбонадик, колбаска вполне нарезочного вида, – скромненько, но со вкусом; огурчики там, помидорчики. Когда Еремеев уже наливал себе минералки и прицеливался к маринованному грибу, наметилось новое движение, и Верховный с двумя шкафообразными личными охранниками приблизился к нему. Еремеев поспешно встал.
– Виктор Петрович, – сказал Верховный, пожимая ему руку с особенным усилием, словно выжимал силомер. – Ну вы понимаете, да? Я надеюсь. Вы там повнимательнее и поосторожнее.
Тут Еремеев ощутил странное. Близость власти, то, се – обычная вещь, не нужно особенного раболепия, чтобы уважать главу государства, тем более такого. Но в эту минуту Еремееву словно передалось вдруг чувство всей тяжести, которую тащил Верховный, и всего ужаса, в котором он жил; он буквально поставил себя на его место и посочувствовал всем, что осталось у него от души за пятьдесят пять лет жесткой жизни. Он в эту минуту действительно любил Верховного, как можно любить собственную неуклюжую старую родину, которая умудрялась из любых ситуаций выходить наихудшим способом; она была одна, другой у него не было, как не было другого отца и других «Жигулей».
– Мы постараемся, – сказал он, с трудом ворочая пересохшим вдруг языком.
И Верховный понял.
– Ничего, ничего, – сказал он и вернулся во главу стола.