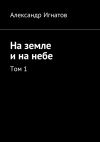Текст книги "Вначале будет тьма // Финал"

Автор книги: Михаил Веллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц)
Эта страна
Москва. 3 дня до финала
– Хорошо, что тут еще можно достать нормальное пиво, – Оля поставила на низкий столик бутылку из-под «Короны», в горлышке которой по всем правилам торчал прямоугольный ломтик лайма. – Местное быдлопойло я никогда в рот не возьму. Митя, тебе прихватить?
Дима вместо ответа помахал своей бутылкой, полной еще на две трети, и проводил взглядом Олю, проследовавшую мимо него в коридор и дальше на кухню. Он находился в той стадии влюбленности, когда уже замечаешь многие недостатки предмета своего вожделения, но все они кажутся тебе настолько милыми и пронзительно трогательными, что в конечном счете любишь больше всего именно из-за них. Олина попа, чья хозяйка надела сегодня выцветшие джинсы на бедрах с широким золотистым поясом и коричневую футболку в обтяг, была, конечно, несколько тяжеловата, особенно в сочетании с небольшим ростом. Но в сердце у Димы ее вид неизменно вызывал сладкое томление. Еще Оля довольно легко потела, впрочем, этого нынешним раскаленным летом мало кто избегал, и Дима, тайно поглядывая на потемневшую под мышками ткань футболки, испытывал какое-то новое сложное чувство. Он прощал Оле даже ее бесконечных «мить», хотя обычно его дико раздражало, когда кто-то, кроме матери, называл его этим слюнявым детским именем.
Они встречались уже полтора месяца, и Дима надеялся, что сегодня Оля ему наконец-то даст. Все-таки согласие прийти к нему домой в субботу, когда родители прочно свалили на дачу, было вполне говорящим. Нет, они и раньше оказывались наедине, хоть и не так часто, как ему хотелось, но пока что он, выражаясь фразой из дебильно-молодежных американских фильмов, доходил лишь до первой базы.
Оля возилась на кухне – наверно, вытесывала фрагмент лайма для следующей бутылки. Устав разглядывать замершую на экране черно-бледную поганку ядерного взрыва (он поставил «Твин Пикс» на паузу, как только девушка вышла, хотя подозревал, что, промотай он минут двадцать или вовсе вруби другую серию в любом месте, Оля вряд ли что-то заметила бы), Дима переключил на антенну. Ему тут же пришлось убавлять звук, потому что уровень громкости у Первого канала, на который он попал, был гораздо выше линчевского. А в студии «Канарского вече», похоже, царили нешуточные страсти.
– …ничего не хочу сказать, но, меее, простите, ведь на английское происхождение футбола явным образом указывает само его название. Сама, меее, этимология этого слова… – мямлил козлобородый эксперт, седой и тощий, удивительно похожий на полковника Сандерса, забухавшего после того, как ФБР на допросе с пристрастием раскололо его на секретный рецепт из одиннадцати трав и специй, а заодно отжало и всю франшизу. Он собирался развить свою мысль дальше, но не тут-то было. Хозяин студии, невысокий человек, плотно набивший собою двубортный френч из стильно помятого черного льна и обтягивающие брючки – дальних кокетливых родственников кавалерийских галифе, остановил его властным жестом. И заговорил сам, подчеркнуто неторопливо, разделяя слова и четко артикулируя:
– Этимология этого слова нам, – Канарский сделал ударение на слове «нам», обведя рукой невидимых зрителей в студии, – прекрасно известна. А еще известно, что историю. Пишут. Победители. А победителями – не на реальном поле битвы, разумеется, а на информационном, только на информационном, – до недавних пор были именно англосаксы. Нет ничего удивительного в том, что такое замечательное русское изобретение, как полевая шалыга, они решили прибрать к рукам. А чтобы им по этим самым рукам не дали, придумали свое название. И внесли несколько косметических изменений в правила. Кстати. Вы знали, Сергей Сергеевич, что в русской шалыге не было никаких судей? Что полевые арбитры – это чисто британское позднейшее изобретение, искажение. Не было у русских никаких арбитров. Потому что нашим предкам. Просто. Не приходило в голову. Что кто-то может играть нечестно! Понимаете? Для них это было нонсенсом! Какие еще нормальному, думающему человеку могут потребоваться доказательства русского происхождения футбола?!
Сергей Сергеевич раскрыл было рот, но после следующей фразы Канарского с готовностью замолчал, поблескивая стеклами очков в тонкой оправе.
– Кажется, наш сегодняшний гость желает высказаться по этому поводу. Дадим слово. Тем более что если славонской команде сегодня вечером будет везти так же, как и раньше, то именно с ней наши парни встретятся через три дня, в финале. Шансы, скажем так, имеются. Итак, Падво Гандлич, эксперт по истории футбола Республики Славония. Приветствуем в нашей студии!
Славонцев как потенциального противника заранее недолюбливали (а также помнили, какими нашивками щеголял в сороковых особый батальон «Выльна Славония»), так что эксперта встретили разрозненными хлопками. Камера крупно взяла развалившегося в кресле неприятного жирного мужика средних лет с лысой головой.
– Падво́-о-о. Ударение на второй слог, – заговорил он по-русски, чисто, но как-то противно, развязно растягивая гласные. – Если уж говорить о победах Великобритании, то они, безусловно, были. И не только, как вы изволили выразиться, в информационном простра-а-анстве…
Дима, которого происходящее на экране затянуло помимо воли, неожиданно понял, что Оля, оказывается, уже вернулась и теперь стоит в дверях с бутылкой в руках и тоже внимательно смотрит телевизор. Заметив, что Дима потянулся к пульту, она остановила его словами: «Не переключай, давай послушаем эту пухлую гниду. Врага надо знать в лицо» – и присела на самый край дивана, поближе к нему. Вытянула свои трогательные чуть коротковатые ноги и рассеянным движением провела рукой по Диминой макушке. Провела и оставила прохладную ладонь у него на плече. Вниз по позвоночнику скользнул болезненно-сладкий разряд, и Дима с преувеличенным энтузиазмом приложился к своей «Короне», втягивая кисловатый напиток, ставший уже противно теплым и мыльным.
Слава богу, в свои двадцать девственником он не был. Уже три месяца как. Три месяца и пять дней, если быть совсем точным. В самом начале тусклого слякотного апреля после неудачного скоростного спуска в подземный переход на «Маяке» Дима оказался в Тоткинской «травме» с трещиной лучевой кости и с подозрением на сотрясение мозга. Отец подсуетился, дернул старые связи, и Диме досталась отдельная палата в комплекте с повышенным врачебным вниманием. Сотрясение в итоге не подтвердилось – зато на вторую ночь выяснилось, что его одухотворенная бледность, отчасти греческий профиль и волнистые волосы очень понравились дежурной медсестре Лиде. Диме стало можно пить воду, и в полночь Лида принесла полный стакан восхитительно ледяной влаги. Посмотрела, как мгновенно увлажнились его глаза после первого глотка, улыбнулась, погладила Диму по волосам и не убрала руку. Потом, не говоря ни слова, продолжая смотреть ему прямо в глаза, протянула левую руку к пульту от кровати, нажала и держала до тех пор, пока невидимый моторчик медленно, очень медленно привел спинку в полностью горизонтальное положение.
Вспыхнувшие было в смятенной Диминой голове опасения, что Лида пришла к нему из жалости, развеялись почти мгновенно, вместе со страхом, что у него что-то не получится. Тридцатилетняя медсестра знала, как получать удовольствие от процесса во всех его подробностях, и доходчиво, хоть и без слов, давала Диме понять, что она его – получает. Позже, вспоминая ту ночь, он так и не смог разъять ее на фрагменты: было ощущение трепетной силы в его руках, одновременно своевольной и покорной, было чувство, что его постыдное, неуклюжее тело вдруг полностью куда-то исчезло, растворилось, и было несколько картинок-вспышек, запечатлевших загорелую, почти слившуюся с темнотой палаты фигуру Лиды с двумя светящимися белыми пятнами восхитительно очерченных грудей.
Лида приходила и на третью ночь, и на четвертую. А утром пятого дня Диму выписали. Вопреки собственным ожиданиям, Дима не влюбился и никак не пытался связаться с медсестрой. На носу была первая полноценная сессия, и он целиком погрузился в учебу. А потом познакомился с Олей.
Падво, между тем, окончательно попутал берега. Начав с Британской империи, главной целью которой, по его словам, было принести закон и «цивильза-а-ацию» отсталым народам, он перешел ко Второй мировой, уравнял Сталина с Гитлером («разной у них, по большому счету, была только форма усов») и под общий возмущенный гул закончил тем, что присудил победу в ней союзникам – «дьфа-а-акто и дьюрэ-э-э». Странное дело, но Канарский, умевший мгновенно заткнуть и за гораздо меньшее, упорно молчал. Камера иногда давала его крупным планом: кубическое лицо ведущего казалось безмятежным; глаза он прикрыл и, вопреки обыкновению, ни разу не провел рукой по стриженной ежиком голове. Дима прекрасно знал цену шоу Канарского, ему самому, да и всем федеральным каналам – у него, с детства испытывавшего на собственной шкуре разницу между словом и делом, никогда не было особенных иллюзий насчет того, что происходит в России. Но сейчас он почувствовал болезненный укол: про его страну, какой бы она ни была, нагло врали, втаптывали в грязь то немногое хорошее, что хотя бы отчасти мирило его с действительностью.
Кажется, Оля тоже испытывала сильные эмоции, но иного характера. Дима уже знал ее достаточно хорошо для того, чтобы понимать, к кому относились слова про «пухлую гниду». Точно не к славонцу. И если Диму можно было назвать стихийным, урожденным противником системы, то Олина фронда носила вполне осознанный, интеллектуальный характер. Фейсбучный аккаунт с двумя сотнями друзей и полутора тысячами подписчиков, который она вела под псевдонимом Ольга Ненашева, каждые два-три дня пополнялся очередным эмоциональным постом, в котором Россия именовалась либо «дохлой империей», либо «Мордором», либо просто «этой страной». Раньше друзей было больше, но с некоторых пор Оля взяла за правило регулярно просматривать френдленту и без раздумий вычищать из нее всех уличенных в положительных или хотя бы нейтральных высказываниях об «этой стране». А этим безумным летом, когда Сборная каждой своей новой победой тысячами обращала самых упертых противников режима, Олина френдлента мелела на глазах.
– Совсем обленился, сволочь, – Оля отхлебнула из бутылки добрую треть. – Ничего нового придумывать не хочет. Опять подставной эксперт с отвратной харей, который как бы поддерживает оппонента, но при этом говорит такое, что бомбить начинает даже у либерастов. Аксиома Тревора для бедных. Точнее, для тупых. Быдло хавает и добавки просит. Смотри, сейчас его выведут под истерику кабана, а очкастый после такого станет совершенным зайкой.
Действительно, дождавшись пика общественного негодования, Канарский резко вскинул сжатую в кулак руку – жест, неизменно останавливавший даже самых зарвавшихся ораторов, сработал и на этот раз (возможно, немного поучаствовал и звукооператор, отрубивший микрофон славонца). Продолжая сжимать поднятый кулак, ведущий заговорил в своей фирменной манере: начав почти с шепота и умудряясь на каждом ударном слове удваивать громкость – так, что к концу своей короткой речи он уже орал в полный голос.
– Все вы знаете. Что свобода слова – главный принцип нашей передачи. Да. Каждый может говорить здесь все, что он думает. Это действительно так. Да. Свое мнение. Любые глупости. Даже подлости. Но не оскорбления. Нашей страны. Нашей истории. Наших героев. И вот мне сейчас говорит в наушник референт, что я не имею права никого прерывать. Останавливать. А если я это сделаю, меня могут тут же уволить. Что прямо есть такой специальный пункт в контракте. Да. Поэтому я хочу сказать всем. И нашему. Уважаемому. Гостю. Пусть! Пусть меня увольняют! Потому что есть вещи! Слова! Которые нельзя прощать никому! И я говорю: пшел вон! Вон из студии!
Падво (ударение на второй слог) уже волокли к выходу два здоровенных жлоба в черных джинсах и черных футболках, причем Диме показалось, что к моменту, когда они подошли, эксперт отъехал в кресле от стола и заранее приподнялся, чтобы изъятие прошло максимально комфортно. Выцветший Сергей Сергеевич старательно сливался с фоном.
– А завершит наше сегодняшнее обсуждение, – стремительно успокоившийся Канарский говорил уже совершенно нормальным тоном, – мнение еще одного эксперта. Итак, заслуженный историк-евразист, почетный академик РАЕН, исследователь быта протославян Бронислав Янович Радуга. Прямое включение с Клязьмы. Бронислав, вы нас слышите? Что вы как историк можете сказать о происхождении футбола?
– Непосредственно к материалу Зоркого мне добавить нечего, там все изложено доступно, – густо заокал бородатый Бронислав на фоне белых в крапинку стволов. – О позднейшем британском заимствовании славянской шмыг… шелыги имеется сразу несколько достоверных свидетельств. Я тут ничего нового не скажу. Однако в ходе исследований обнаружились интересные подробности, заставляющие пересмотреть происхождение самого слова «футбол».
– А что с ним? – поинтересовался Канарский. – Тут, кажется, все понятно: фут-бол, нога-мяч.
– То-то и оно-то, что и не нога, и не мяч! – обрадовался Радуга. – Многие почему-то забывают, что у древних русичей, когда они изобрели шелыгу, не было никаких мячей. Да и зачем они были нужны? Играли запросто, по сезону: зимой – пареной репой, зашитой в рогожу, а летом – молодыми дождевиками. Именно молодыми, несозревшими, потому что созревшие дождевики, как вы знаете, при ударе лопаются и все… того… обсеменяют. Мда. Так вот, английские путешественники впервые увидели игру в шелыгу летом, когда русичи по теплому времени играли в одних портках. Очень коротких спортивных портках, прошу заметить. Потому что попробуй-от в длинных побегать или того пуще – пнуть дождевик. Не шелыга будет, а смех один.
– Так…
– А теперь вспомним, что у слов «фут» и «бол» несколько значений. Фут – это еще и мера длины, размера. Тридцать сантиметров, – Радуга сделал характерный рыбацкий жест. – А «бол», вернее «болс»… Ну, все знают. – Он обвел руками невидимый круглый предмет размером с грейпфрут.
– То есть англичан поразила прежде всего не сама игра, а скорее игроки?
– То-то и оно-то! Поразили, еще как! Не видали они такого! Потому и назвали не «футбол» вовсе, а «футболс»! А последнюю-от буковку потом того… потеряли.
Студия неистово загрохотала.
– Верю! – воскликнул Канарский, дав публике пошуметь вволю. – Вот прямо вижу, как они смотрят, смотрят, а лица у них вытягиваются, вытягиваются! Хотя казалось бы – куда уж больше? Спасибо, Бронислав! Уверен, что через пять дней наши парни покажут именно такой «футболс». Тридцатисантиметровый!
По глазам ударили яркие цвета заставки, торопливо забулькала реклама.
– Га-га-га! Тридцатисантиметровые русские шары! Глубинный народ Мордора в восторге! – Оля хлебнула из бутылки, с ненавистью глядя в экран. – Представляешь, сколько их прямо сейчас гогочет? Сидят под драными коврами в своих вонючих норах, с водочкой, с пив… с «Балтикой» своей любимой, и гогочут. Наш-то как приложил англичашек! Так их, аристократов сраных! Рабский менталитет! Ах, Митя, ты ведь не понимаешь, как тебе повезло: ты тут все время, присмотрелся, принюхался, привык. Ты себе не представляешь, каково это – каждый раз возвращаться вот во все вот в это из нормального мира. Знаешь, еще в самолете, на посадке, сразу видно, кто отсюда: лезут молча, морда кирпичом, если, конечно, не успели еще поддать, всех расталкивают. Главное – успеть все свои баулы по полкам распихать, не глядя – лежит там уже что-то или нет, а если не лезет, кулаком утрамбовать! Меня-то, слава богу, давно уже за местную не принимают, я со стюардессами только по-английски говорю. А потом уже в Шереметьево стоишь среди всех этих рож и думаешь: «Оля, ну вот зачем ты вернулась? Что ты тут забыла?» А потом вспоминаешь: потому что должна. Потому что вот пишется здесь действительно лучше всего. Ты знаешь, Мить, единственное, что остается делать в этой стране, – это писать.
О том, что Оля пишет роман, Дима знал с первого дня знакомства. Жанр его она определяла как ироническую сагу в технике реверсивного нарратива, а в основе сюжета лежали отношения молодого бойца Росгвардии и его возлюбленной – бунтарки с хризолитовыми глазами и сложным характером. Боец, укушенный на разгоне митинга влезшим на мачту городского освещения оппозиционным школьником, проходит долгую череду эстетически-нравственных метаморфоз и в конечном итоге духовно оборачивается. Больше о романе ничего известно не было, поскольку Оля наотрез отказывалась показывать хоть что-то из неоконченного произведения.
Большинство Олиных подруг и знакомых тоже писали, довольствуясь, впрочем, малыми формами, так что все их совместные выходы поровну делились между посиделками в «Жан-Жаке» и походами на авторские чтения или презентации сборников рассказов молодых авторов, изданных в складчину тиражом в пару сотен экземпляров. Просто вдвоем они почти никуда не ходили, и временами Диме приходило в голову, что Оля, возможно, держит его при себе отчасти в качестве необычного аксессуара, выгодно подчеркивающего личные качества владелицы, которым можно пофорсить перед подругами. Чего-то среднего между новым айфоном и одним из африканских детей Анджелины Джоли. Видимо, три ночи с Лидой не то что изменили его – человек меняется крайне редко, если это вообще возможно, – а скорее активировали какую-то глубинную часть его личности, прежде спавшую. Потому что если Дима доапрельский от подобных мыслей гарантированно стал бы конченым неврастеником всего за пару ночей, то Дима нынешний просто допускал такой вариант отношений как один из вероятных – и, возможно, не самый плохой.
Последняя презентация запомнилась Диме особенно, потому что там его осенило пусть небольшое, но самое настоящее откровение. Проходила она в районе Чистых прудов в одной из отреновированных городских библиотек, облепленной стикерами с цитатами из классиков, бородами, очками, больше всего похожей на крафтовую пивоварню, только без пива. Миновав утопленный вровень с тротуаром вход с автоматическими дверями, Дима поразился обилию публики: зал, хоть и небольшой, оказался почти полным. Авторов на этот раз было целых восемнадцать; каждая зачитывала по одному из своих рассказов, вошедших в книжку. Дима, побывавший уже на нескольких подобных сходках, незаметно любовался сидевшей рядом Олей и мысленно загибал пальцы. Фраза «пусть обо мне говорит моя проза», за которой следует десятиминутное повествование о творческом пути автора, чьи сочинения еще в школе вызывали восторг одноклассников и ярость косной русички, – есть. Рассказ от лица кошки, обожающей свою стройную хозяйку с крапивными глазами, – имеется. Рассказ из серии «треп с подругой за бокалом красного о постаревших и поглупевших родителях с неожиданно трогательной концовкой» – ну а как же. Смешные зарисовки из офисной жизни немного неловкой, но очень милой и острой на язычок героини с глазами цвета травы – сразу в двух вариантах. Как только чтец замолкал, раздавались дружные аплодисменты, становившиеся, впрочем, с каждым разом несколько тише, потому что вместе с ними из зала утекали два или три человека – группа поддержки отстрелявшегося автора. Олина подруга выступала предпоследней, так что он сидел и слушал, слушал, слушал.
И вот на исходе второго часа, между любовной историей на фоне изуродованной Москвы под названием «Принцесса и оленевод» и юмореской «Кракозямба» о первых робких шагах бойфренда героини в искусстве кунилингуса, у Димы в голове неожиданно и четко, как на вокзальном табло, высветились три слова: «Графомания – это убийство». Несколько минут он любовался жестокой красотой фразы, не пытаясь ничего осмыслить, а потом – тоже внезапно, разом – ему открылся безупречный силлогизм, раскрывающий ее глубокий смысл. В самом деле, когда человек читает или слушает текст, сам он в это время как бы не существует, временно растворяясь в повествовании, отдавая тексту кусочек своей жизни. Хорошие тексты дарят взамен новые идеи, очень хорошие – новые ощущения, гениальные тексты не мелочатся и не церемонятся, грубо вбрасывая читателя в новые состояния, о существовании которых он раньше и не догадывался. А графомания просто отбирает у человека время его жизни, не давая взамен ничего. И если графоманский роман, на который у читателя уходит в среднем шесть часов, прочтет сто тысяч человек, одна 70-летняя жизнь будет загублена целиком. Графомания – это убийство.
В телевизоре начались длинные вечерние новости, разумеется, тоже туго набитые футболом. Мелькнул короткий репортаж из Тоткинской больницы под заголовком «Все правильно сделал»: Остапченко в накинутом поверх тренировочного костюма белом халате под вспышки фотокамер входил в палату к восстанавливающемуся после травмы Арти Фишалю. В руках у него были сетка с апельсинами и большой круглый букет ярко-розовых роз в кокетливой кружевной обертке. Лежащий в кровати Арти, с правой ногой, заключенной в сложный экзоскелет из блестящего белого пластика, заметно дернулся при виде вошедшего, но в следующих кадрах уже белозубо улыбался и тряс руки всем: врачам, медсестрам, нападающему, неизвестно откуда взявшимся нарядным девочкам с бантами и шариками.
– Прогнозы врачей самые благоприятные. Как говорят у нас, до свадьбы заживет! – закончила сюжет диктор с радушной улыбкой и тут же посерьезнела. – Через несколько минут мы с вами снова переживем лучшие моменты триумфального выхода сборной России в финал. Но перед этим – еще один важный сюжет.
На экране появились кадры вчерашнего полуфинала, точнее, перерыва между таймами, потому что на поле, в самом его центре, стоял всего один человек – снова Канарский. Кажется, в том же самом костюме, в котором только что щеголял в студии. Он вещал в знакомой уже позе, подняв сжатую в кулак руку; черная гарнитура делала его похожим на пилота частного вертолета.
– Наши парни сейчас отдыхают. Готовятся ко второму тайму. Я видел… мы все, затаив дыхание, смотрели, как фантастически, героически они играли в первом, и я уверен, что победа будет за нами! Тут и говорить не о чем! Но сейчас я вышел, чтобы поговорить не о футболе. Я вышел сказать спасибо! Огромное спасибо всем, кто участвует в нашей благотворительной акции «Скатертью по жжж… жарко сегодня в Питере!». – Подождав, пока смех и аплодисменты на трибунах стихнут, Канарский продолжил: – Во всероссийской благотворительной акции «Скатертью дорога», чей генеральный спонсор и устроитель, как вы уже наверняка знаете, «Жменьков-банк». И на счете акции уже семизначная сумма! Напомню на всякий случай, зачем и для кого мы собираем деньги. И отвечу на вопрос, который мне задали уже очень многие: а почему эта акция называется благотворительной?
Оператор взял общим планом «Трибуну предателей», длинный аквариум с толстыми, в два сантиметра стеклами, в котором на расставленных с большими промежутками стульях скрючились семь жалких фигур. С торцов этот групповой хрустальный гроб охраняли два рослых казака, стоящие по стойке «смирно» с шашками наголо, а над ним на электронном табло светилась красным собранная сумма. Камера задержалась на числе, потом план поменялся на крупный и плавно перешел от одного аквариумного обитателя к другому, ненадолго задерживаясь на каждом.
– Мы собираем деньги вот для этих вот… как их назвать? Граждан? Хотя какие они, к черту, граждане? Для этих неграждан! Да… Деньги на то, чтобы они могли уехать из нашей страны, нашей России – куда угодно! К чертовой бабушке! Туда, где их согласны будут терпеть. Потому что мы терпели их долго. Мы это умеем. Но даже нашему терпению пришел конец! Скажу честно: лично я, и не один я, считаю, что им самое место – в тюрьме! И еще совсем недавно они там и находились, но вчера личным указом Президента, – оратор разжал ненадолго руку и простер ладонь к небу, – были помилованы. С одним условием: в течение 48 часов после финального матча, после нашей победы – вон из России! Вон!
Стадион подхватил последнее слово и волной прокатил по периметру. Казаки-охранники вдруг ожили и сделали неожиданное: раскрыли зонтики. У одного он оказался черным, у второго – пестреньким, сине-лиловым.
– И теперь мы собираем деньги им на билеты в один конец и на жратву, чтобы они там не подохли с голоду, пока ждут грантов. Все уже поняли, почему эта акция благотворительная? Потому что она на благо! На благо России! Насколько чище тут станет воздух! – Ведущий сделал паузу, вынул из кармана лаковую плитку смартфона и продолжил: – Должен признаться. Мне стыдно! Я готовился к эфиру, замотался – и не успел сам перечислить деньги. Я перечислю их прямо сейчас. Ровно тридцать тысяч. Тридцать сребреников! За три секунды! Потому что с помощью онлайн-приложения «Жменьков-банка» в своем телефоне вы можете переводить деньги, оплачивать счета и управлять вкладами буквально за секунды. «Жменьков-банк»: удобно, быстро, безопасно!.. Так… Тут можно добавить комментарий. Пишу. Пусть им обязательно купят новую обувь и заставят переобуться в аэропорту. И к кадкам с растениями пусть их не подпускают! Чтобы никто! Из них! Не посмел! Забрать с собой! Ни щепотки! Нашей! Земли! Вон из России!
«ВООООООН!» – весь стадион слился в одну разверстую гласную. Орали даже трибуны с иностранными болельщиками. Тут же стало понятно, зачем казакам зонтики: на «Трибуну предателей» обрушился град из скомканных бумажек, яблок, недоеденных хот-догов, пластиковых бутылок и печенья.
– Нормально выходит, – Оля загибала пальцы, что-то подсчитывая в уме. – С учетом того, что за три дня им накидают еще три раза по столько же. Повезло, нечего сказать. Кто они тут? Режиссер, который какую-то муть, если честно, ставил раз в год, препод, которого отовсюду поперли, журналистка-неудачница… Сейчас им ничего не грозит, их тут будут охранять круглые сутки. А в Европе встретят как героев, мучеников. Борцов с режимом. И главное, не надо ничего ни жечь, ни приколачивать. А может, кстати, вместе с ними еще и сборную отправят. В полном составе, во главе с этим их лысым.
– Почему сборную?
– Митя, ты что, правда думаешь, что они выиграют? У славонцев? Что им этот ящик с сушеными костями поможет, который они таскают на каждый матч? Нетленный Етислав, покровитель русского футбола? Да они сольют всухую. Потому что в дохлой империи все всегда так и заканчивается: сначала все прутся, потом ищут предателей, а потом сливают всухую. А в промежутках бухают. Ты думаешь, все эти иностранцы – они действительно приехали на футбол смотреть? Или, может, на Россию, поднимающуюся с колен? Они в заповедник приехали. В зоопарк перед самым закрытием – посмотреть на знаменитую колонию бешеных макак, пока те еще не отмудохали друг друга и не разбежались. А то, что пока еще зовут иногда на всякие встречи и переговоры, руку жмут – так и обезьяне руку жмут. Гринпис какой-нибудь. А потом бегут к раковине с бактерицидным мылом. И правильно делают. Обезьян можно бояться, можно жалеть, можно их даже любить. Можно держать дома, если запах не смущает. Но вести дела с обезьянами будут только психи.
Оля погасила пультом экран, обняла Диму за плечо, придвинулась почти вплотную. Меньше часа назад он мечтал только об этом.
– Митя, ты такой… хороший. Ты очень хороший. Мне плевать, что кто-то там может подумать. Пусть думают что хотят. Пусть смотрят. Пусть! Я к тебе отношусь как к совершенно нор… обычному человеку. Митя, ты такой хороший… Такой наивный. Ты правда веришь, что тут может быть… что-то? Вообще? В этой стране?
Со стены, из волшебного черного зеркала на Диму, только что все понявшего и об Оле, и о том, зачем он ей был нужен, смотрел двойник. Смотрел угрюмо, с вызовом. С чем-то таким в темных, сверкающих под мощными надбровными дугами глазах, чего не понять никаким олям на свете. Нелюбимый, ненужный, многократно отвергнутый и обсмеянный, с детства привыкший к шепоту за спиной, то фальшиво сочувственному, то откровенно злорадному, к тому, что любая дверь, любой порог может превратиться в непреодолимое препятствие. Дима был им, а он был Димой.
Дима увидел все таким, каким оно было на самом деле. Он сидел в кресле в прокаленной солнцем комнате, комната была обернута в старое высотное здание, окруженное горячим золотисто-зеленым городом – сердцем древней страны, которую душным кольцом охватывал остальной мир, скрытно-враждебный, заносчивый, мелочно недоброжелательный. Страна расправляла свои могучие плечи, и Дима в точности повторил это движение, исполненное скрытой мощи. И понял, что рядом, схватив его влажной рукой и дыша ему в лицо пивом, сидит поддатая девка с кургузой задницей, короткими ножками и темными кругами под мышками.
Оля вдруг заметила, с каким выражением смотрит на нее Дима, и запнулась на полуслове. Глаза у нее округлились.
– Меня! Зовут! Дима! – крикнул он прямо в испуганное лицо, стряхивая с плеча потную ладонь. – А мою страну – Россия, сука! А теперь – пошла вон! – И торжественно, церемонно даже ткнул кулаком в бледную харю. Оля болезненно ойкнула и выронила бутылку. Дешевое мексиканское пойло, неохотно пенясь, потекло по паркету.
Круто развернувшись на месте, Дима налег на колеса, толкая кресло вон из комнаты. Он старался двигаться как можно более плавно, чувствуя себя полным сосудом, боясь расплескать ощущение абсолютной правоты и выполненного долга. Никогда еще ему не было так хорошо и никогда еще он так остро не сожалел о своей болезни: по-хорошему, выдать ей надо было с ноги.