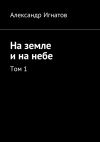Текст книги "Вначале будет тьма // Финал"

Автор книги: Михаил Веллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 37 страниц)
Перерыв
Глава 16Вуду пипл
Москва. Финал
На четвертой минуте перерыва сборная России по футболу, обсуждая в раздевалке матч, все еще ждала своего тренера, застрявшего на поле. В раздевалке пахло потом и травой. Грязные следы путались друг с другом и рисовали на резиновом полу футбольные мячи. Федор Колчанов, только что забивший славонцам гол – гол, сравнявший счет и уравнявший шансы, – сидел на скамье и рассказывал обступившим его товарищам о своих мыслях. Слушали Колчанова плохо: Женя Остапченко его перебивал, а Зимин поправлял. Баламошкин подпрыгивал на месте и смеялся над Римом. Чуть поодаль от них сидел черный как смоль Нготомбо – словно потухший уголек рядом с костром. Он улыбался, обнажая ярко-белые зубы, и тихонько насвистывал себе под нос «Марсельезу». В его родной Ляунде эту песню считали колыбельной. В другом углу, один, скрестив под скамьей ноги, сидел Валентин Рожев. Он сверлил глазами огромный грязный след Рима Хализмутдинова и мечтал о пахлаве. А рядом хмурившийся Царь шептался о чем-то с Феевым и Заяцем. Сборная России ждала своего тренера, обсуждая в душной раздевалке матч. Каждый игрок в команде был занят своими мыслями и каждый видел только самого себя.
Федор Колчанов был счастлив. Мысленно он все еще бежал к воротам – заканчивались последние секунды тайма. Федор чувствовал стороны. Баламошкин слева – ворота впереди – сзади команда. Сзади трибуны, город, люди. И все ревело, глядя на него. И все в мире, казалось, было только для него.
Свет белых ламп блестел в расширенных зрачках Колчанова. Федор рассказывал свои мысли вслух. Рассказывал взахлеб, проглатывая половину слов и пропуская буквы. Его нёбо сохло, ему хотелось пить. На полу медленно застывала грязь. Никто его не слушал. Но для Колчанова существовали только поле, ворота, пас Баламошкина. Был только футбол.
– А потом – вообще только ворота остались. И этот, вратарь ихний, как его…
– Их, – Зимин снисходительно улыбнулся.
– А?.. И бутсы натирают! Я давно уже говорил ведь…
– Что говорил?
– Да, говорил! И вообще все как будто вокруг меня крутится. Как, – в поисках верного слова Колчанов прищелкнул пальцами, – как мяч крутится, вот!
– Это называется, – Зимин пригладил волосы, – эгоцентризм.
– Эго… чего? – гулко переспросил Остапченко.
– …центризм. От слова «центр». Не бери в голову, тебе незачем.
Тихо захихикал Баламошкин – Остапченко злобно посмотрел на него и что-то прошипел сквозь зубы. Колчанов попробовал встать со скамьи, но сразу же сел. Выдержав паузу, он снова заговорил:
– …Ну да. И я, как главный самый! И ворота… Короче – они как будто вообще мои были. Понимаете?
– Не-а.
– Ну… Ну как штука такая. И мяч тоже…
– Штука у тебя в штанах! – громко хрюкнул Баламошкин. На него не обратили внимания.
– Ну, в ворота войти может, а может не войти…
– Как женщина, – Остапченко улыбнулся и, сложив руки на груди, посмотрел на Зимина. – Знаю я таких женщин. В которых входить без стука можно.
Все замолчали. Расстроившись, что его снова не слушают, Колчанов вспомнил матч и улыбнулся. Вслед за ним улыбнулся Баламошкин. Ярослав Зимин подошел к Остапченко вплотную и, нахмурившись, спросил:
– Каких это женщин?
– Да мало ли вокруг трется. Абстрактных.
– Такое слово, значит, знаешь?
– Ну так и я не пальцем сделан, – Остапченко заговорил шепотом. – А ее как зовут, а, Яр? Хотя какая разница. Швабра – она швабра и есть.
В раздевалке, в углу Колчанова, стало совершенно тихо. Только в барабанных перепонках Зимина громко и ровно стучал марш. Он сжал кулаки и повел шеей. Все остальные боялись лишний раз вздохнуть. Не боялся только Баламошкин. Он толкнул в плечо Рима и громко, перекрикивая голос в своей же голове, засмеялся:
– Типа шмара, ты понял? Ну типа, швабра-шмара, тряпка как.
– Вань, – Рим взял Баламошкина за ворот футболки и подтянул к себе.
– А?
– Хлебало завали.
Обиженный Баламошкин чихнул и, показав кулак Хализмутдинову, подсел к Нготомбо.
– Поль!
– Вьань! Тьебе хльеба мало?
– Не, это у меня хлебала много.
Уши Нготомбо двигались, как маятник, вверх-вниз. Иногда, если Поль сильно этого хотел, они слушались хозяина и его приказов. Но обыкновенно уши Нготомбо жили своей, отдельной от остального тела и совершенно непредсказуемой жизнью. Баламошкин с детства мечтал научиться управлять ушами. Эта мечта была старше футбольной и, уж точно, прочнее ее. Она была с ним до футбола, осталась в футболе и (в чем Иван не сомневался) должна была сохраниться после. На перерыве, в раздевалке, говоря с Полем Нготомбо, Ваня снова не мог отвести от его черных футбольных ушей своих больших голубых глаз.
– У мьеня из дома! Из Ляунды! Хльеб. Хьочешь отрьивок?
– Кусок, дурак. – Баламошкин почесал затылок. – Откуда ж я твою Реунду помню, в голову вбилась, собака… Ну ладно, давай кусок.
Нготомбо подошел к своему шкафчику и достал оттуда синий полиэтиленовый пакет. Из него высовывалась белая надкусанная лепешка из тонкого теста. Поль оторвал немного и положил себе в рот. Хлеб таял на его высунутом языке. Нготомбо похлопал себя по животу и протянул оставшуюся часть лепешки Баламошкину. Тот откусил и, медленно жуя, заговорил:
– Ничего, нормальный кусок. Так. А чего, ты говоришь, за Хренунда?
– Ляунда дом! Знать Ляунду, любить очень!
– Дурак!.. Не эл, а эр. – Баламошкин оскорбленно покачал головой.
– Тьам у меня все вьообще. Дажье детки остались!
– Это типа твои, что ли?
– Мьаленькие, – Нготомбо показал ладонью рост детей – не выше Ваниных колен, – Мамьу любьят.
– Эх, я маму свою тоже люблю.
Поль Нготомбо и Ваня Баламошкин сидели рядом на скамье и ели африканскую лепешку. Нготомбо вспоминал о доме.
– Хьорошо там. Бедно хотья. Но не гольод. Льяунда дом всем! Спьор – нет. Дрьак – нет. Война – нет.
– Война, говоришь?.. – Баламошкин озадаченно почесал затылок и вдруг весь засветился. – Вспомнил!
– Ай?
– Дурак! Не ай, а эл. Ля-ун-да. У вас там эта, войнушка. Чего-то с генералами африканскими и с едой. В смысле, без еды. Стреляют!
– Гдье? – Нготомбо серьезно посмотрел на Ваню. – Льяунда? Ктьо стрелять?
– Льяунда, Льяунда. Я в больнице когда валялся, услышал по телику из коридора. Потом заснул. На этих койках спать удобно, жесть. Как у мамы, честное слово. Лежишь такой у березки, глаза закрываешь, и храпишь, храпишь…
Но Поль Нготомбо его уже не слышал.
В раздевалке было тесно и душно. В углу Царь шепотом общался с Виктором Феевым и Заяцем. Все у него перевернулось с ног на голову. Все было не на своих местах: там, где должен был быть футбол, было одно расстройство; там, где раньше было спокойно, теперь царил кавардак. Он говорил с Виктором Феевым, с Александром Заяцем, он ждал тренера. Но мысли его были не здесь. Ничком эти мысли лежали в воротах сборной России по футболу – внутри мяча, забитого им самим, внутри гола в свои ворота.
– Так, ну слушай. Я проходил уже через такое, – Феев высоко взмахивал руками, – ты, главное, не думай об этом слишком много… И улыбайся чаще.
Феев встал напротив Царя и на своем примере показал, как нужно улыбаться.
– Самое ведь что удивительное – я сразу ничего не понял… Думал отобью, а там сразу: «Dupa!». И один ноль. Никогда такого не было. Никогда.
– Но ты же отбил потом! Не всегда… Отбить можно.
– Да… Иногда приходится просто забивать, – медленно произнес Заяц. Царь и Феев посмотрели на него, моргнули и отвернулись.
Царь и Виктор Феев дошли до двери – Заяц потрусил следом. Феев сложил руки на груди и продолжил:
– Бывают в жизни моменты. Ну, неоднозначные. Выбирать надо.
– Выбирать иногда необходимо. Да…
– Заяц, погоди. О чем я… Да, выбирать. Стоишь ты вот, – Феев показал на Заяца.
– Я?
– Да, ну хотя бы ты. Кто-нибудь, неважно. И надо же взять и войти. В дверь.
– Не было у меня двери, Витя. Какая там дверь, когда «Dupa»…
Со стороны группы Колчанова повышались голоса. Заяц прислушался – говорили только Зимин с Остапченко. Слышалось что-то про манную кашу. Ее Заяц любил с детства. Он представил себя в семь лет, в небольшом домике в деревне, у бабушки. Его тогда кормили кашей. Заяц прикрыл глаза и улыбнулся.
– Вот! Смотри на Заяца.
– Что, – Царь попытался скривить улыбку, – уши длинные?
– Длинные. Улыбается он, смотри!
Тогда еще не было в жизни Заяца футбола. Вместо него тогда была бабушка и ее каша. Мама с папой все время где-то пропадали – вроде и на работе, а может, гуляли. Так, по крайней мере, говорила бабушка. У нее не было одиннадцати зубов – и говорила она, как будто жуя свой язык. А Заяц в это время ел манную кашу и слушал. И больше ему тогда не нужно было ничего. Заяц улыбался и совсем не помнил, где он – но совершенно точно знал, что находится не в раздевалке.
К Царю с озабоченным видом подошел Нготомбо. После разговора с Баламошкиным он перестал широко раскрывать рот, опустил глаза, осунулся. Не зная, куда деть руки, Поль все же уверенно подошел к Царю, игнорируя Феева и внезапно очнувшегося от воспоминаний Заяца.
– Цьарь.
– Поль.
– Мьел есть?
– Мел?
– Мьел.
Царь удивленно поднял брови и оглянулся на Феева. Тот пожал плечами и, улыбаясь, проговорил:
– А зачем тебе мел?
– Есть ильи ньет? – процедил Нготомбо сквозь зубы.
– Да зачем тебе он, ты чего?
– Ясно. Очьень бльагодарью.
Развернувшись на одних мысках, Нготомбо пошел к Рожеву, но сзади к нему подскакал Заяц. Он легко толкнул Поля в спину и тихо, прямо в черное большое ухо, произнес:
– У меня в шкафчике есть. Я… рисую иногда. Можешь, кстати, рисунки тоже посмотреть, там карандашом есть. Ну, если захочешь.
– Спьасибо.
– Ой, как у тебя уши двигаются. Смешной ты.
После слов «у нее, как в маршрутке, места много» Зимин толкнул Остапченко в грудь. Евгений ответил тем же. На повышенных тонах сначала разговаривали оба, а потом только Остапченко – Зимин выбирал, куда бы лучше ударить. В глаза все-таки нельзя – Женя же форвард, видеть надо. А слышать – так слух не главное в хорошем футболисте.
Все в раздевалке, кроме Поля Нготомбо и Валентина Рожева, подтянулись к месту стычки. Колчанов скрутил руки Зимину, а Рим – Остапченко.
– Ты как ее назвал? Повтори, урод!
– Она у тебя тряпка половая! То есть у нас. У нас, да, ребят? У всех!
– Попробуй только еще… Да не держите вы меня! Еще хоть слово, и я тебе дам!
– Ну, больше, чем она, все равно не дашь!
Чуть поодаль рисовал мелом на полу Нготомбо, но его не замечали. Подошел Царь. Он встал между Зиминым и форвардом и, всмотревшись в глаза каждого, вздохнул:
– Что вы как дети малые, ей-богу. Мы же все команда…
– Не лезь, Царьков. Мы хоть где ворота знаем! – Остапченко сплюнул на пол. – Пусти, сволочь, кому говорю!
Сквозь столпившихся игроков протиснулся Феев и, оттолкнув Царя, встал напротив Остапченко.
– Ты это мне в лицо повтори, слабо?
– Мне-то? А пусть отпустят, тогда поговорим!
– Рим…
– Даже не проси. – Хализмутдинов еле держал Остапченко – тот вырывался, оглядываясь назад. – Помог бы лучше.
– Да я сейчас так помогу…
– Слышьте, – Баламошкин встал со скамьи и улыбнулся, – а вы попробуйте им глаза завязать! Кто быстрее другого стукнет в темноте, тот и победил!
Сборная России по футболу была готова разорвать саму себя на мелкие куски. Только Валик Рожев сидел в углу и мрачно наблюдал – а Поль Нготомбо задумчиво что-то чертил мелом на грязном полу.
Дверь в раздевалку распахнулась. Хмурясь, поглаживая лысую макушку и перекидываясь фразами с шедшим рядом Давыдовым, к футболистам вошел тренер. Его заметил только Рожев.
– Псина! Как тебя мать родная терпит?
– Ну меня же твоя терпит как-то!
Еремеев растолкал игроков и, выдержав паузу в неожиданно наступившей тишине, спросил:
– Что здесь происходит?
Ему никто не ответил.
– Я вас русским языком спрашиваю.
Все молчали, пряча глаза в пол. Колчанов отпустил Зимина, а Рим – Остапченко. Они разошлись по противоположным углам раздевалки. Вслед за ними расселись остальные.
– Вы тут совсем охренели? Никто то есть больше не говорит? Ну что? Никто?
К тренеру подошел Валентин Рожев.
– Я все слышал.
– О, ну хоть Рожа говорящая. И что слышал?
– Остапченко назвал девушку Зимина… – Рожев исподлобья посмотрел на Зимина. Тот не поднимал глаз от пола.
– Как?
– Я… В общем…
– Шалавой, Виктор Петрович, – Остапченко встал со скамьи и скривился, – через «а».
– Сядь, дурак.
На потолке раздевалки серые панели чередовались с белыми световыми окнами ламп. Было тихо – мысли игроков скрипели, пересекаясь друг с другом, сходясь в лысине Еремеева. Только Нготомбо все еще чертил что-то мелом в углу. Еремеев устало прикрыл глаза и медленно заговорил:
– Ребята. Я в футболе уже долго. Дольше, чем вы все. Дольше, чем Царь, Рожа, дольше, чем Заяц, – называя имена, Еремеев кивал в сторону их хозяев. Хозяева моргали в ответ. – Я и играл, и тренировал, и черт знает чего только не делал. Разве что без трусов на поле не бегал.
Баламошкин захихикал, но, оглядевшись, заткнул рот лепешкой. Еремеев продолжил:
– Короче, ребят, вы, кажется, что-то недогоняете. О чем вы говорите вообще? Мы в финале. Слышите? В финале. Это раньше у вас была жизнь. Жены, поклонницы. Драки… Оглянитесь. Тут что-то на женщину есть похожее? А знаете, почему нет? Это не жизнь уже. Это футбол. Вы до этого тренировались. А сейчас надо на поле выйти. Дело не в кубке – ну не ради железки ведь это все. Кубок вы можете и не получить, он может и не вашим быть. Дело в гордости. Гордость – ваша! Гордость нельзя купить, гордость надо заработать. У вас уже почти получилось, счет равный и шансы равные. Главное – забыть обо всем другом. Вы футболисты, ребята. Вам этого правда мало? Футболист – это сила, красота, это мощь. Футболист – это мечта всех остальных. Просто послушайте, как звучит – фут-бо-лист! Футболист – это… – Еремеев свысока оглядел свою команду. – Это звучит гордо!
Каждая мысль каждого игрока сборной России по футболу теперь была в финале. Средоточие всех планов, идей, воспоминаний в точке ворот соперника, в еще не забитом мяче славонцам, в том, как они, победив…
– Ай! Ты чего? Совсем охренел? – воскликнул Остапченко.
Поль Нготомбо сорвал прядь волос с макушки Остапченко и пошел в очерченный им мелом круг. Команда беззвучно следила за ним. Поль сел в центр круга, около грязного следа Рима Хализмутдинова, достал откуда-то спичку и поджег прядь светлых волос. Затем он положил их в центр круга и медленно начал прыгать вокруг. Хлопая ладонями, прикрыв глаза на ничего не выражающем лице, он громко декламировал:
– Ям аатхат иушес гэйли мумхан вазес тут ам! Рааис кулла абакаам абракалам!
Спокойно, стараясь не мешать действию древнего ритуала, Еремеев достал из кармана брюк телефон и позвонил:
– Алмаз Ильясович?.. Пришлите кого-нибудь сюда. Да, в раздевалку. Прибраться немного нужно…
Баламошкин подошел к Нготомбо и положил ему руку на плечо. Тот нехотя приоткрыл глаза.
– Чьего тебе?
– А ты это что? Молишься?
– Вы – мольится. Мой – загьовор.
– А на что?
– На удьачу, – через минуту сказал Нготомбо. И снова запрыгал вокруг того, что раньше было волосами Евгения Остапченко.
Еремеев улыбнулся и громко, чтобы перекричать заклинание Нготомбо и снова завладеть вниманием футболистов, сказал:
– Смотрите! Поль верит лучше вас, честнее. Не болтает и не дерется из-за каких-то там девушек. Молится даже. Вот это подход! Это правильно! Все надо положить ради футбола – богов, волосы… – Еремеев указал рукой на жующего Баламошкина, тот быстро сглотнул и захихикал, – лепешки! А главное – себя. Все у вас… У нас получится. Мы лучшие – и в стране и в мире. Поль?
– Мира ка сенна! Ле па боль!
– Вот именно! Помолись за нас. Пошли, ребята, выиграем этот матч. Это же для нас, ребята, финал. Мы шли к этому, и мы таки дойдем. Ничего другого сейчас нет и быть не может.
В душной раздевалке стало свободнее, просторнее. Дверь была открыта настежь, кондиционеры медленно очищали спертый воздух. Следы давно высохли, оставшись на резиновом полу маленькими коричневыми разводами. Лампы ровно освещали раздевалку – белый свет падал на шкафы, скамьи, на дверь. И на Поля Нготомбо, завершавшего свой ритуал. Его несколько раз уже позвали, он попросил лишнюю минуту – до второго тайма еще оставалось немного времени. Прижимая к сердцу руку с горсткой пепла, закрыв глаза, Поль шепотом произнес последние слова заклинания и медленно пошел к двери.
На пороге финала чемпионата мира по футболу Нготомбо обернулся и оглядел раздевалку. Все его мысли кружились вокруг жены и маленьких дочек, которые были так далеко, что достать до них не было бы возможно, даже если бы он мог бежать быстрее самого быстрого гепарда. Поль вышел из раздевалки, насвистывая себе под нос «Марсельезу» – в его родной Ляунде эта песня считалась колыбельной. Он забыл про футболистов, про игру и про финал чемпионата мира по футболу. Кроме Ляунды, в его голове больше ничего не осталось.
Второй тайм
Глава 17Гекзаметр для генерала
Москва. Финал
Летучка в оперативном штабе закончилась, и у Алмаза Ильясовича наконец-то выдалось несколько свободных минут – впервые за этот сумасшедший день. Войдя в небольшую, но уютную и прекрасно оборудованную комнату отдыха, служившую ему последние две недели личным кабинетом, начштаба с облегчением обрушил свое генеральское тело в сладко скрипнувшее упругое кожаное кресло и щелкнул пультом от «плазмы». Вместо ожидаемой зелени поля с линиями разметки и фигурками игроков на экране появился мужик лет пятидесяти в белой майке и пестреньких семейных трусах, оттопыренных вполне красноречиво, но в рамках закона о рекламе. Блудливо улыбаясь, он что-то закинул в рот и торопливо запил водой из стакана. На заднем плане, немного не в фокусе, видна была кровать с томящейся дамой богатых форм, над кроватью висели триколор и флаг с эмблемой Чемпионата. Рядом на полу валялось несколько футбольных мячей. «Спонсор российской сборной – натуральное средство “Нука-Нука”! – раздался энергический голос диктора поверх бодрого джингла. – “Нука-Нука” – и ты снова в игре! Не является лекарственным средством может вызывать головную боль реалистичные сны паранойю натоптыши диарею передупотреблениемпроконсультируйтесьслечщмврчм».
«А что, неплохо назвали, – Алмаз Ильясович сообразил, что в игре какая-то заминка, замена скорее всего, и телевизионщики впихивают в драгоценные секунды столько рекламы, сколько могут. – Главное, просто “Нука” была бы полная фигня. А вот “Нука-Нука” – совсем другое дело».
Он был доволен. Да что там, более чем доволен. Все и везде шло штатно: наряды безукоризненно соблюдали маршруты и сменялись минута в минуту, периметры контролировались, чрезмерно пьяных и горластых корректно выводили куда надо. Во всех секторах, включая номер первый, все было под полным контролем. Начальник службы охраны Самого счел нужным позвонить ему лично – и коротко, буквально в трех словах, но вполне однозначно поблагодарить. Но даже не это грело генерала больше всего. Операция «Баламошкин» прошла идеально. Стукнутый уже успел выйти на поле, бегал вполне шустро и терять сознание (что бы там ни трещали докторишки) явно не собирался. И самое главное, все, включая Того-кого-надо, знали, что не только блестящая реализация, а и сама идея изначально была его, алмазовская.
Алмаз Ильясович сладко потянулся и позволил себе то, чего давно уже не позволял: помечтать. Мечтать оказалось на удивление легко и приятно. Виделся ему какой-то необыкновенно светлый и просторный зал с колоннами, уходящими прямо в небо. Слышалась торжественная музыка – именно такая, по его представлению, должна была играть в служебном лифте, ускоренно возносящем персон особой важности к Райским вратам. Мерещились ряды очень значительных лиц, кто в мундире, кто в строгом костюме, смотревших на него ласково и со значением. Что-то небольшое ярко поблескивало золотом на алой квадратной подушке, а такой знакомый, родной голос говорил немного отрывисто, с трогательным легким меканьем: «…за безукоризненное исполнение служебных обязанностей, выдержку и находчивость, проявленные в кризисной ситуации…»
Необходимо было срочно выпить.
– Кукушкин! – позвал Алмаз Ильясович. Неприметная дверь в дальнем углу комнаты отворилась почти мгновенно, и в проеме показалась ладная фигура адъютанта. Серо-голубой мундир сидел на нем, пожалуй, даже чересчур хорошо, делая его похожим на франтоватого актера, изображающего капитана МВД.
– Здесь! – Кукушкин щелкнул каблуками, замерев по стойке «смирно», тут же, не дожидаясь разрешения непосредственного начальника, встал посвободней, широко улыбнулся и добавил совсем уже мимо устава: – Ну и здорово же вы все придумали, Алмаз Ильясович! – и, словно опомнившись, снова вытянулся.
Вот за этот вот идеальный сплав развязности и вышколенности, за эту молодцеватость вкупе с интимной искренностью и любил Алмаз Ильясович своего адъютанта. Сейчас – особенно сильно. «Ну, капитан Кукушкин, быть тебе майором», – подумал начштаба, а вслух сказал:
– Вольно! Вот что, Алеша, а ну-ка… а ну-ка – ну-ка, а принеси-ка ты мне вискарика.
– С огурчиком? – глаза Кукушкина тепло блеснули. Алмаз Ильясович имел в еде очень простые и здоровые предпочтения: борщ, бородинский, сочный хорошо прожаренный стейк (никакой крови!). Из спиртного же предпочитал полюбившийся ему еще в 90-е «Абсолют», а в минуты особенно хорошего расположения духа баловал себя 18-летним «Чивасом». Закуски же не признавал никакой, кроме бочковых огурчиков секретного посола кукушкинской бабки. Темно-зеленых, чуть сморщенных, с легким белым налетом и густым запахом, от которого рот мгновенно наполнялся слюной.
Вернувшись в смежную комнатушку, Кукушкин преобразился. Движения его стали точными и быстрыми, на лице застыло хмурое сосредоточенное выражение. Быстро натюкав код, он достал из сейфа плоскую походную флягу – зеркально-серебряную, без гравировки и прочего, но явно очень недешевую, – и отвинтил крышку-стопку, которая, в отличие от самой фляги, была украшена неброским, но изящным орнаментом: по периметру ее опоясывала извилистая змейка. Встряхнул флягу и вылил все, что в ней оставалось, в крышку – хватило почти как раз. Одной стопкой шеф никогда не ограничивался, и поэтому, нахмурившись еще больше, Кукушкин снова полез в сейф. Вытянул из него обильно позолоченную коробку, вынул бутылку, но сдирать пленку с горлышка не стал: шеф любил откупоривать сам. Протер салфеткой простое белое блюдце, поставил на стол рядом с бутылкой и стопкой. Открыл холодильник, на нижней полке которого стояла большая банка с мутной желто-зеленой жидкостью, влез в нее рукой, пошарил и вытащил огурец, оказавшийся последним. Кинув его на блюдце, Кукушкин щелкнул замками алюминиевого кейса, достал вакуумную упаковку соленых огурцов с этикеткой «Красная цена», аккуратно ее вскрыл и вытряхнул содержимое в банку. Пустую упаковку он тщательно завязал в два целлофановых пакета и убрал обратно в кейс.
Поднимая серебряную стопку с маслянисто-солнечной амброзией и выцеливая на блюдце лучший огуречный кружок, Алмаз Ильясович отвлекся на телевизор, где начинался, как он надеялся, последний уже рекламный ролик. И замер, завороженный безупречностью идиотизма, происходящего на экране. Человек десять здоровых мужиков в футбольной форме, встав в круг и приобняв друг друга за плечи, исполняли подобие греческого танца под тренькающую музыку, а в центре круга две крепкие загорелые девки, обе сладкие, медовые брюнетки с длинными вьющимися волосами – как раз в алмазовском вкусе, – держали на поднятых руках огромный пластиковый йогуртовый стаканчик. Небесно-синюю крышку его украшали г-образный орнамент, эмблема Чемпионата, название «Сиртаки», набранное угловатыми буквами, и слоган «Здоровеем за наших!». Зазвучал сочный распевный голос:
Знай, потребитель российский: купив наш продукт термостатный,
Смело ты гордому сыну Эллады себя уподобишь,
Что от обильных щедрот своих пастбищ молочных вкушает,
Скрывшись от знойного полдня под сенью смоковницы дикой.
Если же йогурт «Сиртаки» иметь на столе ежедневно,
Печень себя восстановит, как солнечный феникс, из пепла,
Ихор и желчь просветлеют, от пятен избавится кожа,
Станешь до ветра ходить, как тебе Аполлон предназначил.
Духом будь тверд, потребитель, пусть жадность тобой не владеет.
Не покидай магазина чертог без «Сиртаки» в суме переметной.
Помни, что бренда владелец, компания «Охлос энд Деймос»,
Щедрым является спонсором нашей прославленной сборной.
Виски ласково проскользнул внутрь обещанием прекрасного, белого с золотом, будущего. Алмаз Ильясович потянулся за облюбованным огуречным диском и почувствовал, что рука его стала вдруг одновременно и огромной, долгой, спускающейся к невероятно далекому блюдцу на дно километрового ущелья, – и маленькой, тонкой, словно конечность эмбриона. С головой творилось то же самое: она была и гигантской, как кошмарная переспелая тыква, и крошечной, как сушеная куколка. Воздух в комнате стал осязаемым, неприятным, как нудная нескончаемая работа, тошно надавил на лоб и переносицу.
Механически пережевывая огурец и совершенно не чувствуя его вкуса, Алмаз Ильясович закрыл глаза в легком приступе паники. Прислушался к своим ощущениям, подождал: наваждение быстро отступало. Генерал, не так давно взявший за правило относиться к своему здоровью с презумпцией виновности, нащупал пульс. Немного учащенный, но явно в пределах нормы, наполнение хорошее. «Духом и телом тот слаб, кто минутной пугается хмари, – решил он. – Тот, кто покоя за день не познал, поневоле устанет к закату». Алмаз Ильясович шумно выдохнул и открыл глаза; чувствовал он себя хорошо, пожалуй, даже как-то непривычно хорошо. Странное состояние ушло полностью, оставив его в приподнятом, энергическом настроении.
Реклама наконец-то закончилась. На экране появился Царьков, готовящийся вбросить мяч в игру от боковой линии, в динамиках засвистел-зашумел стадион и продолжил с середины фразы Жора Басов:
…Мудрым поступок славонского тренера всякий признает:
Вместо Пырдачича вышел на поле Новач легконогий.
Делают ставку на скорость и натиск недобрые гости.
Счет же, Аид побери, остается по-прежнему равным.
Пас, передача, ошибка! – и тотчас Царьков осторожный
Мяч, обработав, уводит поближе к защитникам зорким.
Мы же, с печалью отметив, что острых моментов покамест негусто,
То, сын Ильяса, обсудим, что кратно важнее футбола.
Вот, предположим, стоишь ты у края сухого канала
В десять локтей глубиной, шириной же с простую дорогу.
Тучный старик, что подобен огромному вепрю иль камню,
Рядом с тобою безмолвно сидит на краю акведука.
Смех переливчато-тонкий ты слышишь откуда-то слева
И, заглянув в акведук, видишь сразу источники звука:
Кто-то в него обронил, оборвавши шнурок, самоцветные бусы,
Их собирают с восторгом в пыли три дитя, что едва говорить научились.
Слышишь внезапно ты: справа доносится шум отдаленный,
Что подобен обвалу камней или смутному рокоту бубнов подземных:
По каналу, надежно зажатый на нем теснотой и краями,
Мчится бешеный бык, обезумевший волею злобной Гекаты.
Видно сразу: ни камень, ни жезла разящий удар, ни кинжала
Бег прервать не способны слепого от ярости зверя.
Только тучный старик, усыпленный жарой полудённой,
Может деток невинных спасти, завалив своей тушей дорогу.
Как же, Алмаз, ты поступишь? Достойным сочтешь ты обмен
Жизни, к закату склонившейся, на́ три рассветные жизни?
Или свершиться позволишь тому, что волей богов суждено,
Им лишь оставив решать, кто из смертных достоин спасенья?
Или… а вот и опасный момент! Ошибается Рожев, и тотчас Новач,
С боем мяч у него отобрав, начинает подобную вихрю атаку.
Пас Гручайнику. Делает ловкий славонец изящный проход,
Уподобив защиту России медлительным Сцилле с Харибдой.
Вновь ошибка! Конопчич с мячом у ворот. С ходу бьет наугад –
Мяч стрелой белоснежной летит прямо в руки Шаману.
Наш голкипер бросается… в сторону. Нет! Боги, нет!
В сетке мяч, словно раненый кролик. Это фиаско, о братья.
Впрочем, Зевс с ним, с футболом. К нему мы вернуться успеем.
Что решил ты, Алмаз хитроумный, у края сухого канала?
Свой ответ ты запомни, но вслух говорить не пытайся,
Ибо время пришло дополнительных вводных к задаче.
Знай же: тучный старик – Архимед Сиракузский. Не дрема
Им владеет отнюдь. Он в чертоге раздумий глубоких.
Этот гений из тех, что в столетие раз лишь Земля порождает,
Вскоре выйдет оттуда с открытьем чудесным, что тысячи жизней
Сможет спасти. Ну а пыльные дети в безводном канале –
Те, что в стекляшки цветные с восторгом нелепым играют,
Скорбны умом от рожденья, себя обслужить не способны,
Будут тяжкой обузой своим матерям до самой их ранней кончины.
Как тебе твист, о Алмаз, сын Ильяса? Теперь ты изменишь
Сделанный ранее выбор – иль будешь в решении твердым?
Знай, генерал, что над этой задачей паскудной немало
Маялось душ и умов, что тебя глубиной превосходят изрядно.
Скажем, Ульянов, зачем-то мечтавший Рабкрин перестроить,
Или же тезка его,
угодивший
в итоге
под лошадь.
Или затейник Жуньчжи, перестроивший так миллионы живущих,
Что по итогам Большого скачка они этот статус успешно сменили.
Также поэт Ювачев, Разбиватель окон и Учетчик порядка Вселенной,
Думал над казусом этим зловредным когда-то немало.
Может быть, выпав однажды из логики странной двуногих без перьев,
Он оказался в коротком полете всех ближе к разгадке ужасной.
Знай, генерал…
Что такое? Чей стон многогласный
Вдруг заглушил все привычные звуки на поле?
Магмой клокочут в нем ярость, и боль, и обида –
Словно у тысячи гарпий вдруг отняли разом добычу.
Это трибуны славонцев заходятся в горестном реве синхронном,
Видя, что счет на табло остается по-прежнему равным.
Главный арбитр подтвердил, что оставил решение в силе:
Гол не засчитан, поскольку Конопчич лупил из офсайда.
Честно скажу, о Алмаз, между нами: решение спорно.
Спорно весьма, так что я бы на месте славонцев про подкуп
Тоже бы громко кричал. Но на месте своем я, конечно,
Крикну четыре «Оле!». И добавлю: «Вперед, о Россия!»
Когда озадаченный почти невероятным двойным молчанием в комнате отдыха – сначала после гола, а потом после решения судьи, – Кукушкин осторожно высунулся из своей каморки, он увидел странное. Генерал неподвижно, почти в упор стоял перед плазменным экраном и с напряженным вниманием слушал комментатора. Опущенный вниз уголок рта придавал ему скорбный вид, но если бы Кукушкин видел Алмаза Ильясовича с другой стороны, он бы понял, что тот на самом деле улыбается – весело и зубасто.