Текст книги "Смутные годы"
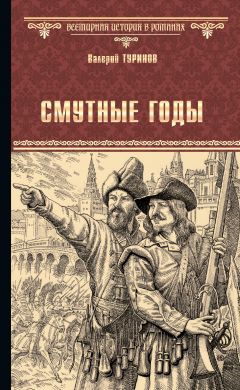
Автор книги: Валерий Туринов
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
– А что? Юшка-то – вылитый царевич! – продолжал язвить Александр. – Димитрию столько годков стукнуло бы. Да и был бы таким же уродом, как Юшка!
Да, дворецкий был коротконогим крепышом, с длинными руками и проницательным взглядом маленьких глаз, от которого у Фёдора Никитича появлялось ощущение, что его как будто обшаривают…
– Таких царевичей у меня вон сколько на дворе живёт! – подхватил князь Борис Канбулатович шутливый тон Александра; он тоже был навеселе.
Фёдор Никитич сильно повздорил в тот раз с подвыпившими братом и зятем и выставил их за такие речи из дома вместе с дворецким Черкасских, Юшкой Отрепьевым. Тот же, сукин сын, успел побывать в добровольных холопах у брата – Михаила. А служилую кабалу-то дал на имя боярина, князя Бориса Черкасского. И тут выиграл, бестия! Ловок! Ванька Черкасский от него без ума. Рука, говорит, у него, как сам чёрт водит!..
Знал ведь, знал он, что сплетни-то ходят средь господских холопов почище пожара. Да казначей-то Александра, паршивец Богдашка, вперёд всех добежал до Годунова. А чем всё это обернётся – Фёдор Никитич представлял. Тяжёлым, нелёгким оказался для него груз ответственности за семейство Романовых после смерти отца.
Александр и Борис Канбулатович поплатились за свои длинные языки, потянули за собой и остальных. Много ли нужно было Годуновым, чтобы расправиться с ними? В думе-то сильны стали, с Сабуровыми-то и Вельяминовыми… Ведовством и кореньями-де Никитичи царство решили достать… Хм! Это же надо! Корешки – это так, для затравки…
Поразился тогда Фёдор Никитич, как набросились на них бояре. Точно свора собак!
«Кривой» Михайло вёл дело в думе…
«Выслужился перед Годуновым!» – неприязненно подумал он о Михаиле Салтыкове, дальнем родственнике со стороны жены.
Тот повинился потом – чёрт-де попутал.
Чёрт-то чёртом, а боярство за Романовых получил!.. Не слушались ведь ни Александр, ни Ксения: видно же было – не долго протянет Годунов-то. Ан нет – не терпелось! Вот и вышло опально. Истребил он почти под корень Романовых. Да и сам сгинул!..
Отсидев положенное время под одеялом в паровой бане, он высунул наружу голову и шумно вздохнул. Лекарь налил ему смородиновой настойки. Он выпил – дышать стало легче. И он погрузился в полудрёму, измучившись от изнурительного кашля. А мысли сами собой снова соскользнули в прошлое…
Первое время в ссылке его подолгу держали взаперти, в келье, с дворовым холопом Егоркой. Келья была маленькая, с крохотным оконцем. Вдвоём в ней было тесно, душно, совсем как вот под этим одеялом. Остаться же без Егорки он боялся – боялся одиночества.
Гулять же Богдан Воейков, его пристав, разрешал ему только под присмотром боярских детей, которые неотступно следовали за ним по монастырскому двору.
С приставом Фёдор Никитич не поладил с первого дня, как отправили его в ссылку, в Антониево-Сийский монастырь[60]60
Антониево-Сийский Троицкий мужской монастырь – в Архангельской губ., Холмогорского уезда, при озере Михайловском, или Святом, близ селения Сийского. Фёдор Никитич Романов находился там в ссылке с 1601 по 1605 г.
[Закрыть]. Семён Годунов велел везти его тайно, в крытом возке, неведомо для людей. И Богдан гнал лошадей, на ночлег в ямах не останавливался, только менял подводы, ночевал же в первой попавшейся деревушке. Обычно он выгонял из жилой рубленки хозяев, заводил туда узника и, чтобы никто его не видел, ставил подле избы караул.
На одной из стоянок Фёдор Никитич возмутился: «С приставом по нужде не приучен ходить!»
Богдан на это едко усмехнулся: «А мне велено силком поступить, если государев злодей и изменник начнёт делать что-нибудь против наказа! И нам с тобой, Филарет, лучше жить в мире, поскольку делаю я то не своевольством…»
Долго, долго отсидел он в одиночестве, в келье, прежде чем его стали выпускать во двор. И первое время, когда он выходил на свежий воздух, у него кружилась голова, и он отсиживался на брёвнах подле келейной. Брёвна те завезли для ремонта обветшавших монастырских построек. Денег у игумена, как всегда, не хватало, и дело шло ни шатко ни валко. Из-за этого тот осерчал почему-то на Поместный приказ. Там отписали монастырю государевы чёрные деревни в одном Емецком стане, взамен монастырских, разбросанных по разным волостям. И бывало, завидев его на брёвнах, игумен подходил, усаживался рядом с ним и подолгу бубнил об одном и том же, как будто он мог чем-то помочь ему.
– Работные-то, по найму, берут за поклад стены по алтыну. Брёвно подымет – отдай копеечку! А мужики потуги [61]61
Потуга – подать, тягло.
[Закрыть]вполовину несут. И те не враз!
– Да ты будто дерёшь с них?
– Как можно! По-божески, по-божески! – запротестовал, перекрестился Иона холёной и полной рукой, что у иной бабы.
– Сколько же с сошки?
Глаза у игумена хитро блеснули.
– По пять рублей двадцать алтын, – сказал он, соврав на полтину.
Филарет осуждающе покачал головой: игумен драл приметных денег [62]62
Приметные деньги – род дополнительного налога на соху.
[Закрыть]со своих чёрных крестьян в два раза больше, чем государь со своих.
– Братия у меня за так робит! – оправдываясь, воскликнул Иона и снова истово перекрестился.
Действительно, днём около бревён изредка, с ленцой, стучали топорами монастырские детёныши[63]63
Монастырские детёныши – дворовые, работающие по найму в монастырской вотчине.
[Закрыть], отрабатывая свой хлеб.
Посидев и посудачив о тяжких временах, они расходились. Игумен шёл к себе. Он же отправлялся в обход монастырских стен. За ним по пятам тащился Егорка, а следом – сторожа.
Вскоре Богдан привязался к Егорке и стал допытываться, о чём-де боярин говорит. Егорка рассказал ему об этом и по его наущению стал доносить приставу, что-де только о своих детушках плачет, с утра до вечера…
Заикнулся он как-то игумену, что ему нельзя жить вместе с мирским. Проверял, как это дойдёт до Богдана, а заодно рассчитывал, что тот сделает всё напротив. Пристав же оказался сообразительнее, чем он думал о нём, смекнул, что от холопа толку не будет, и к нему поселили старца Леонида. Того Богдан склонил подслушивать, что узник говорит по ночам во сне. Да не обмолвится ли о чём-нибудь, за что Семён Годунов милостиво пожалует.
До пострижения старец Леонид ходил в боевых холопах у Шуйских и под скуфейкой спрятал голову от топора после погрома тех Годуновым. И послухом он оказался добрым. Но не долго терпел его Филарет, поймал как-то, когда тот пользовался его требником[64]64
Треба – богослужебный обряд (крестины, венчание, панихида и т. п.), совершаемый по просьбе самих верующих; требник – книга с молитвами для треб.
[Закрыть]. Они погрызлись. И он в гневе чуть не прибил старца. Из кельи же выгнал.
Игумен, когда они встретились очередной раз на брёвнах, стал увещевать его, что-де то неправильно он сделал со старцем Леонидом, неблагочестиво: «Не по-божески!»
– Ты, отче, сам же изрекал: «Руку протянул – знать, покусился, грех!»
– То он от малости, вельми недалёк от мирского!
Под горячую руку игумен напомнил ему и об увиливании от работы в монастыре. Братия, мол, говорит: покуда мы робим, инок Филарет в келье сидит, а то по обители бездельно мотается.
Стерпел он это от игумена. О доносительстве и не заикнулся. То, оказывается, и не грех. Но с той поры между ними пробежал холодок. На брёвнах вместе уже не сиживали. Отказался он ходить и на исповедь: подозревал, что оттуда всё напрямую идёт к Богдану.
И зажил он со старцем Леонидом в одной келье, как с бельмом на глазу: куда ни взглянешь, всегда тут.
Как ни старался Сёмка Годунов, а слухи-то с воли доходили, да всё скорбные. Первым пришёл об Александре, с Белого моря: заморили-де того в баньке угаром по наказу Годунова. Умерли и дети Александра, сосланные вместе с его женой Ульяной на Белое озеро. Умер на Белом озере и князь Борис Канбулатович, от камчуги-де[65]65
Камчуга, камчуг – название некоторых болезней, в частности подагра.
[Закрыть]. И его жену Марфу она же чуть не свела в могилу…
«На кого бы тогда оставила моих детушек, Танечку и Мишеньку?» – горестно подумал он тогда о своих детях, которых увезли туда вместе с сестрой и зятем.
Там же, на Белом озере, оказалась и самая младшая сестра Фёдора Никитича, красавица Анастасия. Уже потом, когда при Расстриге их всех помиловали, она вышла замуж за князя Бориса Лыкова.
«Её-то за что?.. Девица же ещё!»
Умерла и его сестра Евфимия, постриженная и заточённая в Сумской острог. И где-то затерялся, сгинул в монахах её муж князь Иван Васильевич Сицкий. Не обошло пламя опалы даже дочери Марфы и Бориса Канбулатовича, дивной чернобровой Ирины, которая поехала со своим мужем Фёдором Шереметевым в Тобольск, куда того отправили в ссылку на воеводство. Умер и Васька, четвёртый по старшинству его брат, – на цепи, в Пелыме. Вместе держали их, братьев Ивана и Ваську, прикованными к стене. Ивана-то чуть живого увезли в Нижний. На службишку, говорят, по указу государя. Какая там службишка, если рука отнялась, да и язык тоже, мертвецом лежал. Но нет, выкарабкался…
И невмоготу стало Фёдору Никитичу жить на этом свете. Помышлял пойти против Бога: наложить на себя руки. Спасали только весточки от Ксении из Толвуйского погоста, да ещё думалось, как же детушки-кровинушки одни-то средь злых людей останутся.
Помогал ещё и Егорка: через него всё и получал. Сёмка-то дал наказ Богдану: следить, чтобы в монастырь не ходили богомольцы. Если же кто станет подходить к узнику, то он отлавливал бы их и, не расспрашивая, отсылал в Москву.
А на третьем году ссылки передали ему через холопа, что появился в Польской земле малый, назвался царевичем Димитрием. Вскоре донесли и кто скрывается за названным царевичем. Удивился Фёдор Никитич этому. И у него кольнуло сердце…
«Вон уже кто на царство-то замахивается? На Борисе сия вина! На Борисе, если до этого уже дошло!..»
Тем временем царевич на московскую землю ступил. И слухи пошли, что Борис никак не управится с ним. Побьёт его, а он опять с войском. То, шла молва, Господь ему помогает против воровства Бориса. И Богдан стал помягче, снова поселил к нему Егорку. А игумен задружился – тут уж и слов никаких не надо!
Фёдор Никитич же начал вольно вести себя: на литургию не всегда хаживал. Дошло до того, что поцапался он со старцем Леонидом на проскомидии [66]66
Проскомидия (проскумидия) – часть литургии, во время которой готовятся на жертвеннике Святые Дары для освящения.
[Закрыть]как-то. Припомнил он ему злодейство его и в сердцах бросил инокам, что «недолго он тут заживётся и вас за недругов желает видеть».
Об этом Богдан сразу же отписал на Москву: не по старчески-де зажил Филарет, с братией в раздоре.
Но Москве к тому времени было уже не до ссыльных Романовых…
Над ним и Ксенией всю жизнь соколом кружился злой рок: сначала он поуносил их детей в малолетстве. Первенца они назвали Борисом, в честь прадеда по линии матери Фёдора Никитича, Евдокии Горбатой-Шуйской. Следующего назвали Никитой, в честь деда. Да оба они в один день и умерли, от поветрия. Умерли и следующие, Лев и Иван… А что претерпелось от Годунова – одному Богу известно… Вернулся же из ссылки и стал ходить в холопах у холопа Черкасских. Он старался не вспоминать жизнь при первом самозванце. Было дело, столкнулись раз лицом к лицу, молчком взглянули друг на друга, на том и разошлись молчком… Крепко держал Фёдор Никитич язык за зубами, крепко. Сломал его Годунов. Боялся он: и за себя, и за деток. Очень боялся. Тишком жил, пока холоп сидел на Москве… Досталось и от Шуйского. В Тушино-то не без его помощи угодил: не пропустил в патриархи, митрополитом отправил в Ростов. А уже оттуда Вор своровал: нарёк патриархом. Уж куда хуже-то. Из огня да в полымя!.. Оправляться от страха он начал только в Тушино, да понемногу. И то после того, как увидел, что Москву-то не взять Вору. Но служить-то ему он служил, мужику без роду без племени…
Из шестерых братьев в живых остались только они вдвоём с Иваном. Тот маленько ногу приволакивает, рука отнялась… А над князем Борисом Канбулатовичем Давыд Жеребцов приставом потешился, ох потешился… Годунова не стало, так Шуйский к Ваньке Катырёву привязался: на воеводство сослал в Тобольск вместе с Танюшей!..
Фёдор Никитич прослезился, вытер глаза; переживал он о горькой участи своей единственной дочери Татьяне.
«Она же слаба, не выдержит. Там ведь, в Сибири, говорят, мороз лютый, аж птица с лёта камнем падает. Кровинушка моя родимая! Досталось и ей, как и сыночку моему… Отняли их у нас с Ксенией, отняли! Порознь сколько лет жили…»
«Ох, Михаил, Михаил!» – вспомнил он ещё и другого брата.
Михаил был третьим сыном боярина Никиты Романова-Юрьева: высокий, дородный, с большой физической силой. Как и все дети Никиты, он был привлекателен и добродушен, в молодости же любил поиграться, бахвалился силушкой. Бывало, схватится с дюжими дворовыми холопами: те наскакивали на него впятером, не менее. И он, как громадный медведь, стряхивал их с себя так, что они разлетались от него на несколько саженей.
Фёдору Никитичу, уже после ссылки, поведал один малый из его сторожей, как было дело.
В Ныробу Михаила привезли зимой. По указу Годунова ему под жильё отвели место в семи верстах от городка. Пока сторожа рыли землянку, Михаил вылез из саней и, разминаясь, сграбастал их в охапку, привычно бросил так, что перепугал до смерти.
С того дня сторожа и зажили в постоянном страхе перед его силушкой. Однако пуще всего они боялись Пыточного двора Сёмки Годунова. А чтобы узник не убежал, они держали его на цепи… Сердобольные жители городка пытались было кормить его. Но пристав Нефёдка тут же донёс об этом в Москву: «Государева-де злодея и изменника, против указа, кормят дети из дудочек. Летом, играючи, бегают в лесу подле землянки и носят ему в дудочках молоко – туда, в землянку, и опускают. И тех злоумышленных детей родителев я-де, Нефёдка, отловил и выслал с караулом на Москву…» А уж кто от Сёмки-то уходил?.. Из шестерых жителей городка назад, уже во времена Шуйского, вернулись всего двое… От страха и скуки сторожа уморили Михаила голодом, на хлебе и воде, в тёмной и сырой землянке. И когда окольничий умер, один из них занемог душой и сошёл в обитель. А через пять лет, на День Архангела Михаила, пришёл он в Ростов к нему, уже митрополиту: за покаянием. Всё и рассказал. Узник-де последние денёчки всё улыбался, и так, что внутри всё переворачивалось, глядя на него.
– Исхудал уже, кости и кожа да глазищи. А всё с улыбкой, по-доброму, ласково из-под земли речет, что я вас-де ещё не так покидаю. Шутил, шутил до последнего…
Фёдор Никитич отпустил малому грехи. Тот попросил разрешения переночевать в богадельне, ночью и преставился. С лёгким сердцем покинул он землю, оставив на ней содеянное. И те два кедра, что посадил над могилой Михаила и которые не давали ему покоя, снились по ночам до последних его дней.
Глава 14
Царь Василий Шуйский в плену
Мстиславский и Михаил Салтыков расстались с Жолкевским далеко за городом. Они проводили его до самой Сетуни, крохотной илистой речушки, что впадала в Москву напротив Девичьего монастыря. Как раз недалеко от того места, где они совсем недавно впервые встретились за столом переговоров. На прощание они троекратно расцеловались.
– Ну, Фёдор Иванович, я очень надеюсь на тебя, – заговорил гетман. – Удержи московских людей в кротости.
– Без тебя, Станислав Станиславич, гусары вольничать будут. Ох! Чую, здорово вольничать! И худо выйдет. Чёрных людишек ты хорошо знаешь. Запалят город, как пить дать, запалят!..
– Пан Гонсевский опора тебе.
– Он горяч, не слушает совета, – буркнул Салтыков.
Он уже успел поругаться с новым наместником, когда пан Александр Гонсевский как-то раз отшил его, когда он сунулся было к нему с советом. А он-то, дурачок, считал себя посланцем короля…
Мимо них прошла последняя рота гусар гетманского полка, и потянулся обоз.
Жолкевский спешил покинуть Москву и добраться к Смоленску до наступления настоящей распутицы.
А у Мстиславского было неспокойно на душе. Он привык к этому человеку, с острым взглядом и быстрому в мыслях. Его присутствие в Москве действовало умиротворяющим образом как на гусар, так и на московских людей.
– Ждём тебя с королевичем, – сказал он Жолкевскому. – Ты уж там как-нибудь поладь с Васькой Голицыным. Он сумасброден – но когда опомнится, дело делает!
– Доброго пути, пан Станислав! – попрощался с гетманом и Салтыков.
– Говори королю, пусть не мешкает! – заторопился высказать всё Мстиславский, лишний раз напомнить, что тяготило. – Нельзя государству стоять без царя! Много иных метят на пустое место!.. Бог в помощь тебе и Филарет! Он строг, не в пример иным: на слове стоит!..
Они расстались.
Жолкевский двинулся со своим полком по Волоколамской дороге. За версту от Иосифова монастыря его встретил Бартош Рудской и сразу же справился у него:
– Какие будут указания насчёт узника?
– Не спеши, пан Бартош. Всё завтра, завтра получишь инструкцию.
Последние месяцы у него всё складывалось весьма удачно, даже слишком. И это насторожило его. Значит, назревает что-то недоброе. И первой такой недоброй весточкой было послание короля, переданное ему Гонсевским. Тот приехал наместником королевича в Московию и сменил его. В своём послании Сигизмунд настаивал на передаче московского трона на своё имя. Это-то и подтолкнуло его к отъезду из Москвы. Хотя он и не надеялся склонить короля к тому, чтобы тот отказался от задуманного, но и оставаться тут ему теперь было не к чему. Договор подписан. Он достался большим трудом. Московиты пошли и так на большие уступки: не столь упорно говорят о крещении королевича в православие. Пройдёт время – пойдут ещё уступки. Надо выждать. Это такой народ… Странный!.. Слово написанное принимают за откровение, на сказанном устно – легко обманут. Да и Салтыков намекал не раз: опасно, мол, дальше гнуть палку. Вот всё успокоится, Владислав сядет на Москве, династия укрепится, тогда можно и по-иному что-то делать…
– Ваша милость, я провожу вас, – предложил Рудской ему, когда они добрались до монастыря.
При входе в игуменскую, где Жолкевский хотел остановиться на ночь, они столкнулись с молодым иноком. Горящий взгляд больших тёмных глаз, с глубокой потаённой мыслью, и тут же, сквозь неё, вырывалось страдание снедаемого страстями человека, – невольно остановили его.
– Кто такой? – спросил он Рудского, заинтригованный видом странного монаха.
– То первого Димитрия каморник: князь Ванька Хворостинин, еретик. Хм! Шуйский сослал сюда!
– И сам здесь же, – усмехнулся Жолкевский, размышляя о завтрашней встрече с низложенным царём…
Германова башня, место заточения Шуйского, отличалась от других и величиной, и формой. Квадратная в основании, высокая и массивная, она стояла в задней монастырской стене и сразу бросалась в глаза при входе в обитель, как будто уже одним этим была предназначена для родовитых узников.
Утром Рудской провёл Жолкевского по внутренней лестнице на второй ярус этой башни, в жилые покои.
Келья Шуйского оказалась просторной, светлой, с большим окном, затянутым разноцветными слюдяными пластинками. Через них неясно маячили купола соборной Успенской церкви на площади посреди монастыря и рядом – маленькая часовенка.
«Есть где и помолиться», – машинально подумал Жолкевский.
Шуйский ожидал гостей ещё вчера. Шум войска под стенами монастыря и карета Жолкевского во дворе – всё сказали ему. Он догадался – это за ним. И ночь прошла у него тревожно. Он так и не заснул до утра: лежал на постели с открытыми глазами, уставившись в темноту. Изредка, затаив дыхание, он прислушивался к малейшим шорохам за дверью, а то вставал и бесшумно ходил на цыпочках по келье…
С утра он нервничал, мерил шагами из угла в угол свою каморку и при появлении гетмана остановился, вперил в него пустой взгляд бесцветных глаз.
За месяц, что Жолкевский не видел его с тех пор, когда его привезли к нему в ставку, ещё на Сетуни, Шуйский сильно сдал. Монашеская ряса обвисла на нём плоско, тряпкой. Лоб заблестел глянцем. В глазах же исчез злобный прежний огонёк, а шаг стал лёгким, пружинистым и торопливым, как у нервного юнца.
– Государя велено было держать в сытости, – недовольно сказал Жолкевский по-польски Рудскому.
– Ваша милость, он сам себя морил голодом! – оправдываясь, ответил ротмистр.
Шуйский же стоял, смотрел на него и ожидал чего-то.
И под его взглядом на какое-то мгновение Жолкевскому стало неловко вот перед этим человеком, не так давно обладавшим непомерной властью и заслуживающим большего, чем оказаться тут, в заточении. И хотя раскаяния в содеянном у него не было, то, что он делал – было во имя Польши и короля, но всё равно чувство вины перед ним не исчезало.
И он, недовольный собой, сухо приступил к намеченному делу.
– Василий, ты уже знаешь, что московские люди присягнули Владиславу. И его величество беспокоится, чтобы не пролилась высокая кровь. Поэтому велел привезти тебя с братьями под его милостивую руку…
– Навыдумывал ты всё это, – заговорил Шуйский, не дослушав его. – Обманкой взял людей московских и меня той обманкой увезти затеял. Но неправда раскроется, и худо будет твоим на Москве!.. Народ, что дитя, – проведёт всякий его! Но обидеть себя он не даст!..
– Речи долгие ты веди сам с собой! – прервал его Жолкевский, с чего-то раздражаясь.
Он подал знак гусарам. И те стащили с Шуйского рясу, напялили на него польский кафтан и шляпу, поверх накинули голубой плащ гусара. На голову ему набросили капюшон, из-под которого сразу же торчком высунулась упрямая седая борода. Его вывели во двор и затолкали в повозку. Туда же забрались два пахолика и уселись по обе стороны от него.
Гетман простился с Рудским, сел на коня и покинул монастырь. Его рота снялась с ночёвки ещё раньше, на заре, и ушла на юг, на Можайскую дорогу, по которой двигалось основное его войско.
На последней ночной стоянке перед Смоленском его догнал поручик Невядовский. Он доставил к нему Шуйских из крепости Белой. Дмитрия, Ивана и Екатерину он привёз к Жолкевскому в той же самой, не по сезону, одежде, в какой их взяли со двора вместе с комнатной девкой и двумя холопами. Екатерину с девкой поместили в отдельной избе, а Ивана и Дмитрия отвели к Василию.
– А-а, и вы здесь, – равнодушно встретил тот братьев, когда пахолики втолкнули их к нему в избу.
Дмитрий и Иван не видели Василия уже два месяца и были поражены его истощённым видом. Перед ними был совершенно другой человек. Не тот, своевольный и раздражительный, каким они знали его. Перед ними был аскетический старец с седой бородой и скорбным, осмысленным взглядом. И он, этот старец, обнял их, по-отечески приласкал.
Несмотря на частые стычки, братья были всё-таки дружны.
Иван не выдержал этого и расплакался. По натуре мягкий и податливый, он был слишком молод для такого испытания, в какое угодили они.
– Куда нас везут?! – спросил он Василия и всхлипнул. – Никто ничего не говорит! Вон Дмитрий заикнулся было, так его плёткой, плёткой!..
– К королю, под Смоленск, – ответил Василий. – Выдали нас бояре, выдали!.. Федька Мстиславский с Кривым Михалкой! Сын его, гадёныш Ванька, всё крутится подле гетмана!
– Удавил бы раньше, так не сидел бы тут! – бросил ему в лицо упрёк Дмитрий.
– И это говоришь ты?! – вскипел Василий.
У него мгновенно исчезла вялость и под маской схимника проступил всё тот же вспыльчивый и злобный характер.
– Кто положил войско?! Такое войско, такое войско! – схватился он за голову, сдёрнул с неё шапку и ударил ею об пол. – Не смей при мне так больше говорить! Не смей! Бездарь!.. Я последнюю копейку заложил! Против Бога пошёл! Троицу разорил, только бы достать денег! А ты, ты!.. – не находя слов, захлебнулся он, и по лицу у него потекли слёзы.
На шум в избу заглянули караульные и подозрительно оглядели Шуйских.
Дмитрий наорал на них, выпихнул из избы и запер дверь на засов.
– Василий, Дмитрий, не надо! Прошу вас, не надо! – умоляюще заговорил Иван. – Тому делу не поможешь! Что о нём толковать?!
Василий отошёл от них, упал на лавку и беспомощно уронил руки.
Когда страсти улеглись, Дмитрий присел рядом с ним, сухим, трескучим горлом выдавил:
– Что делать-то? Они ведь и Екатерину забрали. Повязали, кругом повязали!.. Бросила земля Шуйских!
– Не земля! – с надрывом вырвалось у Василия. – Изменою холопов я наказан!..
В дверь кто-то забарабанил. Иван отодвинул засов.
В избушку вошёл дворецкий Савка с холопами и поставил на стол небогатый ужин:
– Гетман послал от себя.
– Почему бедно? – спросил Иван.
– Так, сказывают, и пан гетман живёт. Время-де военное, оттого и скудость великая.
* * *
К Смоленску Жолкевский подошёл тридцатого октября. У стана Дорогостайского его встретили гусары и пятигорцы, так же как и послов из Москвы: отсалютовали пушки, пропели трубы, отгремел барабанный бой.
– Как паны-то веселятся, – с укоризной в голосе сказал Бестужев, наблюдая вместе с Тухачевским за пышной церемонией.
– Пока тут паны, те грамоты, что дал король, не в грамоту. Он против своих не пойдёт, – напомнил Яков их старый разговор на эту тему.
– А зачем давал?
– Так крепче. Получил – стало быть, за него. А то неведомо куда твоя голова повернёт.
Васька даже подпрыгнул в седле от восторга:
– Ну и башка же у тебя, Яков!
– Я зря служил, что ли, при Валуеве-то!
– Глянь – Шуйские! – вдруг вырвалось у Бестужева.
Шуйских везли на простых крестьянских телегах, следом за каретой гетмана. На первой телеге сидел Василий. На второй же тряслись Дмитрий с Екатериной. Затем шла подвода с Иваном, на которую пристроились дворовые холопы.
В поношенном засаленном кафтане и шляпе с пером, с неживым, воскового цвета лицом, словно намалёванным на аляповатом лубке, Василий был похож на обычного мелкопоместного шляхтича, по пьянке помятого где-то в корчме…
И Яков оторопело уставился на него, открыв рот: такого он не мог себе даже представить. Да, он слышал, как поступили с Шуйскими. Увидеть же царя в таком жалком виде он не ожидал. И ему стало как-то не по себе, стыдно, оттого что сейчас происходило перед его глазами: и за себя, и за землю…
– Поехали! – машинально кинул он приятелю, тронул коня и двинулся вдоль дороги, не сводя глаз с телеги царя, за которой его как будто тянул какой-то магнит.
За службу в Москве он не раз видел царя, великого князя Василия Шуйского: его пышные выходы в Чудов монастырь и к Троице. Царь был всегда в окружении бояр, окольничих и стольников, несметного числа стрельцов. Помнил он и трепет людей от одного его взгляда и слова… Где же всё это?! И кто сидит сейчас в телеге?!
Мысли Якова, не находя ни в чём опоры, расползались, как ноги у коровы на льду, беспомощно забивали одна другую…
Подле Троицкого монастыря, стоявшего на берегу Кловки, гетмана встретил королевский полк. Тут же стояли роты гусар канцлера и пятигорцы Потоцкого. Для парадного строя Дорогостайский даже снял с шанцев жолнеров и пушкарей.
Яков с трудом дотянул до конца неуёмного торжества, увидел, как за Шуйскими захлопнулись ворота обители, вперил отсутствующий взгляд в монастырскую стену и так замер, сидя на коне.
Слишком много тяжких испытаний навалилось на него за последнее время. Устойчивый и понятный мир, где у него была семья, родные, близкие, где он служил великому московскому государю, рухнул, и его обломки ударили по нему и что-то сломали внутри у него…
– Яков, поедем, – не выдержал его молчания Васька. – Ничего не поделаешь, жить-то надо, – потерянно выдавил он сизыми от холода губами; он уже изрядно продрог, но не решался нарушить молчание своего друга.
Они тронули коней и шагом двинулись к себе в стан.
Стояла холодная промозглая непогода. По дороге ветер гонял опавшую листву, перемешивал и сбивал её в кучи. Голый, словно обглоданный, осенний лес выглядел омерзительно. Остро пахло сыростью и гнилью. И от всего этого на душе у Якова было темно и пусто.
* * *
Такого наплыва сенаторов и придворных Троицкий монастырь не видел даже на приёме королём московских послов. В большой трапезной палате все с нетерпением ожидали появления Василия Шуйского, чтобы посмотреть на него, на пленного московского царя.
В палате стоял приглушённый говор. Под её сводами летали смешки и вздохи, похожие на лепет…
Придворные разбились по кучкам, завели беседы…
Всех ближе к трону стоял Яков Потоцкий. Здесь же был и Лев Сапега, тоже недалеко от короля.
Но вот наконец-то распахнулись двери палаты.
Все сразу замолчали и уставились туда, на дверь, как будто ждали чуда или явления второго.
А в неё, в дверь, неширокую, уже изрядно потрёпанную, первым вошёл Жолкевский. За ним вошёл его секретарь Викентий Крукеницкий. Далее два пажа сопровождали Василия Шуйского. Шествие замыкали Дмитрий и Иван Шуйские, и тоже в окружении пажей.
Вся процессия была обставлена так, будто на приём к королю явился великий государь со своим ближним окружением. Хотя всё та же высокая шапка и поношенный белый кафтан на Василии невольно отдавали фальшью. Одежда Дмитрия и Ивана тоже не вязалась с торжественностью момента. И от этого они, Шуйские, шли, конфузились и не глядели по сторонам.
Жолкевский прошёл вперёд и поклонился Сигизмунду. Затем, приняв позу оратора, он объявил: «Пресветлейший и милостивейший государь! Я здесь, чтобы вручить торжественно труд доблестного королевского войска: трофеи и ключи Кремля! Твои полки стоят в Москве, ждут нового царя, королевича Владислава! Великий день сегодня: для короля, для войска, Польши, для всех нас!..»
Он говорил недолго – вступительную речь. Всё остальное он позволил сказать своему секретарю Крукеницкому.
Речь того была красочной. Она напомнила им всем, исстрадавшимся величием, что недавно, так же как сейчас стоит здесь московский царь, к королю выводили австрийского эрцгерцога Максимилиана. Одет неволей тот был тоже в польский кафтан, не лучшего покроя… И вот сейчас гетман передаёт в милостивые руки его величества и сенаторов самый главный трофей московского похода…
– Теперь у тебя в руках смотритель Москвы и полководец всей земли! – поклонился он Сигизмунду и показал сначала на Ивана, затем на Дмитрия. Он сделал паузу, и широким жестом представил Василия: – И царь всея Руси!
Пажи подступили с двух сторон к Василию Шуйскому и двинулись было с ним к трону…
Но Потоцкий сделал шаг вперёд и загородил Шуйскому дорогу.
Затем он обратился к Шуйскому по-русски, заговорил с акцентом, цедя слова, всё делая намеренно.
– Государь и великий князь Василий Иванович, перед тобой король великой Польши! Честь сана короля гласит, чтоб ты поклон отбил ему: как делают холопы на Руси у вас!
Василий не ожидал этого и непроизвольно дёрнул плечами, словно противился всему, что происходило сейчас здесь.
Да, он понимал, что рано или поздно наступит вот такой момент, ожидал его и хорохорился, взвинчивал в своём сердце злобу на бояр, выдавших его, переносил её на Сигизмунда. Тот всячески стремился свалить его с царства и давно уже превратился в личного врага. И вот теперь этот враг был перед ним… Что сказать ему? Да и кто же он сам-то сейчас? Без власти, без силы, без земли? Пленник, инок или холоп?.. Что может он? Как ответить, задеть за живое вот этого короля? Достать на той вершине, на которую тот взгромоздился? Показать всю тщету его минутного триумфа?.. В голове не было страха: он был в сердце, это оно дрожало…
– Московскому царю зазорно стоять перед тобой! – начал он, глядя прямо в лицо Сигизмунду. – Тем паче первым бить поклон! Ведь не был он твоим холопом!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































