Текст книги "Последний разговор с Назымом"
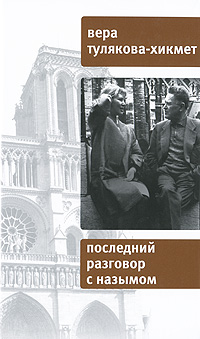
Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
– Сейчас я хочу попросить моих товарищей поэтов-переводчиков, чтобы они читали то, что я сделал в последнее время. Как бы мой отчет перед вами. Но раньше я вам прочту по-турецки «Каспийское море». Согласны? Когда мне приходится выступать, я читаю эти стихи, во-первых, потому что ничего, кроме них, не знаю наизусть, а потом их легче фонетически понимать. Сейчас я так не пишу. Я так писал, когда мне было двадцать лет.
Люди слушали тебя, затаив дыхание, а потом долго и горячо аплодировали. Потом Муза Павлова почти час читала отрывок из «Человеческой панорамы». В зале тишина.
Даже сейчас, когда я сижу в кресле, уткнув лицо в колени, я не слышу ни скрипа стульев, ни кашля.
Ты вроде бы перед слушателями, а сам и вовсе не здесь. Ты там, на тропе с Нигяр, рядом с ее малюткой. И если бы сейчас толкнуть тебя в плечо и спросить, что случится с Нигяр, – ты бы удивился, не ответил бы, стал бы слушать поэму, чтобы самому все узнать…
…Музу Павлову проводили слушатели аплодисментами. После нее свои переводы читал Давид Самойлов.
– Это стихи шестидесятого года. Лейпцигский цикл. Лирический.
Я люблю тебя, как люблю есть хлеб, обмакнувши в соль… – начал Самойлов, и мне захотелось стать маленькой, невидимой точкой, чтобы никто меня не заметил, не догадался, что это стихи Назыма ко мне… Я впервые тогда слышала, как про нашу любовь рассказывают в микрофон сотням незнакомых людей. Меня охватил ужас. Я сидела, низко опустив голову. Мои щеки горели огнем. Когда Давид Самойлов очень тихо и серьезно прочитал последние строки:
И то, что я, завершая путь, не дошел до города, —
мне не так горько – благодаря тебе.
Благодаря тебе – я к себе не пускаю смерть, —
я подняла голову и взглянула на тебя. Ты смотрел на меня так напряженно, что твоя голова вздрагивала. И я вдруг испугалась, что ты сейчас скажешь: «Товарищ Самойлов, читайте, пожалуйста, еще раз эти стихи». Но ты промолчал, и Самойлов читал дальше… Читал одно за другим все стихи Лейпцигского цикла.
На шоссе, продутом ветром и теряющемся вдали,
час свиданья, час нашей встречи приближается босиком,
час свиданья простоволосый – чуб упал на его лицо,
как он движется неспешно – право, можно сойти с ума!
Час свиданья, час нашей встречи приближается босой,
и прикручены мои руки к телеграфному столбу,
а усталое мое сердце остановится вот-вот,
а на лоб мой падают капли – как на камень —
одна за другой.
Час свиданья, час нашей встречи приближается босой,
я все думаю неотступно, я все думаю о тебе,
и чем больше, чем неотступней, тем он медленнее бредет
если долго так продлится, не дождусь —
и упаду.
Голос Самойлова умолк. На смену ему зал как-то едино выдохнул и всплеснул сотнями рук. Ты смотрел на разбушевавшихся людей и, немного смущаясь, улыбался. Ты был счастлив, что стихи легли людям на душу.
– Слуцкого, который перевел вот эти стихи, – сказал Константин Симонов, подвинув поближе к себе странички, – сейчас нет в Москве. Поэтому позвольте мне прочесть в меру сил это стихотворение…
АВТОБИОГРАФИЯ
Написана 11 сентября 1961 года в Берлине:
Родился в 1902
не возвращался туда где родился
возвращаться не люблю
Трех лет от роду в Алеппо состоял внуком паши
девятнадцати лет в Москве студентом
Коммуниверситета
сорока девяти лет снова в Москве гостем ЦК партии с четырнадцати лет в поэзии состою поэтом.
«Автобиография» была встречена овацией. Когда аплодисменты стихли, снова заговорил ты.
– Товарищи, я знаю, что страна, в которой люди могут слушать стихи подряд четыре часа – это только Советский Союз. Я это знаю. Я сам как поэт не могу слушать стихи, даже прекрасные, больше получаса. Но вы это умеете делать. Несмотря на это, я думаю, что хватит стихов. Сейчас давайте поговорим.
– Можно еще стихи?!
– Что?!
Но из зала настойчиво просят читать стихи.
– Не знаю, есть ли у вас что-нибудь? – обернулся Назым к поэтам-переводчикам.
– По-турецки читайте! По-турецки! – кричат из зала.
– Вот у товарища Самойлова есть очень ранние стихи.
– Спасибо! Спасибо! – аплодирует зал.
– Я прочту вам «Великан с голубыми глазами».
ВЕЛИКАН С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ
Был великан с голубыми глазами,
он любил женщину маленького роста.
А ей все время в мечтах являлся
маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
Великан любил, как любят великаны,
он к большой работе
тянулся руками
и построить не мог
ей теремок —
маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
Был великан с голубыми глазами,
он любил женщину маленького роста.
А она устала идти с ним рядом
дорогой великанов,
ей захотелось
отдохнуть в уютном домике с садом.
– Прощай! – сказала она голубым глазам.
И ее увел состоятельный карлик
в маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
И великан понимает теперь,
что любовь великана
не упрятать в маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
Я их слушаю и думаю: честное слово, стоило тебе встретить Нюсхет, чтобы написать это стихотворение!
– Теперь такая записка, – говоришь ты и читаешь: «Товарищ Назым, мы Вас очень любим, поэтому пришли послушать Ваши великолепные стихи («Ваши» подчеркнуто!), и узнать, что Вы думаете о театре и вообще о состоянии искусства на сегодня».
В зале рассмеялись.
– Товарищи, это целый доклад! Я думаю, после XX съезда открылись окна для культурной жизни нашей страны – это факт! Для всего прогрессивного человечества – факт! Но и сегодня на окнах появляются разные решетки – это нормально? Все равно новое будет побеждать, я в этом уверен. Что касается театра – тоже. Я жил в золотую эпоху советского театра, когда в 1921 году впервые приехал в Москву. Когда я вернулся в Москву в 1951-м, я обнаружил, что во всех театрах как будто играют по системе Станиславского, но что-то из нее ушло вместе со Станиславским и Немировичем. Получается, что систему Станиславского равнодушные режиссеры или не очень талантливые вынимают из сундука, как пронафталиненную чалму. Вот у меня в руках записка. Нет, я хочу видеть человека, который задает мне вопрос, а то ведь это бумага! Вы спрашиваете о живописи. Мне кажется, что живопись самый международный вид искусства. Поэту нужен переводчик. А перевод может быть хороший или плохой. А живописи перевод не нужен. Но у нас многие молодые и очень талантливые художники не имеют возможности выставляться. Для них закрыты не только музеи мира, но даже возможность видеть книги по современному искусству Запада! Некоторые голодают! Страшно, товарищи. Я очень люблю Целкова, Оскара Рабина, Краснопевцева, Зверева, Сидура, Силиса, Лемпорта. Многих. Бюрократы думают, что талант – это пустяк, что он появляется часто, что с ним можно не церемониться. Но это преступление невежд! Таланту нужно помогать с любовью, с надеждой. Иначе он пропадет. Обижаться на чиновников, на власти не стоит. У нас в Черном море есть одна сильная рыба, и ее очень трудно поймать. Но она очень обидчивая. У нее есть большой-большой нос. Люди ударяют по этому носу. Рыба обижается и легко попадается в сети. У меня тоже, слава Богу, большой нос. И сколько меня по нему ни били, я продолжаю писать. Вот, например, я написал пьесу «А был ли Иван Иванович?». Ее очень быстро сняли со сцены. И сколько я своих друзей в Москве ни спрашиваю, почему ее сняли, никто не может ответить. Можно было бы обидеться и больше не писать пьес, а я пишу. Написал после нее очень серьезную пьесу – «Быть или не быть?», думая о судьбе моего друга Александра Фадеева. Ее не поставили. Потом написал «Дамоклов меч» – он идет в «Сатире», во многих театрах здесь и в других странах. С моей женой Верой Туляковой написали пьесу «Два упрямца» – повезло. Поставили. Написал «Тартюф-59» – не разрешили. Потом «Корову» – снова запрет. Так что, когда мои переводчики спрашивают: «Что будем переводить?», я им отвечаю: «Если вам не надоело переводить пьесы, которые не идут, то пожалуйста!» Но не писать невозможно, если ты действительно писатель и работаешь не для чиновников. Жена Булгакова принесла мне прочитать его роман «Мастер и Маргарита», много других рукописей. Сейчас его тоже не пускают – но я уверен, что ваши дети обязательно будут читать его замечательные книги, а внуки будут изучать в школе, как Пушкина или Достоевского!
Зал аплодирует, как будто идет открытое голосование за жизнь булгаковского наследия.
– Вот так, товарищи.
И Назым рассмеялся.
Я поднимаю голову с коленей – затекли ноги. Смотрю на магнитофон, ничего не понимаю: пленка давно кончилась, а может быть, недавно… Я даже не заметила, когда в комнате перестал звучать твой голос. Я просто была на вечере, который, оказывается, записали не до конца. Если бы не заболели ноги, я бы дослушала и досмотрела все, что там было, еще бы раз прошлась с тобой по пустому дому Маяковского, когда все разойдутся… Еще бы раз…
Мы месяцами не расставались с тобой, Назым, совсем, ни на час, но как много было разлуки. Разлука – твоя ревность.
Твоя жизнь была плотно насыщена работой, людьми, событиями, прошлым, будущим, настоящим всего мира. Я несколько лет неслась в урагане твоей судьбы. Мне кажется, что я прожила с тобой, Назым, жизнь очень длинную и сегодня сижу перед тобой старая-престарая, как ворона или слон. Кажется, что живу на свете лет триста. Ты прошел через меня всей своей невероятной судьбой. Иногда мне кажется, что это я сидела семнадцать лет в тюрьме, это я любила твоих женщин, это я умерла. А ты? Ничего не боялся, боялся, что умрешь, а я останусь одна. Как мог старался меня подготовить к неотвратимому и мучительно пытался предусмотреть все рифы на пути моего одиночества. Хотел остаться моим мужем и после смерти: кормить, одевать, обеспечивать сносную жизнь.
– Я умру, а ты останешься, от этого я схожу с ума. Как ты будешь жить, давай подумаем, Веруся. Давай все решим сейчас. Пойми, я хочу помочь тебе. Не отпускай меня так. Давай подумаем.
Я бегу от этих просьб, я отъединяюсь от тебя, я не хочу, не умею, я боюсь об этом думать. Я не буду копить деньги на «то» будущее. Не смогу. «Неужели он не понимает, – думаю я, – что, начни я складывать деньги про запас, и – конец всему. Я уже ушла от него, меня больше нет… Да и его тоже нет. Не понимает, он ищет способ продолжения. Своего продолжения в моей жизни. Я чувствую, что он рисует картины моего одиночества. Ему меня нестерпимо жалко, и оттого он так страдает, кричит по ночам…»
– Неужели ты забудешь меня, как твоя мама забыла твоего отца? В ее комнате нет даже маленькой фотографии твоего отца. Ни разу она не вспомнила его имя при мне. А я знаю, что он ее безумно любил. Я это сразу понял по его письмам с фронта. Разве русские женщины так быстро забывают?
– Я не забуду, Назым. Не думай об этом.
– Я буду ревновать тебя оттуда лет до пятидесяти. Нет, до пятидесяти пяти. Я вижу тебя до этого времени. Потом, не знаю, что будет.
Я не мог бы прикоснуться к женщине, если бы она мне изменила. И в этом случае я всегда поверил бы слуху, сплетне, а не оправданиям предательницы. Это первое. Второе – я никогда в жизни не мог написать стихов случайной женщине, случайному человеку. Многие женщины с которыми меня сводила жизнь, вымаливали хоть строчку. Я не мог! Ни разу, никогда.
Они существовали параллельно моей жизни, а не внутри ее. Понимаешь? То есть, когда они говорили: «Богатый человек, купи мне шубу или кольцо», я, безусловно, покупал, если деньги были. Но стихи – нет. Поэты не лгут.
«Как ты могла это сделать?» Сколько лет ты задавал мне этот вопрос. Сколько лет… И вот сегодня утром я услышала его снова. Я опять включила магнитофон. Поползли старые пленки, забытые давно. Помнишь, мы купили магнитофон, и первое время развлекались этой игрушкой, записывали свои дни с утра до ночи.
Ты сказал:
– Я запишу для тебя на пленку все мои стихи. Пусть голос всей моей жизни останется с тобой. Когда тебе будет скучно, будешь слушать своего Назымчика. Сначала будет трудновато, потом привыкнешь. Даже под мой голос будешь думать о совсем незнакомых мне вещах или людях, может быть, о мужчинах…
Но потом, вдруг, что-то тебе вспомнится от меня. Хочу только это. Больше ничего. Тогда мой голос скажет тебе: «Спасибо, Веруся моя, миленькая моя, гюлюм моя, биртаним моя, севгилим…»
Потом дай этот голос в Турцию тоже. Наше примирение состоится после моей смерти. Я должен умереть, чтобы вернуться на родину. Как жаль, что не могу взять тебя и один раз, один раз повезти туда. Я показал бы тебе мой Стамбул. Честное слово, это один из самых прекрасных городов земного шара. Ах, как я угостил бы тебя моим Стамбулом. Если бы мы летели туда на самолете, я попросил бы летчиков лететь низко-низко и медленно-медленно, чтобы ничего не пропустить в нашем приближении. Если бы мы подплывали к нему на пароходе, я умолял бы капитана развить бешеную скорость, чтобы не умереть от счастья, не доплыв до берега. Если бы быть в Стамбуле… Я показал бы тебе Старый город, показал бы на заре тот город, который я столько лет вижу в своих снах. Потом мы вместе поехали бы смотреть его новую часть. Помнишь, в Милане, я встретил архитектора турка, совсем рыжего парня? Помнишь, он рисовал нам за обедом планировку новых районов Стамбула?
Потом, ай-я-яй, я повел бы тебя к друзьям. К Балабану бы повел. Ты его через меня уже знаешь. Вот он художник! И я не ушел бы от него без картины. Когда мы познакомились с ним в тюрьме, я сразу кончиком своего большого носа угадал, какой он талант! И не ошибся. Обнял бы Орхана Кемаля, говорил бы с ним до утра. Пошли бы сидеть к Яшару, пили бы у них с Тильдой крепкий чай. Он очень крупный прозаик, его талант гневный, нежный, по-настоящему народный. Я рад, что здесь люди нарасхват читают его «Тощего Мемеда», да и «Орта дирек» не хуже. Замечательный роман. Так что у Галлимара истинный вкус. Он каждого писателя видит на два метра под землей еще смолоду. Яшар бы рассказывал, я бы слушал. Ты знаешь, как он мне помог. Ведь это была храбрость – приехать ко мне в Париж, говорить открыто, не таясь, везде и всюду, с раннего утра до поздней ночи гулять по городу со мной все те дни. Когда он начал читать на память мои стихи, я чуть с ума не сошел от счастья. Ведь временами, ты знаешь, мне кажется, что в Турции забыли мои стихи. Через него я снова поверил в Турцию, поверил своему народу, своему будущему.
Мы обедали бы непременно у моей Самийе, мы ведь с сестрой похожи. Если, конечно, ее муж не увез в другую страну. Он у нее дипломат. А потом разыскали бы Рефика, наняли бы лодку и поехали бы кататься с ним вдоль берега. Тем, что я жив – я обязан ему и еще одному нашему другу. Ты-то знаешь. Если пойдешь на родину без меня, скажи им об этом. Скажи, что его имя я нес на сердце и в стихах «Автобиография» послал ему привет… Я ничего не мог для него сделать, а хотел и то, и это…
Мы позвонили бы Мемеду Фуату, – говорил Назым. – Может быть, в дни молодости и потом я был ему плохим отцом, но он оказался настоящим человеком. Его мать Пирайе – замечательная женщина. Ты знаешь, его письма я перечитывал сотни раз. Повидались бы с Мемедом али Айбаром. Пошли бы к молодым поэтам посмотреть, кто из нас моложе. Прошли бы мимо тюрьмы Чанкыры. Входить бы в нее не стали, но с одним директором тюрьмы – Тахсинбеем, хорошим человеком, я бы встретился с благодарностью. Интересно, счастливо ли сложилась жизнь у его любимой дочки Шехназ? Я бы хотел зайти к бывшему прокурору Иззет Окчалу, ведь у него остались мои рисунки, стихи… Что с ними? Выбросил или еще хранит? Постояли бы на мосту Халич, потом я показал бы тебе Айя-Софию.
Вот где ты ахнешь! Будешь стоять, задрав голову, пока не закружится от счастья все это видеть твоя голова. Потом мы не спеша пройдем по Бейоглу, увидишь наш центр. Я покажу тебе Топканы, бульвар Ататюрка, а самое главное, ты увидишь людей. Увидишь, какой мой народ нежный, красивый! Увидишь это горячее море людей, из которого я вышел…
Вечером мы пошли бы с тобой на набережную. Сидели бы долго с друзьями в каком-нибудь маленьком ресторанчике. Я заказал бы фаршированные мидии, я сам бы пошел на кухню готовить для тебя красную рыбу. Ты знаешь, как я умею готовить рыбу! И сколькими способами! Когда-нибудь, когда я напишу все свои стихи и не останется больше ни строчки, когда все мои пьесы будут закончены, я сяду и создам шедевр – свою кулинарную книгу. Вот она-то и принесет мне настоящую славу и богатство. (Тут ты рассмеялся.) Так хочется вкусно накормить людей. И, мне кажется, не потому, что я турок, а потому, что видел мир и могу сравнивать, турки готовят еду немножко лучше других.
Веруся, когда меня не будет, иди хоть один раз в Турцию. Хоть тайком. Сделай это ради меня. Пожалуйста! Честное слово, тебе понравится. Верь мне. Иди в мой край. Я там встречу тебя, радость моя, жена моя, единственная моя, потому что я буду там.
Бом, бом-м, бом-м…. Наши часы пробили двенадцать раз, и на улице перед окном твоего кабинета, как обычно, погасили фонарь. А наш дом, словно на допросе, заливает электрический свет. Это я включила его повсюду, ввернув самые большие лампы. Он будет гореть до утра, как вчера, позавчера и так далее. И так далее, далее…
Только не думай, что я боюсь наткнуться на твой взгляд в темном углу. Приходи, Назым. Я призываю. Я никому не скажу, что ты был здесь, протягивал мне руку и просил: «Сядь, миленькая моя, поближе, давай поговорим немножко…».
– Послушай, Вера…
Узнаешь, Назым? Это я опять включила магнитофон. Твой голос еле слышно со мной разговаривает.
– Послушай, Вера, почему ты сегодня грустная? Вообще часто бываешь грустная. Вот и бакинка наша слепила твою голову из гипса, очень плохую, конечно, но в ней передано единственно верное в тебе – грусть. Все думают, ты веселая… Ты много шутишь, на смех людей вызываешь, всегда улыбаться стараешься. Это тебе идет, конечно. Но когда никто не видит, грусть выходит наружу и уводит тебя. Она тебе что-то тихо говорит, и ты ее слушаешь немножко устало, немножко покорно и всегда с доверием. О чем она говорит тебе? Конечно, у нас достаточно причин, но твоя грусть связана с чем-то другим, по-моему, и не зависит от наших с тобой отношений, от быта… Скажи, посмотрим!
– Для чего меня родили, Назым?
– Ого, что она хочет понять!
– Ведь каждый человек для чего-то появляется на свет. Для чего я?
– Ты – для счастья!
– Ты шутишь, а если серьезно? Когда мы были врозь, счастье было в том, чтобы быть вместе. Теперь мы вместе, и наше счастье опять впереди, оно уже в чем-то другом. Мы опять его догоняем. Ты понимаешь?
– Да, да! Потому что счастье – это жизнь, миленькая.
– Жизнь? Но я же с этого начала. Это не ответ. А в чем моя цель или твоя? У нас есть с тобой цель?
– Конечно!
– Но в чем? Допустим, ты хочешь написать еще десять или сто стихов или роман… Но разве это можно назвать целью жизни? А другой хочет быть министром. Это тоже цель… А мы говорим: цель его или моей жизни. А предназначение? В чем оно?
– Ну, ты задаешь высшие вопросы, Вера. Этими вопросами человечество мучается уже несколько тысяч лет… Человек верующий сошлется на Бога, другой скажет, что все определяют экономические условия общества. Но в чем его предназначение – сам человек не знает. Надо помогать людям жить. Вообще помогать – это уже кое-что – и разными способами. Скрипач думает, что он родился, чтобы играть на скрипке. Но, может быть, однажды какая-то женщина будет перебегать дорогу и не увидит, что рядом автомобиль. И тогда этот скрипач крикнет ей: «Эй!», и она остановится вовремя. Она родит человека, этот человек родит потом другого человека, тот человек тоже родит человека, и вот он-то, может быть, и окажется очень нужным людям. Так что трудно сказать о предназначении. Все идет из прошлого, через нас в завтра, Веруся моя…
Магнитофонная пленка крутится с тихим шипением. Слышно, как ты шаришь рукой по столику, нащупывая через развернутые газеты зажигалку. Чиркнув несколько раз, прикуриваешь, устраиваешься поудобнее… И тут раздается грохот, что-то падает на пол. Мы смеемся…
И я говорю уже шутливо:
– Если мое предназначение во встрече с тобой, то правы египетские фараоны, забиравшие в пирамиды своих жен…
– Что ты, что ты, Вера, ты еще очень молодая! У тебя впереди целая жизнь…
Я встала на стул и остановила часы вместо того, чтобы остановить время.
Помнишь, Борис Леонидович Пастернак объяснял тебе тайну цветаевской поэзии, говорил, что она могла каждую минуту начать жизнь сначала. Ты удивлялся, а он как бы вскользь: «А вы-то сами разве не так?» Как часто ты возвращался мысленно к Пастернаку, специально искал собеседников, чтобы о нем повспоминать.
В Париже мы гуляли с Рубеном Николаевичем Симоновым по Елисейским Полям ночью, говорили о неожиданном провале его нашумевшего в Москве спектакля «Иркутская история» («зачем вы нам привезли жалкий вариант «Дамы с камелиями?» – кусались французские рецензенты), а потом говорили о Борисе Леонидовиче.
Рубен Симонов рассказал, как однажды он провел отпуск с сыном Женей в санатории «Узкое», где лечился и Пастернак. Когда Симоновы уезжали и за ними пришла машина, Рубен Николаевич предложил Пастернаку ехать вместе в Москву. Тот собрал все вещи и вынес их на крыльцо. А перед самым отъездом неожиданно вышел из машины: «Вернусь, погляжу, не забыл ли чего…» – «Не ходите, Борис Леонидович, я заглядывал, – остановил его Женя. – Комната пустая». – «Нет, я пойду», – и ушел.
Пастернака не было полчаса. Рубен Симонов попросил сына сбегать и поторопить его. Когда тот поднялся к Пастернаку в номер, то увидел его, одиноко сидевшего на стуле посреди пустой комнаты. Пастернак сидел с отрешенным лицом, глубоко погруженный в свои мысли. Заметив удивление юноши, с чувством сказал: «Ведь я прожил здесь месяц!»
– Как я его понимаю! – воскликнул ты. – Он серьезно относился к своей жизни. В этой комнате он многое передумал, многое вспомнил, и было невозможно закрыть дверь и уйти, не оглянувшись…
– За две недели до трагической истории с «Доктором Живаго», – ответил Рубен Николаевич, – он написал мне на подаренной книжке «Желаю тебе прожить так же тихо и спокойно, как прожил я…»
– А мне он сказал, – вдруг вспомнил ты, – когда мы встретились в Переделкино: «Я только что закончил большую работу, написал роман, который всем понравится…»
Помнишь, как ты потребовал однажды: «Вера, никогда больше не выходи замуж за писателя! Обещай мне!» – «Почему?» – удивилась я. «Я не видел здесь ни одной счастливой жены писателя, хотя некоторых мужья любили. Русская душа, соединенная с талантом, так же неподъемна, как мешок золота».
Да, был у нас с тобой короткий период – одно лето, когда мы по средам ездили днем обедать в странное сооружение академика архитектуры Жолтовского – ресторан «Бега». И вовсе не потому, что он был неподалеку от нашего дома, а из-за Николая Робертовича Эрдмана.
Как-то летом мы с тобой сбежали из дома – замучились от людей, от кормежки, решили тихо поесть где-нибудь вдвоем. Приехали на бега, где прежде не бывали, и не поверили глазам: в ресторане – ни души, официанты скучают.
Нам все мигом принесли. Ты был потрясен – пустой ресторан в Москве – ситуация почти фантастическая. И вдруг в мгновение все переменилось! Народ повалил, как в метро в час пик – все возбуждены, громко спорят, и в зале переговариваются одновременно человек шестьдесят… Оказалось, кончились бега, и болельщики, преимущественно мужчины, хлынули студить страсти и закусывать. Ты словно в театр попал, так тебе стало любопытно находиться среди воодушевленных, темпераментных, празднично настроенных людей.
– Никогда не думал, что русские такие горячие, как, например, грузины или турки! – радостно восклицал ты.
И вдруг в дверях я увидела Эрдмана. Вошел он с компанией. С М. М. Яншиным, или Яншин позже подошел… А. П. Старостин был там, еще какой-то известный московский адвокат и художник. Я помахала Эрдману рукой, и наш до того пустующий, как остров, стол стал самым оживленным.
О его страсти к лошадям я знала еще со времен работы на «Мультфильме», об этом знала и вся студия, где «Эрдмашка» был всеми обожаемым автором.
– Ради Христа не давайте Николаю Робертовичу по средам денег! – умоляла по телефону его старуха-домработница, – ведь все спустит в тот же день на проклятых бегах!
И мы интриговали, дуры, врали ему, берегли его деньги на хозяйство, лишали радости.
Но с тобой по великой случайности Эрдман знаком не был. Даже у Вольпиных вы не встретились, хотя заочно конечно, оба были наслышаны друг о друге. Тебя, Назым, Эрдман покорил сразу. Что-что, а талант ты чувствовал за версту, а тут были и благородство, и сильный ум, и настрадавшаяся душа. До чего же с вами было интересно! Такая в вас прорывалась лихость, удаль от удачи, что встретились наконец, что все так легко происходит… Разговор пошел веселый, шутейный, с литературными анекдотами, забавными воспоминаниями из московской молодости – она у вас к обоюдному восторгу оказалась во многом общей. Выяснилось, что вы одногодки и несколько бесшабашных счастливых лет провели в одних и тех же «злачных» местах старой Москвы. И пошло, поехало: «а помните это? а то?..»
– Кафе «Стойло Пегаса»? – кричал ты. – Еще бы! Помните, как оно было разрисовано?
– Это Викулов! Театральный художник его так расписал! А помните, там, на стене есенинское?
И все хором:
Плюйся, ветер, охапками листьев,
Я такой же, как ты, хулиган…
– А ты, Колечка, свое, свое прочти, – язвительно посоветовал Эрдману Яншин.
– И вы там на стене писали? – обрадовался ты.
– Молодой был, нахал, как и вы, должно быть, Назым. Хотелось всей поэзии швырнуть перчатку. Эпатировал страшно. Я там с гордостью начертал свою декларацию невинности:
А я свой пах
В давильнях ваших тел
Из кожи девственной
Не вынимал ни разу!
И вы безумно хохотали, забыв про годы, про все на свете.
– Так вы поэт? А я от Веры понял, что вы писали знаменитые пьесы в двадцатые годы. И имажинист к тому же, ведь «Пегас», если мне память не изменяет, был штабом имажинизма? Я там Есенина много раз видел, потом этого поэта, которого Есенин любил, ну красивый такой парень, всегда хорошо одевался…
– Шершеневич, что ли? – подсказывал старый адвокат.
– Какой там! – махал рукой Эрдман. – Мариенгоф! О Мариенгофе говорит Назым, верно? Ну конечно: и красивый, и щеголь, и талантливый, и его любил Есенин.
– Да, да, – кивал ты, – я очень на него хотел равняться, но у меня одежды в то время не было, конечно, а хотелось…
– Но Назым, вы, может быть, и не знаете, но надеждой есенинской компании, наследником его считали молодого поэта Николая Эрдмана! Вы, наверное, Назым, не помните, – говорил Яншин, – а Колечкины стихи печатались в знаменитом в то время сборнике «Гостиница».
И он здорово прочел стихи, из которых я запомнила только последние строчки:
…Земля, земля, веселая гостиница
Для проезжающих в далекие края.
– Миша, не надо, ты преувеличиваешь…
– Сколько вам в те годы было лет, восемнадцать? – спросил ты Эрдмана.
– Да лет двадцать уж было, а может, чуть больше… «Стойло Пегаса» открыли ближе к НЭПу, там ведь уже водка подавалась, а она появилась только во времена НЭПа…
– А наискосок, помните, было «Кафе поэтов», и там выступал Стенич – очень хороший переводчик… Не помните его, Назым?
– У меня, брат, на фамилии совсем памяти нет…
– Видели вы его! Не могли пропустить. Они дружили с Маяковским. Это всё люди очень! Очень, Назым.
Потом вы опять вспоминали Есенина. Вспоминали его красивых женщин, Айседору Дункан, но не сплетничали, а радовались времени общей молодости, отдавали всему в нем дань…
А в другой какой-то раз Эрдман рассказал, как он однажды пришел к Есенину домой: «Сережа стоял на столе на четвереньках и разбрасывал на пол карточки с какими-то рифмами, стихотворными заготовками. Я его спросил: «Что ты делаешь?» – «Изобрел, – говорит, – машину поэзии. Думаю, что в этих случайных сочетаниях, заранее приготовленных строчках может возникнуть нечто совершенно новое или хотя бы родится повод для свежего образа…»
– Его нельзя не любить, – говорил ты об Эрдмане. Знакомство с ним, с его пьесами много тебе дало. Но пьесы Эрдмана с двадцатых годов не ставились и не публиковались. «Мандат» мы нашли сразу у Завадского, а вот с «Самоубийцей» не выходило, и ты в конце концов попросил пьесу у самого Эрдмана, а он потом у тебя попросил «Корову», ему тоже про нее рассказали, после нее – твою «Быть или не быть?».
Тебе казалось, что пьесы Эрдмана так сокрушительно актуальны, что за них режиссеры должны сегодня просто передраться, и ты стал всем рассказывать о его сюжетах… Каково же было твое удивление, когда оказалось, что все без исключения режиссеры, которым ты пытался «продать» Эрдмана, его прекрасно знали и в восхищении цитировали кусками… Но ставить его было запрещено.
В одну из сред в ресторане «Бега» во время обеда вы возвращали друг другу прочитанное: ты Николаю Робертовичу – «Самоубийцу», а Эрдман тебе – «Быть или не быть?»
– Послушай, Эрдман-брат, оказывается, мы с тобой в наших пьесах думали об одном и том же! Ты гениально написал, как людям ловко подбрасывают идею!
– А ты еще лучше про все, что случилось потом!
– Но знаешь, брат, я страшно завидую твоему названию… Как я, дурак, не додумался до такой простой вещи – «Самоубийца»!
– Да, Господи, Назым! Есть о чем переживать! Нравится? Бери! Дарю! Эй, официант, стило! Все равно, Назым, что твою пьесу не ставят и не печатают, что мою не ставят и не печатают, один черт!
Ты говорил, что он мог бы стать очень большим писателем. У него интонация чаплинская. Но Эрдман оказался хрупким человеком. И хотя внешне все было хорошо – лауреатство, сценарии, либретто оперетт, – от настоящего литературного дела он отошел после ареста.
– Вот он оказался той рыбой с длинным носом. По нему ударили, и он не смог не обидеться. Выдохся, у нас у всех есть предел.
Знаешь, Назым, Эренбург только что написал о тебе главу. Ты вошел в его многотомную галерею знаменитостей, с которыми он дружил: «Люди, годы, жизнь». По-моему, только о троих он вспоминает с непреодолимой болью в сердце: о Поле Элюаре, Бабеле и о тебе.
Зимой мы шли в гости к Илье Григорьевичу. Незадолго до этого встречались с Эренбургом в Политехническом, где он председательствовал на твоем поэтическом вечере. Когда мы подошли к его дому на улице Горького, ты сказал:
– Он единственный человек, перед которым я испытываю робость. Даже сам не могу объяснить почему. Он эрудит. Называет в разговоре сотни имен, дат, названий, а у меня на это памяти нет. Вот ты увидишь сейчас…
Дома Эренбург показался мне приветливым симпатичным человеком. «Он немножко злой, но ты не обращай внимания» – вертелась в голове твоя фраза. У него, как у западных стариков, были розовые щеки и веселые глаза, не насмешливые, как обычно, а озорные. Он искренне радовался встрече с тобой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































