Текст книги "Последний разговор с Назымом"
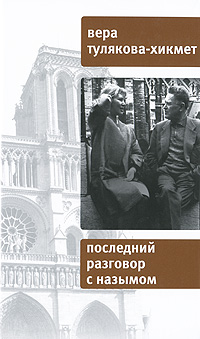
Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
– Дружите с людьми земли, на каком бы языке они ни говорили.
В результате праздник все-таки состоялся.
Мы вышли из музея и остановились пораженные: хмурый день разгулялся. Ярко, словно по заказу светило солнце. В Москву пришла весна. Кругом текли ручьи, капало с крыш, синело над Кремлем высокое небо. Ты распахнул пальто, сдвинул кепку на затылок, расстегнул голубое пальтишко Анюты и высвободил ее алый шелковый галстук. Ты чувствовал, что в эти мгновенья ей хотелось показать свой галстук всей Москве. Кругом все кипело людьми, двигалось, ехало, и нам стало весело среди толкающихся прохожих.
– Пошли, погуляем немножко по улице Горького, – предложил ты, подмигнув Анюте. – Здесь на каждом шагу торгуют мороженым! Понимаешь?
Мы взяли Анюту за руки и пошагали праздной походкой свободных людей, счастливых, не обремененных в эти часы никакими заботами.
Мы миновали Манежную площадь, пошли мимо гостиницы «Москва», возле здания Совета Министров, вдоль витрин магазина «Подарки», вверх, вверх к Моссовету… Ты посмеивался над Анютой, говорил, что все на нее смотрят с таким же уважением, как на героя или космонавта. Поравнявшись со зданием Центрального телеграфа, ты взглянул на его огромные часы – было начало четвертого.
– Давай, Анюта, идем в ресторан! Отметим как полагается твой праздник. Сегодня я куплю тебе все мороженое Москвы – мама не будет ругаться. Я хочу устроить настоящий банкет в твою честь!
Я поняла, что ты устал и проголодался, но на душе у тебя хорошо, и ты опять все превращаешь в игру.
Мы поднялись на второй этаж «Националя», в тот самый старинный зал, где обычно обедали с Пабло Нерудой, когда навещали его в гостинице. Заняли тот же самый, «его» столик у окна с видом на Красную площадь. «В Москве я хочу постоянно видеть перед собой Кремль и Красную площадь», – часто говорил Пабло. Сели, расслабились, с удовольствием выбирали еду. На десерт, конечно, фирменное мороженое, ты его любил, но не упускал случая поворчать, что мороженое готовят здесь не на фруктовом соке, как в Турции, а слишком жирным.
Тем не менее, ты заказал «тонну» мороженого, которое в этом ресторане официанты подавали, как еще при царе Горохе – на громадном серебряном подносе. Анюта, наверное, всю жизнь будет вспоминать, как они с «дядей Назымом» ждали его и дождались. Вот появился официант. Словно фокусник, он нес на вытянутой вверх руке поднос с колосальной причудливой снежной елкой, щедро украшенной фруктами, печеньями, орешками и вареньем. И вдруг елка эта неожиданно вспыхнула высоким огнем чуть ли не до потолка. Пабло тоже всегда приходил в восторг от представления с пылающим мороженым.
Женщина, сидевшая к нам спиной за соседним столиком, обернулась посмотреть, кому несут такое богатство, и оказалась Анной Зегерс. Как ты обрадовался! Вы с Анной давно дружили и очень симпатизировали друг другу. Ты вскочил, бросился к ней, привел ее к нашему столу, представил ей юную пионерку Анюту – ее тезку. Анна Зегерс целовала и поздравляла Анюту, расправляла ее галстук, спрашивала, как все проходило, а Анюта пыталась вырваться от назойливой старушки – ведь перед ней на столе таяло мороженое – и злилась, что ей это никак не удается.
Когда мы распрощались с Анной Зегерс и вышли на улицу, ты попросил:
– Веруся, отвези меня на подмосковную дачу Ленина в Горки. Мне захотелось увидеть, как он жил последние годы. Мне не пришлось там побывать. И прошу тебя, миленькая, не откладывай, едем завтра.
В Горки Ленинские мы поехали через два дня. Белый дом на пригорке за зеленым лугом показался издалека. Мы оставили машину у ворот и пошли по асфальтовой дорожке к дому, куда раненого Ленина привезли долечиваться в 1918 году. Параллельно шла другая – широкая, нехоженая, под желтым песком. Позже мы узнали, что по ней несли из Горок гроб с телом Ленина.
Прекрасная вилла, парк и высокое место над лугом тебе понравились. Нам рассказали, что до революции дом принадлежал начальнику московской жандармерии Рейнботу, поэтому-то сановник и смог установить себе телефонную связь, «воздушку», как ее в то время называли. А красивым дом сделала его жена, овдовевшая в первом своем замужестве после самоубийства Саввы Морозова – богатого фабриканта, ценителя искусств и мецената.
Мы в сопровождении нескольких женщин медленно переходили из одной комнаты в другую. Весеннее солнце наполняло дом светом. А все, кто шел с нами по дому, не торопились, не переговаривались.
Наконец мы поднялись в маленькую угловую комнату наверху. Узкая железная кровать, тумбочка с пузырьками от лекарств…
– Это случилось здесь? – спросил ты.
– Да.
– Как это произошло?
Нам рассказали.
– Значит, он умер, лежа в кровати? Тогда зачем же в фильме «Рассказы о Ленине» мой друг Сергей Юткевич показал, как Ленин умирает, сидя в кресле, одетый в костюм и, кажется, с книгой в руках?! Разве он не был здесь, когда пять лет назад снимал свой фильм?
– Был, конечно, – ответили. – Хотел, наверное, создать впечатление, что Ленин до последнего дня интенсивно работал… После его фильма люди приходят к нам и, когда узнают, что с 15 мая 1923 года после третьего инсульта он уже не разговаривал, недоумевают, вспоминая того веселого, говорливого Ленина. Но ведь художники имеют право на домысел… Правду жизни реального человека показать труднее…
– Я к таким художникам не отношусь, – разозлился ты. – Я знаю Юткевича. Наверное, его заставили так закончить фильм. А Сталин тоже приехал сразу?
– Конечно! Вместе со всеми выносил из дома гроб с телом Владимира Ильича. Вон по той дороге нес. До ворот.
– А когда он был здесь в последний раз при жизни Ленина?
– Летом 1923 года.
Ты помолчал, а потом бросил с нескрываемым презрением:
– Хороший друг! Полгода не навещал смертельно больного товарища.
Проходя мимо витрины, где лежали рукописи Ленина, ты остановился возле одной из них и, показывая на документ, спросил:
– Почему бумага на этой странице наполовину желтая, а наполовину белая?
Оказалось, что до XX съезда посетителям показывали лишь половину текста, а после – разрешили открыть лист целиком. Это было «Письмо Сталину для членов ЦК РКП(б)» – последняя ленинская работа, которую он собственноручно написал в начале декабря 1922 года, «Национальный вопрос» – самый трудный вопрос для Советского Союза. Потом он мог только диктовать.
– В конце жизни он догадывался, конечно, что каша, которую заварил, может оказаться с гвоздями. Имперское сознание многих руководителей ЦК, их высокомерие к «нацменам», как здесь говорят, – это бомба под СССР. Я когда-то читал у Ленина, что если поезд идет из Москвы в Баку, то, когда он пересечет границу Азербайджана, проводник обязан говорить по-азербайджански. Но ведь так никто не делает…
Я часто думаю: почему к тебе, иностранцу, в нашем запуганном государстве за помощью обращались тысячи простых людей? Ты постоянно боролся за чью-то судьбу, за восстановление в правах репрессированных народов (помню семьдесят крымских татар, сидевших на полу в гостиной, помню слезы ходоков ингушей и старых чеченов, помню абузаров…), за гуманный социализм с не бегающими от лжи глазами.
Я слышала, как ты, Назым, говорил у нас дома с большим аппаратчиком ЦК, заведующим отделом Миловановым. По номенклатурной раскладке это ранг министра. В то утро вы обсуждали проблему курдов в Ираке – ты только что получил трагические письма курдских студентов и хотел им всячески помочь. А я мучилась над скучнейшей статьей в соседней комнате и, услыхав твой бурный монолог, с большим удовольствием начала его записывать, предвкушая, как можно будет вечером продемонстрировать его друзьям…
– С моих глаз каждый день, как с кочана капустные листья, спадают черные завесы, за которыми хотят спрятать от меня жизнь моей второй родины – Советского Союза. Товарищ Милованов, не прячьте глаза и не разговаривайте со мной как с иностранцем. Я – турок, но я больше советский человек, чем вы! Я вырос из двадцатых годов, и я хочу знать всю правду. Отвечайте мне, почему подростки пьют водку? Почему рабочие на стройке – посмотрите в окно – целый день курят и бездельничают, почему везде бюрократы на любой вопрос сначала отвечают «нет», а после нечеловеческой борьбы оказывается «да»? Почему прием в вузы ограничен национальными рамками, и везде и всюду вы даете заполнять анкету с пунктом о национальности? Даже чтобы получить книгу в библиотеке, пускаете в ход позорный пятый пункт. Почему коммунист, если он русский, – у вас считается стопроцентным коммунистом, если украинец – на восемьдесят процентов, если коммунист грузин – только пятьдесят процентов, узбек – сорок процентов, еврей – пять, а коммунист турок – вообще не коммунист, и ему нельзя говорить правду! Почему у вас ответственные товарищи получают какие-то особые пайки и дополнительные деньги на отдых, на лечение, на одежду? Почему их отдельно лечат и дают им редкие лекарства? Почему, когда восемьдесят тысяч больших чиновников едут утром на работу, они даже в трескучий мороз не берут в свою государственную машину маленьких цыплят – первоклассников, которые мерзнут на автобусных остановках? Перестаньте улыбаться, товарищ Милованов, и послушайте меня: очень скоро настанет время, когда со всем этим позором будет покончено! Это говорю вам я – старый турок, который кое-что видел на своем веку.
Я знаю, Назым, ты был уверен, что Ленин думал так же хорошо, как ты.
Однажды к нам в гости пришла старая комедийная актриса Фаина Георгиевна Раневская. Мы сидели за столом, обедали, говорили. Ты в какой-то связи вспомнил о Ленине. Наша гостья вдруг оживилась и, поправив черный велюровый берет на своих пышных голубых волосах, сказала:
– А вы знаете, Назым, я была знакома с Лениным. Это почему-то прозвучало так неожиданно, что за столом воцарилось молчание.
– Я была маленькой больной девочкой из бедной еврейской провинциальной семьи. И вдруг, вы подумайте! Какое несчастье! У меня туберкулез! Родители повезли меня лечиться в Швейцарию. Там мы поселились в красивом отеле на берегу Женевского озера. Однажды я ужасно разбегалась, – неторопливо рассказывала она своим неповторимым грудным голосом, – и родители послали меня в наши апартаменты немного успокоиться. Конечно, я помчалась бегом и так неслась, что влетела в чужую дверь. Там за столом я увидела человека, который сидел и что-то сосредоточенно писал. Я хотела убежать, но этот господин остановил меня, усадил, чтобы я отдышалась. Он спросил, кто мои родители, откуда мы приехали, что мы здесь делаем, как меня зовут. Потом он сказал: «Ты, девочка, сиди, сколько захочешь, а я немножко поработаю, а потом мы с тобой еще поговорим». И он принялся снова писать. Я посидела-посидела, мне стало скучно, я встала и тихо ушла. В семнадцатом году, когда началась революция, я была молодой провинциальной актрисой в одном захудалом украинском городишке. Все уже говорили о Ленине. Его имя было самым популярным. Однажды я взяла в руки газету и – Боже! – это же тот господин, который разговаривал со мной в швейцарской гостинице! Я подумала: зачем я от него так быстро ушла! Он бы мне обязательно что-нибудь интересное рассказал.
Она помолчала, а потом громко прошептала:
– Скажите, Назым, он действительно гениальный?
– Да! А как же! – вскричал ты и расхохотался.
Но иногда ты спорил и с Лениным:
– Не могу больше читать лозунги типа «искусство принадлежит народу» или «искусство должно быть понятно народу». В одном случае – это демагогия, в другом – ошибка. Разве Шостакович и Достоевский виноваты, что необразованные люди их не понимают?
Ты злился, что охранники биографии Ленина сторожат от людей информацию о его частной жизни, например, о ста с чем-то любовных письмах к Инессе Арманд. Что некоторые приказы Ленина дают пищу для чудовищных слухов о жестокости, вероломстве. Что поговаривают даже о сифилисе… Что-то не сходилось у тебя в образе советского вождя, что-то постоянно тревожило. Но при этом я никогда не видела его книг в твоих руках. Тебе хватало прочитаного в молодости.
Я недавно спрашивала у нескольких специалистов, где у Ленина написано про азербайджанского проводника – все пожали плечами.
Мы вышли на улицу. Ты находился под впечатлением трагизма последних лет жизни Ленина, ощутил его беспомощность, растерянность, плен.
Мы нашли скамью в парке и немного посидели, глядя на окна особняка. Ты перебирал в памяти увиденное, все говорил, говорил… о Сталине.
Над нами в листве деревьев по-весеннему звонко пели птицы в экспроприированном саду вдовы русского мецената Саввы Морозова.
«А чужое брать – нехорошо», – в детстве меня учила бабушка. Я иногда думала, Назым, глядя на тебя – не чужое ли я взяла?
Тебе всегда хотелось знать, как писатели, режиссеры, артисты выживали в непосредственной близости от Сталина и его окружения. Ты говорил об этом с Михаилом Роммом, с Довженко, с другими – с кем Сталин любил беседовать бессонными ночами.
Ты запомнил, как пересказывал наш прославленный тенор Иван Семенович Козловский свой диалог со Сталиным, происходивший, очевидно, в середине войны:
– Товарищ Козловский, вот тут артист Вертинский хочет купить госпиталь для советских солдат, просится пустить его на родину из Шанхая. Как вы относитесь к артисту Вертинскому?
– А вы, товарищ Сталин, как относитесь к артисту Вертинскому?
– Вот товарищ Молотов спрашивает, пускать его к нам или не пускать?
– А товарищ Молотов как думает, пускать Вертинского или нет?
И долго в таком духе. Понимаете, Назым? Он грузин, а я – хохол. Мы все равно хитрее. Я ему так и не ответил. Потому что, если бы я Сталину стал советы давать, моя голова долой!
Добавил для тебя свой штрих к портрету Сталина знаменитый профессор М. С. Вовси рассказами о своем аресте по делу «врачей-вредителей». Он в течение многих лет лечил Сталина, и тот хорошо его знал. Когда профессор находился в Лефортовской тюрьме под следствием, Сталин поинтересовался у Берии: «А как там Вовси?» Берия ответил: «Неважно, у него печень болит». На что Сталин ответил: «Бить по печени!» Берия понял это как приказ, о чем и сообщил профессору на допросе…
А этот рассказ я слышала сама. Однажды к нам в дом пришел старый большевик, человек, который в середине тридцатых годов работал в охране Сталина. В числе прочего рассказал, как весь вечер, предшествующий гибели жены Сталина – Надежды Аллилуевой, он простоял позади Сталина по долгу службы.
Правительственный банкет в честь ХV годовщины Октябрьской революции проходил в здании нынешнего ГУМа, где на одной из его линий был накрыт длинный стол. Банкет был не особенно многолюдным, но все члены правительства и крупные военачальники были с женами. Женщины пришли в вечерних платьях, а некоторые – в открытых. Сталин с Аллилуевой сел не во главе стола, как предполагалось, а в середине. Напротив него сидел Тухачевский со своей необыкновенно красивой женой. Ее платье было с глубоким вырезом, и в течение всего вечера Сталин развлекался тем, что скатывал хлебный мякиш в шарики, и довольно ловко бросал их в ложбинку декольте жены маршала. Женщина пребывала в полном смятении. Все видели, что его игра раздражает и оскорбляет Аллилуеву. Она даже пыталась отнять у мужа хлеб, но Сталин упорно продолжал кидать катыши. Аллилуева несколько раз что-то раздраженно говорила ему, но он не обращал на нее никакого внимания. Наконец, не выдержав унижения, она встала из-за стола и ушла. Сталин даже головы не повернул в ее сторону. Этой же ночью Надежда Аллилуева застрелилась.
Однажды вы сидели с Пабло Нерудой и страстно проклинали Сталина. Потом Пабло после некоторого молчания спросил:
– Назым, а ты знаешь хоть одно хорошее дело этого типа?
– Одно знаю, – подумав, ответил ты. – Вон, видишь на Красной площади, посередине стоит красивый собор? (Мы сидели в номере Пабло в гостинице «Националь» напротив Кремля). Так вот, как-то у Сталина в Кремле обсуждался план реконструкции Москвы. Главный архитектор Москвы рассказывал с помощью макетов, как за счет разрушения старинных домов и улиц будут проложены широкие проспекты. Сталин все кивал головой. Наконец, архитектор дошел до Красной площади. Воодрузив на стол ее макет, он предложил: «Давайте уберем отсюда этот собор, чтобы войска после парадов могли уходить с площади не в два рукава, а по одной широкой дороге… Видите, как будет хорошо – и смахнул с макета древний храм…» – «Положи на место – со своим грузинским акцентом сказал Сталин, и, видя, что собор все еще валяется на боку, цыкнул: – Положи, я тебе сказал!..»
В черновике главы о тебе в книге «Люди, годы, жизнь», который передал мне Эренбург, он вспомнил твои слова: «Я часто думаю о смерти Фадеева… Мне повезло, конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги, я знал, что я в аду. Куда хуже было жить в раю, и смотреть, как ангелы жарят на сковородках товарищей…»
Еще до нашего с тобой знакомства, под впечатлением от самоубийства Александра Александровича Фадеева в 1956 году ты написал об этом сразу запрещенную пьесу «Быть или не быть?». Когда в конце 1962 года вы с Завадским собирались сделать последний ее вариант для театра им. Моссовета, ты подключал его к своему сюжету разными воспоминаниями о Фадееве. Помнишь, как Юрий Александрович просил меня записывать твои рассказы, чтобы потом использовать их при постановке? Спектакль так и не появился, а записи мои остались. Вот что ты рассказал:
Мы с Фадеевым обнялись раньше, чем познакомились. Было это на Внуковском аэродроме 29 июня 1951 года, когда я вышел из самолета. Через десять дней опять встретились на банкете, который Союз писателей устроил в мою честь. Я ведь не мог и предположить, что культ Сталина у вас. Я выжил в тюрьме только благодаря тому, что Советский Союз есть, социализм есть, гордился, что интернациональное государство, созданное Лениным, победило фашизм. Я всегда представлял себе, как далеко ушел Советский Союз вперед, как расцвела его культура, как счастливы люди… А многие вещи, которые меня сразу озадачили, я списывал на последствия войны. В Бухаресте перед приездом в 1951-м в Москву, я попросил румынсках товарщей показать мне последний фильм о жизни Советского Союза. Хотелось скорее все увидеть! Они привезли «Кубанские казаки». Там все веселые, счастливые, поют, изобилие товаров кругом… Это был для меня первый советский звуковой фильм. Я очень обрадовался. А после самолета по дороге в Москву на Внуковском шоссе я из машины вдруг увидел страшно бедные деревни, у некоторых домов крыши еще были соломенные. «Это музейные, – подумал я, – для контраста с новой жизнью их сохранили». В гостинице «Москва» замечательное обслуживание, прекрасные апартаменты, приходят писатели и их жены, все очень довольны жизнью. Журналисты приезжают на больших черных автомобилях… В московских магазинах сколько хочешь икры продается, рыбы всякой, колбас. На улице Горького много гуляет людей. Нет нищих, нет беспризорных детей, как в двадцатые годы. Никто не лузгает семечки. Очень чисто. Опять я успокоился. Вечером повезли в театр, испытал ужасную скуку, герои, как загипнотизированные, ничего не видят и не слышат, но непрерывно учат друг друга. Со сцены в зрителей, как дуло пулемета, направлен указующий палец. На следующий вечер везут в другой театр – там тоже играют точь-в-точь как вчера какую-то унылую пьесу. Так было десять дней. Передо мной, словно глухой забор, вставали проклятые вопросы. Потому что театр – это рентген жизни. Вижу, на сцене искренности нет, голая казенщина. Зачем, думаю, в стране, где создана величайшая литература совести, нужно так назидательно показывать жизнь, чтобы самый несчастный маленький человек в конце спектакля обязательно становился самым счастливым гражданином СССР. Нужен живой конфликт людей, а не принципов! Я профессиональный драматург и понимаю, что от хорошей жизни никто добровольно телеграфный столб украшать не станет. Я взмолился – отвезите меня в театр моего любимого Мейерхольда! Отвечают – он болен и живет на юге, высоко в горах. А его, потом узнал, давно уже расстреляли. Прошу, покажите мне спектакли Александра Таирова – говорят, невозможно, театр его на ремонте, – а его уже закрыли давно! Кого из старых друзей ни назову, например, Николая Экка – тоже в горах. Я огорчился. Что случилось с друзьями моей молодости, все заболели, все переселились в горы. Поэтому на банкете я сказал, что когда уехал из Москвы двадцатых годов, она была раем искусства. Каждый театр имел свое неповторимое лицо. Театр Мейерхольда был не похож на МХАТ, а МХАТ отличался от театра Таирова или Вахтангова. А когда вернулся – ничего не могу понять: здания разные, а на сцене одни и те же «марксистские угрызения совести», как назвал все это ваш Герцен. И на этом банкете я спросил: что с вами случилось? Почему во всех театрах играют вариант одной паршивой пьесы и каждый раз восхваляют товарища Сталина, сравнивают его с солнцем. Я сказал, что, во-первых, настоящий коммунист не может допустить, чтобы его сравнивали с солнцем, а во-вторых, это плохой вкус. Что я знаю только один случай за всю историю России, когда человека сравнили с солнцем, и то после его смерти, и этим человеком был Пушкин! Помимо моего желания получилось, что я протестовал против культа Сталина, который потом на ХХ съезде полностью осудили. Но в то время я всего этого не знал и не задумывался, понравятся мои слова или нет. Многие гости так испугались моей речи, что, когда я сел, от ста приглашенных не осталось и половины. Федин, Охлопков не раз вспоминали, как я там отличился… Я накануне получил от Сталина приглашение на встречу с ним через неделю в Кремле. Но после этого банкета он передал, что болен и увидеться со мной не сможет. Вместо себя на эту встречу послал толстого Маленкова… Потом мы с Фадеевым часто встречались. От Фадеева я впервые услышал такие бранные слова, как «враги народа», «чуждые элементы», «лженоватор», «липа», «индивидуализм», а в конце жизни – «инженер человеческих душ». Когда я пришел в себя после побега, то спросил у своей домоправительницы тети Паши, приданной мне вместе с квартирой, – сколько все это стоит: ЗИМ с шофером, она, тетя Паша, и продовольственный паек, рассчитанный на семью человек в пять. Я был уверен, что деньги за это вычитают из моих гонораров, и беспокоился, надолго ли их хватит. Вот тут тетя Паша, которая уже поработала в домах многих государственных чиновников, объяснила не без гордости, что беспокоиться мне, гостю ЦК, не о чем: зарплату ей и шоферу платит ведомство. ЗИМ – государственный, стало быть, даровой. А еда? Так что о ней думать, это же «кремлевка» с громадной скидкой. По ее словам, этот паек товарищ Сталин давал только самым главным своим помощникам. Потрясенный, я поехал в Союз писателей к Фадееву спросить, правда ли, что меня сделали иждивенцем рабочего класса. Я искренне не понимал, как могли советские коммунисты так меня унизить, ведь даже в тюрьме я зарабатывал хлеб своим горбом! Я кричал, что хочу бить человека, который меня опозорил! Фадеев пытался меня успокоить, говорил, что так советский народ проявляет гостеприимство ко мне, большому другу нашей страны. Я спросил его:
– А вас, брат, товарищ Сталин тоже наградил пайком? И Симонова?
И сказал, что еду в ЦК. Тут Фадеев, видно, испугался за меня, догнал у дверей и просил в ЦК не ездить, ничего в моей жизни пока не менять. У него вырвалась фраза:
– Вам никогда этого не простят!
Фразу я запомнил, а на Старую площадь все равно поехал, чтобы отказаться от всяких этих дотаций и привилегий. Но после почувствовал к себе в верхах другое отношение. Фадеев знал, что′ говорил… А еще помню, как в начале 50-х годов Фадеев буквально выпихивал меня из Москвы в длительные поездки: в Китай, в другие социалистические страны, в Вену, в Стокгольм, в Хельсинки:
– Уезжайте, Назым, уезжайте, поглядите на мир, там много интересного, и климат мягче, не торопитесь назад… Тогда это меня озадачивало, почти злило. Я воспринимал его заботу как принуждение, как посягательство на свободу. Только сейчас ясно понял, что Фадеев элементарно страховал мою жизнь! Он видел, конечно, что тогда я совсем не ощущал опасности сталинской Москвы… Я знал Фадеева разным: веселым, хохочущим, больным, железным. Однажды в Хельсинки на банкете по поводу закрытия сессии Всемирного Совета мира мы разговаривали с Корнейчуком, Борисом Полевым, Эренбургом, Тихоновым, кто-то еще там был из советских литераторов. Фадеев чуть поодаль стоял с Фредериком Жолио-Кюри. Вдруг к нашей группе, не очень твердо ступая, подошел Шолохов. Оглядев лица соотечественников, он громко мне сказал:
– О чем ты с ними разговариваешь, Назым?! Ты что, думаешь, они – писатели? Да никакие они не писатели!
Вот тут я и увидел бешеные глаза шагнувшего к нему Фадеева. Он сказал Шолохову несколько коротких фраз, там повторялось одно слово: «презираю!». Тут же, распрощавшись, он ушел со мной с банкета. Мы несколько часов просидели в каком-то сквере. Фадеев долго тогда не мог успокоиться… Мы говорили о его романе «Молодая гвардия». Фадеев досказал мне жизненные истории своих героев и попросил прочесть «Разгром». Вот по «Разгрому» я и представил себе его сильный писательский дар…. К а к – т о уже после смерти Сталина в санатории «Барвиха» мы прогуливались втроем с Фадеевым и митрополитом Николаем Крутицким и Коломенским. Митрополита я очень уважал, много раз с ним встречался. Он хорошо знал литературу, современную тоже. Наш разговор с трагедий Шекспира вдруг повернулся к роману «Молодая гвардия», и митрополит сказал, что герои романа Фадеева не отказались от ноши, от избранного пути, от той тяжести мира, которая на них была возложена. Николай Крутицкий с помощью Библии доказывал нам, что любая трагедия – это синтез личного движения человека и движения всего мира к совершенству. В этом вопросе мы с ним были полностью согласны. Но потом в связи с чем-то он произнес:
– А самый страшный грех – это отчаяние.
– Но человек – не Бог, – возразил Фадеев. – Куда ему уйти от слабости, от грехов?..
– Праведность не в том, чтобы не грешить, а в том, чтобы раскаяться! Осознать ошибку. Искупить, исправить ее, – убеждал митрополит.
Он сослался на пример из Евангелия, когда апостол Петр трижды в одну ночь отрекся от своего учителя Христа, но затем испрашивал прощения и был прощен.
– А Иуда? – негодовал митрополит. – Человек три с половиной года прошел рядом с Богом, но так ничего и не понял! Предав Христа, не раскаялся, а впал в отчаяние и удавился!
– А нет ли в Библии истории, где в образе сиятельного владыки всесильный, насмешливый дьявол? А легковерный дурак, открыв рот… А-а-а, да что там теперь… – И после паузы Фадеев спросил у митрополита: – Потому-то самоубийц не хоронили в церковной ограде? Если человек отчаялся, наложил на себя руки, значит – безбожник?!
– Да. Они уже не были верующими, и погребение в церковных пределах было совершенно бессмысленно, – ответил митрополит.
Фадеев тогда спорил, доказывал, что человек свободен перед миром и собой, что человек имеет право сам сбросить свой крест, если жить невыносимо тяжело и исчерпаны душевные ресурсы. Говорил об уставшем Пушкине, подставившем грудь пуле, о Маяковском. А митрополит ровным голосом интеллигентного пастыря мягко убеждал его, что самоубийство – это слабость от временного отчаяния, от проходящей безнадежности:
– Человек должен нести свой крест до конца, как это доказали ваши прекрасные дети в романе…
– Нет! Рождены мои дети были совсем для другой жизни, и я знаю, для какой, а расплачиваться им пришлось за любовь к родине и чужие преступления!
– Поверьте, что есть определенный план Божий для мира и для каждой души. Для каждого человека он заканчивается катарсисом, разве вы не замечали? А у нас с вами есть другое – познание себя. Вы же все это написали в своей хорошей книге, Александр Александрович.
– Я неисправимый безбожник, с меня взятки гладки, – рассмеялся Фадеев.
Тут они меня спросили, что я обо всем этом думаю. Мне было очень интересно их слушать, потому что я лучше всего знаю две книги – Коран и Библию. Это единственные книги, которые у нас в турецкой тюрьме разрешают читать арестантам. Сидел я долго, так что хорошенько их изучил. Я им сказал, что Библию прочел как коммунист, и у меня на один из ее удивительных сюжетов написана пьеса «Иосиф Прекрасный». Эту пьесу я сам считаю большой удачей, хотя ее здесь из-за имени героя и ассоциаций со Сталиным играть не дали. С этим понятно. Я, как и товарищ Фадеев, верю только в человека. А человек рождается, чтобы жить. Всю жизнь меня хотели убить, повесить, отравить… Инфаркт у меня случился, но я всегда безумно хотел жить, и жив сегодня только благодаря моему желанию. Поэтому вопрос «быть или не быть?» для меня не теоретический, не религиозный. Короче говоря, я против самоубийства. Помню, что Фадеев весь остальной путь до санатория молчал. А митрополит, видно, что-то почувствовал. Он все говорил, опираясь в том числе и на мою «Легенду о любви» (чем мне немножко польстил, конечно), как страшен грех отчаяния, как велико милосердие Бога и как сложна жизнь… Потом еще прошло время, и 11 мая 1956 года Фадеев позвонил мне на дачу напомнить, что завтра у нашего друга Самеда Вургуна день рождения. Напомнил, потому что знал от меня, что у нас в Турции нет традиции праздновать дни рождений. Советовал позвонить в Баку, а еще лучше – послать телеграмму, пусть Самед обрадуется. Мы с таким удовольствием говорили о Самеде… Фадеев сказал, что хранит одну статью Вургуна, под которой сам готов подписаться. Мне стало интересно, и он пообещал мне ее показать. Назавтра, 12 мая мы встретились у переделкинского магазина. Фадеев отдал мне конверт с газетной вырезкой. Было ветрено, и казалось, что его «морозило». Фадеев вызвался немного меня проводить. Мы больше стояли, чем шли. Фадеев много шутил. Вдруг, безо всякого перехода спросил:
– Часто ли, Назым, вы, вспоминаете тюрьму?
Я ответил, что с тех пор на мою долю выпало так много другой боли, переживаний, неразрешимых проблем, что тюрьма отодвинулась в прошлое. И тут Фадеев вдруг стал рассказывать, как две или три недели назад он увидел из верхнего окна дачи, что перед его калиткой стоит человек и смотрит на окна его дома. Стоит, руки в карманы, а калитку не открывает. Фадеев решил узнать, в чем дело, и вышел во двор. Человек продолжал стоять и напряженно, в упор глядел, как Фадеев приближается к нему… Одет он был скудно, серое, усталое лицо… И вдруг Фадеев узнал его, окликнул по имени. А тот поймал его взгляд, плюнул на калитку, повернулся и тяжелым шагом ушел. Фадеев говорил, что всегда ощущал себя честным человеком. А теперь все перевернулось, и сам он стоит вверх ногами… на голове. От этого перед глазами красные круги, все словно залито кровью, а перекувырнуться нет сил… Я попробовал его успокоить, но Фадеев улыбнулся, крепко пожал мне руку и заспешил… И я увидел, глядя ему вслед, что у него под мышкой буханка хлеба… На другой день после встречи с Фадеевым, это было уже 13 мая, я взялся читать статью Самеда Вургуна «Права поэта». Но зазвонил телефон, и в трубку закричали, что с Фадеевым несчастье, что просят срочно прислать моего врача. Через несколько минут я вбежал на второй этаж дачи, где лежал мертвый Фадеев. Увидел пистолет, пробитую пулей подушечку-думочку, через которую он стрелялся, и два конверта, два последних письма. Одно было адресовано в ЦК, другое – жене. Меня поразили открытые глаза на мертвом лице. И я по восточной традиции попросил женщину простого вида закрыть его материей, а она ответила:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































