Текст книги "Последний разговор с Назымом"
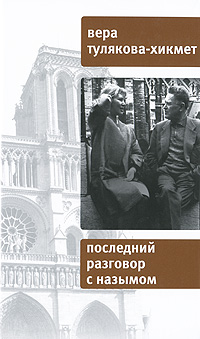
Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Ты, Назым, сразу объявил, что я работаю корреспондентом в Агентстве печати «Новости»:
– Она постарается на вас немножко заработать. Будет провоцировать на разные нужные ее редакции темы. Я вас предупреждаю.
– А-а… – едко рассмеялся Эренбург. – Работаете в агентстве, которое посылает материалы во все корзины мира? Ну нет, на мне вы ни копейки не наторгуете в АПН. Я буду нарочно целый вечер говорить такие вещи, что вы ничем не сможете воспользоваться.
И он упорно поддразнивал меня критикой всего и вся, спрашивая после очередного «сюжета»:
– Ну как? Годится для АПН?
Вскоре выяснилось, почему у Эренбурга хорошее настроение – разрешили печатать книгу.
– Кто? – спросил ты. – Меня всегда интересует, кто этот человек, который запрещает, разрешает. Он самый умный, самый талантливый или самый хитрый?
– Недавно я был на приеме в одном посольстве, и там ко мне подошел Хрущев. Мы полчаса тихо в стороне поговорили.
– О ваших мемуарах?
– Да нет, о болезнях, – махнул рукой Эренбург. – Он меня спрашивал, какой я придерживаюсь диеты, – я спрашивал его. О чем могут говорить два старых человека! А кто-то из наших литературных прохвостов заметил нас благодушно беседующими и истолковал ситуацию с бюрократической точки зрения. Утром мне позвонили из издательства и сообщили, что книга подписана в печать. Вот, кстати, – повернулся он ко мне, – очень хороший пассаж для АПН!
Когда тебя не стало, меня пригласил на Старую площадь секретарь ЦК КПСС по пропаганде, душитель культуры Ильичев. Не было сил идти, разговаривать неизвестно о чем, но деваться некуда, пошла. Тося проводила меня до дубовых дверей и обещала подождать в сквере напротив. О чем думал этот облеченный властью человек, цепко глядя на меня прищуренными хитрыми глазками и как бы в задумчивости перебирая несколько листочков, сиротливо лежащих в новенькой папке, – не знаю. Он томил меня паузами, откровенно рассматривал и наконец приступил к вопросам:
– Ну, как вы живете?
– Спасибо, ничего, – по-московски ответила я.
– Может быть, вам что-нибудь нужно?
– Нет, спасибо.
– Кажется, вы с Хикметом писали вместе пьесы? – спросил он, руководивший из этого огромного кабинета идеологией и культурой, он, много раз грубо вторгавшйся в твои дела.
– Да, писали.
– Ну и как же вы это делали? – ухмыльнулся он. – Так вот, садились рядышком и писали?
Мне захотелось встать и уйти. Но я не встала и не ушла.
– Вам знакомо вот это письмо Назыма Хикмета? – спросил меня товарищ из Политбюро и протянул мне листок.
В ЦК КПСС
Уважаемы е товарищи.
Я очень болен. На днях улетаю в Танганьику. У меня есть предчувствие, что я не вернусь.
Я никогда ни о чем для себя не просил. Но сейчас обращаюсь к вам с просьбой. У меня есть два близких мне человека: моя жена Вера Тулякова и мой сын Мемед. У меня нет никаких сбережений, а моих гонораров хватит им ненадолго. Мне страшно умереть, думая, что в случае моей смерти они окажутся без средств.
Очень прошу вас найти способ обеспечить мою жену и моего сына. Я думаю, что имею право рассчитывать на помощь и поддержку моей партии, солдатом которой я был всю жизнь.
Назым Хикмет
– Да. Знакомо, – подтверждаю я.
– Судя по этому письму, у товарища Хикмета было предчувствие смерти. Почему? – искренне удивился хозяин дубового кабинета. – Хикмет так хорошо здесь жил! Пользовался всеобщим вниманием. Его пьесы ставили, книги печатали… Хотя в некоторых политических вопросах он проявлял полнейшее непонимание. Требовал полного развенчания культа Сталина, например. Зачем? Наивно! И странно не то, что он стоял на одних ревизионистских позициях с итальянскими коммунистами, а что его здесь многие поддерживали, например, Твардовский. Про Эренбурга и говорить нечего. А про литературную зелень, эту московскую богему и говорить нечего. Да, да, он ходил в лидерах у интеллигентской оппозиции.
«Вот и хорошо, – думала я, – а я жена лидера интеллигентской оппозиции».
Я слушала и удивлялась, как ему удается сочетать интонацию брани с торжественным поучением, кричать, разговаривая одними губами, убивать, не оставляя следов… Жаль, не слыхала, как он беседовал с тобой, Назым. Не представляю, как складывался ваш диалог.
Видимо, не очень, если он, не переждав и двух недель после похорон, реализовывал свои амбиции передо мной…
Мы находимся в полном вакууме: не звонят телефоны, никто не входит, с улицы не доносится ни один звук… Сумрачно, жутко. Он, словно угадав мою мысль, желает одушевить пространство. Я цепко, как партизан на допросе, слежу за ним. Почему ты так боялся, Назым, что после твоей смерти со мной могут свести за тебя счеты? Ага, нажал на кнопочку – что-то будет, может быть, выпроводят, а может быть, уведут. Но массивная дверь тотчас бесшумно открывается – на пороге милая девушка с услужливым лицом молча вопрошает повелителя.
– Принесите нам хорошего чаю.
Девушка исчезла и тут же возникла вновь уже с подносом. Ее руки в белоснежных перчатках поставили перед нами дымящийся чай в тонких стаканах с подстаканниками, сухарики, сушки, и… его рецензия на тебя, моего мужа, продолжилась:
– Так что Хикмет бунтарствовал не только в Турции, но и у нас… Пытался изменить наше отношение к творчеству Зощенко, Булгакова. Недавно приходил настаивать по поводу издания Пастернака. Все это малосерьезно! А мы проявляли к нему терпимость!
– Не всегда, – тихо говорю я.
– А вы думаете, запрещать легко?! – взрывается он. – Приятно? Не надо нас ставить в скандальное положение! Одна история с «Иваном Ивановичем» чего стоит! Хотели втихомолку протащить антигосударственную пьесу.
Я смотрю на его белые руки. «Как же вас ненавидит творческая интеллигенция, – думаю, – если нам художники рассказывали, что у вас все руки в татуировке… Как у уголовника».
– Так почему же Хикмет боялся смерти, я не понял? – бурчит он. Как объяснить чужому человеку, почему ты думал о смерти, сидя на стуле приглашенного посетителя? Если бы он пришел ко мне в дом, и не он, а я угощала бы его чаем, и ему действительно было бы интересно узнать почему, – я бы многое могла рассказать.
А чужой человек все исподволь допрашивает меня, почему твой сын оказался в Варшаве да почему ты с его матерью жить не стал, припоминает какие-то слухи, дамские истории… Видно, хватало на Старой площади сплетников, любителей посудачить о личной жизни знаменитостей!
Во мне нарастает бунт. Он это не без удовольствия отмечает:
– А с кем, по-вашему, можно сравнить Назыма Хикмета? – спрашивает вкрадчиво.
– С Герценом! – почти ору я.
– С Герценом?! – обжигается он.
– А вы думали, с Казановой? – я откровенно хамлю.
И тут его пресыщенный глаз зажигается неподдельным мужским интересом… к моей персоне.
– Вы – перец! Женщине это идет, – подначивает он меня.
А у меня в голове, как подстреленная, кружится цветаевская фраза – «властолюбцы не бывают революционерами, как революционеры, в большинстве, не бывают властолюбцами»…
Пожелав произвести впечатление, какую похвальбу, какую чушь он несет:
– Взгляните на эти телефоны, любая моя команда, распоряжение, воля при необходимости через полчаса – всего через тридцать минут! – дойдут до самой отдаленной точки Союза и будут выполнены как приказ!
Я смотрю на его плохо сшитый серенький костюмчик, на нездоровое серое лицо… Дряной мужичонка! Нет, мне не страшно. Мне тяжело. Подложи ему камень сегодня под ногу, Назым, двинь его по мозгам дверью, у тебя же руки чешутся. Хоть бы Хрущев сейчас дверь открыл или Суслов голову просунул, растаяла бы вся его спесь.
«Почему я сразу не ушла, сразу…» – все думала потом дома без устали.
Потом у вас с Эренбургом зашел разговор о Пастернаке. Ты много лет прожил по соседству с ним в Переделкино, был к нему привязан, ходил в гости поговорить и много раз, вызывая неудовольствие чиновников, предпринимал попытки защитить его. В Стокгольме ты сразу же купил и прочел «Доктора Живаго», как только напечатали, но привозить не стал. Ходил на Старую площадь доказывать-хитрить, что ничего вредного в этом скучном романе нет, а стихи там замечательные, что надо перестать бояться гениев. Но тебе всегда намекали, что в наших внутренних проблемах может глубоко разобраться только настоящий советский человек.
– У меня перед вами была дочь Ольги Ивинской, женщины, которую Пастернак любил последние годы.
– Я знаю о ней. Он читал мне однажды в старом арбатском дворе замечательные любовные стихи. Я любил слушать, как он читает. Когда я говорил с ним о романе, он рассказал, кем была героиня в его личной жизни. Теперь она снова из-за него в тюрьме…
– Да, Ивинская все еще в лагере. Ее дочь приходила просить за мать. Но эта дама нарушила законодательство, передала рукописи Пастернака за границу и получила за аферу кругленькую сумму.
– Я не понимаю, почему советские законы запрещают писателю печататься, где он хочет?! Что это за рабское право на талант? Пастернак – гений. Я это знаю, вы это знаете. Этого может не понимать только одноклеточное существо или враг прогресса! Гений – не свадебное платье, чтобы его держать в сундуке!
– Да, да, конечно, ради Бориса Леонидовича надо бы постараться помочь, хотя помогать в Москве становится все труднее и труднее. Никто не хочет ни во что ввязываться. Но… ему не повезло с женщинами.
– Почему?! – удивился ты. – Он их любил! Писал стихи, и какие! Одна стала частью романа!
– Все они после его смерти обезумели от денег, которые лежат за границей. Каждая хотела получить этот куш, – сердился Эренбург.
– Думаю, у них здесь жить не на что… Я видел, как Пастернак одевался. Что ели в его доме, открытом, очень гостеприимном, тоже видел… Там лежат им заработанные деньги, а здесь нищета… Как эти люди должны поступать, по-вашему?!
– Но меня обрадовало вот что, Назым. Эта девушка сказала, что в том лагере, где сидит ее мать, все политические заключенные знают, за что сидят. Вы понимаете, Назым! Все. А раньше, при Сталине? Девяносто девять процентов понятия не имели. Это хорошо! Вообще, говорят, политических мало, человек шестьсот. В основном сектанты, верующие. Желающим разрешают выписывать газеты и брать книги в библиотеке. Есть выбор работы. Кормят, естественно, плохо.
– Я не верю в рай советских тюрем. Почему верующие должны сидеть в тюрьме?
– Я видел последнюю книгу ваших стихов, Назым, ту, что издали к юбилею. – Эренбург явно уходил от разговора о Пастернаке, о КГБ. – Вы показали стихи за сорок лет. Так долго работать в поэзии удавалось немногим. Я был поражен, как через стихи проходит вся ваша жизнь, и как она становится все сложнее и сложнее.
– Стихи тоже углублялись, мне кажется. В последние годы с точки зрения формы я по-новому пишу. По-турецки прием свободного стиха хорошо звучит, а в русских переводах – грубо. Ритм спотыкается, мелодии нет. Стихи распадаются: здесь – лирика, здесь – публицистика. С переводчиками тоже трудно мне бывает. Я вижу, что многие из них используют первые попавшиеся, всем надоевшие рифмы, которые для своих стихов они бы отбросили. Но сказать переводчику, что он халтурщик, неудобно, как обидеть человека?
– Ну, в этих вопросах нельзя быть либералом… В первые годы вашей жизни в Москве вас хотели переводить едва ли не все поэты. И, помнится, вы никому особенно не отказывали. Но вашу требовательность выдержали немногие.
– Трудно. Если плохие поэты берутся за перевод – страшно скучные стихи от них приходят. Русский язык у них бесцветный, форму передать не могут. А большие поэты волей-неволей накладывают на перевод свой отпечаток. Я им говорю: знаете, я – посредственный поэт, пожалуйста, не улучшайте меня. Вы написали очень хорошие стихи, но это ваши стихи. И будет правильно, если вы опубликуете их под своим именем. А я не имею права присваивать вашу славу.
Каждый раз, когда ты впервые слушал перевод своих стихов, то обещал себе, что это последние стихи, которые написал. «Мысли мои, иногда слова мои, а стихи не мои», – говорил ты мне.
Всякий раз переводчики как бы разрезали твое сердце на количество кусков, равное количеству строк, а потом вновь складывали эти куски, и получалось вновь сердце, только со шрамами. И мне всегда было жаль и тебя, и их.
Ты не терпел никакого творчества у поэта-переводчика, не выносил замены своего слова новым, не соглашался, когда из одной твоей строки делали три, вообще хотел максимальной точности. Ты говорил: «То, что форма не остается, ритм не остается, язык другой – к этому я уже привык, пусть хоть слова будут мои, которые я писал!»
И ты не хотел понять, что иногда слово в слово переведенные стихи изменяли природу оригинала больше, чем те отклонения, которых требовал другой язык. Я видела, как переводчикам было трудно работать с тобой, как часто за счет точности терялась поэтичность, музыкальность, и приходил примитив.
Больше всего ты работал с Музой Павловой. Обычно ты сидел потный, красный, усталый, редактировал с Музой перевод. Потом привыкал понемножку, просил исправить отдельные слова или фразы, устало соглашался на остальное, и стихи уходили в жизнь.
«Музу я могу просить по-товарищески что-то исправить, просто могу сказать ей, что это не получилось, она не обидится, постарается искать. Поэтому я сам часто виноват, что переводы не получаются, – признавался ты. – Лично я благодарен Музе».
– Да, Назым, ваш характер я знаю. Но о том, что вы действительно большой поэт, я узнал только из французских переводов ваших стихов.
– Знаете, я моего друга Незвала не могу читать по-чешски. Читаю по-русски. Прошу Веру, она мне помогает. С ее голоса легче понимаю язык стихов. И я вижу разного Незвала в зависимости от того, Пастернак его перевел или Ахматова. Не подумайте чего плохого! Стихи замечательные! Но Незвал где-то посередине остался. По этим соображениям я выбрал Музу Павлову, Слуцкого. Самойлова люблю, и мне нравится, как он чувствует мои стихи. Винокуров хорошо мне помог. Ну, к черту это дело! Я книгу, о которой вы говорите, совсем иначе хотел композиционно построить.
– Не хронологически?
– Хронологически. Но в моей жизни всегда огромную роль играли женщины. Такие или сякие, лучше, хуже, но они входили в поэзию. Таких женщин в моей жизни было пять.
– Вы мне напомнили другого поэта, русского: «В моей жизни семь женских имен», – говорил Гумилев.
– Это муж Анны Ахматовой? – спросил ты. – Я плохо знаю его книги.
Эренбург с укоризной посмотрел на меня.
– Так вот, в моей жизни было только пять женщин. – Это Нюсхет. Турчанка. Познакомился с ней в Тифлисе в 1922-м году. Прожили года два. Потом она с семьей уехала в Стамбул, я остался в Москве. В 24 году познакомился в общежитии КУТВа с Леной Юрченко. Она украинка, училась на медицинском. Очень странная была девушка, анархистка такая. Говорила: «Если я к тридцати годам не сделаю открытие в медицине – покончу с собой». Интересная вообще была. Все, что думала – говорила прямо в лицо. Я однажды рисовал ее портрет. Хотел послать портрет родителям в Турцию. Когда художник рисует, он, естественно, пристально смотрит на свою модель. Я рисовал ее лицо и, конечно, все время смотрел на ее лицо. Она вдруг возмутилась: «Что ты все время на меня смотришь?» – схватила ведро воды и вылила на мою голову. А сидел я в пальто, мороз был в Москве, и отопление не работало. В 1928-м году мы собрались ехать с ней в Турцию. Доехали вместе до Одессы, там вынуждены были расстаться. Она не смогла получить визу. Сильно заболела. Я обещал ей прислать документы из Стамбула или приехать за ней. Оставаться не мог. Мы с другим товарищем-коммунистом переходили тогда границу нелегально. Нас поймали, посадили в тюрьму. Когда вышел, стал ее из Турции искать – не мог найти. Оказывается, она умерла в эпидемию холеры. Потом в Стамбуле в 1930 году снова встретился с Нюсхет. Хотел остаться с ней в жизни. Связывали воспоминания юности, Советский Союз, общие друзья. Но однажды она мне сказала: «Ну хватит, Назым, поиграли в революцию, и довольно. Пора за дело приниматься. Многие коммунисты уже стали министрами, начальниками, и тебе пора делать карьеру». Это был удар, и я ушел. Вот тогда я написал стихи, которые здесь так всем нравятся. «Великан с голубыми глазами». Вот и вы тоже знаете…
– Ну а потом?
– После этого я решил с женщинами ничего серьезного не иметь. Я – профессиональный революционер, меня в условиях Турции каждую минуту могли посадить в тюрьму. Я не должен был вступать в брак. Год-два так и жил, потом у моей сестры – вы знаете, я обожал свою сестру, молился на нее просто, – вот у нее была подруга, Пирайе. У нее было двое детей от первого брака. Ее дочку звали Сюзан, а сына Мемед. Она была почти моего возраста, с огненными волосами. Очень хорошая женщина. Умная, благородная. Через сестру мы были несколько лет знакомы и однажды безо всяких бурь решили пожениться. Я был уверен, что с ней мне будет хорошо, спокойно. Она не была красавицей, и это тоже было плюсом для меня. Я уже испытал безумие ревности. В 1932 году мы поженились. И на самом деле все получилось, как я мечтал. Потом начались тюрьмы. Сажали, выпускали. Потом посадили основательно. Приговор-то был на 55 лет. Пирайе (я ее чаще называл Хатче) всё выносила мужественно. Никогда не жаловалась на жизнь. Аккуратно меня навещала. А я видел, как ей трудно живется. В Турции женщина без мужчины – не в Англии. А ей приходилось воспитывать двоих детей, кормить их. Я мог помогать ей очень мало, хотя старался в тюрьме работать как черт. А вы знаете, ничто не старит женщину так, как заботы и нужда. Последние годы, я видел, она ходила в одном ситцевом платье. И постепенно я стал воспринимать ее как сестру, немножко как маму… А ведь когда в тюрьме сидишь, голова работает совсем иначе. Живешь мечтами. В тюрьме я написал «Легенду о любви», свою мечту о любви. А сам я никогда не любил до исступления и не верил, что человек может так любить. Вот теперь я это знаю, так случилось, а тогда, вы понимаете… Однако мне казалось, что я нормально люблю свою Пирайе, обычно, как бывает между мужем и женой. И вдруг вокруг меня начинается буря! Стихи печатают во Франции, в разных странах. Это обостряет ужас одиночества, хочется избавления, выхода, а я сижу в одиночке! Ко мне журналисты начинают рваться, студенты, разные люди проявляют интерес, требуют освободить. У полиции идет скандал! А я даю стихи! Еще стихи! И вот однажды, в 1948 году ко мне в тюрьму приходит моя двоюродная сестра Мюневвер. Она вошла такая шикарная, от нее пахло французскими духами, представляете, этот запах в феодальной тюрьме? Веселая женщина, самоуверенная! Я обалдел, и… вы понимаете, что случилось. Тогда я уже почти десять лет просидел… В общем, так. Мир требует мне свободу, все друзья убеждают, что правительство сдастся, выпустит меня, и мы с Мюневвер решаем жить вместе. Она – свободный человек, все ей подвластно, а в тюрьме так хочется верить всему хорошему. Она клянется, что уйдет от мужа, а у нее тогда уже была дочь. Клянется, что заберет дочь и уйдет от него ко мне. И вдруг правительство отказывает мне в амнистии… Вы не можете себе представить, что чувствует человек в тюрьме, когда свобода уходит от него. И Мюневвер посылает мне записку, что от мужа уйти не может. Выдвигает какую-то формальную причину, связанную с ее дочерью – и все! Это был удар! Я ненавидел ее тогда. И я объявил голодовку. Хотел этим ей отомстить. Не мог пережить предательства и решил умереть. К черту все! Начал голодать. А люди во всем мире поняли мой поступок как политический. Мама моя вышла на улицы с плакатом «Свободу моему сыну Назыму!» Собирала подписи. А она уже тогда была почти совсем слепая, понимаете? И вдруг ситуация из «Легенды о любви» повторяется со мной! Все, как и в моей пьесе, началось с любви, а кончилось… Мой Ферхад пошел на подвиг из-за любви, чтобы добыть прекрасную девушку, но постепенно долг перед людьми оттесняет любовь. Дальше. Люди вселяют в меня веру, я выдвигаю политические требования и начинаю борьбу с правительством. Голодаю четыре дня, пять дней, шесть… И я решил, если не дадут свободу – умру! Нельзя же сидеть в тюрьме до гробовой старости. Понял вдруг, что могу умереть без всякого мелодраматизма. Физически я с каждым днем слабел, конечно, но морально становился сильнее, даже веселее, понимаете? И вот правительство сдалось. Я получил амнистию. И тут пришла Мюневвер, принесла килограмма два или три клубники. А я столько дней голодал! Я набросился на ягоды и почти все съел. Чуть не умер. Еле меня спасли. Эти дни были счастьем! Все-таки свобода, черт побери! Я еще некоторое время продолжал сидеть в тюрьме, хотя вопрос был решен. Но в личном отношении я не люблю эти времена вспоминать. Потому, что прежде чем выйти из тюрьмы, я увидел, что у Мюневвер уже почти шесть месяцев беременности! Я вообще считал, что из-за моей революционерской деятельности у меня детей не может быть. А тут? Не удивляйтесь. Директор моей феодальной тюрьмы был моим другом и поклонником стихов. Когда я просил, он спокойно разрешал встречаться нам с ней в его кабинете. Частенько уходил совсем. Он думал, что Мюневвер – моя жена. Ведь я никогда не приводил к нему Пирайе. Беременность Мюневвер поставила меня перед трудным фактом. Я понимал, какой скандал сейчас разразится! Дело было не во мне, конечно. И самое важное состояло в том, что этот скандал используют враги коммунистов. Я давал им возможность говорить, что все коммунисты такие сволочи, как Назым Хикмет, они – развратники, подлецы, такие-сякие. Всё что угодно! Ну, вы понимаете: одна женщина страдала, ждала его двенадцать лет, а он выходит и идет к другой, к тому же – более молодой, и прочее. И это все не в Париже, а в нашей крестьянской стране… Так и вышло. Я стал жить с Мюневвер. Я думал, что Пирайе подаст на развод, но она ждала. Тогда Мюневвер настояла, и я подал заявление сам. Суд состоялся в конце марта 1951 года. Никто из нас на нем не присутствовал. А через три месяца после этого я навсегда покинул свою страну.
– Теперь ваш сын живет в Варшаве? – спросил Эренбург.
– Да, он живет там с матерью и со своей сводной сестрой. Они бежали из Турции, потому что мальчик по турецким понятиям оказался незаконнорожденным. Я не оформлял брак с его матерью.
– Вам удалось его усыновить?
– Да, я очень рад. Я пошел в польское посольство, и товарищи всё сделали.
– Вы его видите?
– Нет, к сожалению. Мюневвер не пускает его ко мне. Это страшная рана в моем сердце.
– Сложная у вас жизнь, Назым.
– Очень сложная, черт побери. Очень! Зачем я вам все это рассказал? – удивился Назым.
– Вы начали с книги. Ну и почему же вы отказались назвать ее главы именами ваших женщин?
– Вера не согласилась. Говорит, не хочу, чтобы нас всех сравнивали. А я ей говорю, глупая, никому я таких стихов, как тебе, не написал. Там есть мучения, ревность, все безумства любви. Но она не захотела.
– Вера, показать вам наш дом? – предложил Илья Григорьевич.
Есть дома, убранство которых составляет мебель. У Эренбурга – картины. Мы пошли. Эренбург останавливался возле каждой и любовно рассказывал о Пикассо, Ривере, Пиньоне, Шагале, Тышлере, Фальке и других своих великих друзьях. Перед моими глазами открывались целые миры, хотелось медленно разглядывать эти шедевры, но было неловко. Мне понравилась комната самого Эренбурга. Не кабинет, не спальня, а так – всё вместе. Комната маленькая, с небольшими картинами повсюду – висят на стенах, стоят среди книг, – с трубками, с синей материей на диване, а может быть, зеленой… А может, зелень – с картины Шагала? Все тут органично переплелось, все понятно в пространстве кабинета Эренбурга, а ты робеешь. Бродишь позади худенького, сгорбленного хозяина дома большой в этой камерной квартирке, как телохранитель. Говоришь как-то тише обычного, как будто выполняешь чей-то наказ: «Ты хорошо себя веди в гостях, Назым!» А мне забавно – я тебя таким, правда, не видела никогда.
Входим в комнату Любы. Четыре ее портрета и она сама пятая смотрят на нас одновременно. Одно красивое лицо в пяти вариантах. Люба достает с полки французскую книгу: рисунки обезьян. Рассматриваем. Очень похожи они на рисунки абстракционистов. Всем становится весело.
– Талантливо пишут обезьяны! – несколько раз повторяет Эренбург.
Идем ужинать. На столе заморские вина и закуски. Вот и супчик из парижского гастронома, экспортированный в целлофановом пакете, дымится на столе. «Забавные эти старики, жуткие пижоны, – думаю я. – Суп-то могли и в Москве сварить», – осуждаю с молодым максимализмом, но ем. Ничего не скажешь, вкусно. Но едят все как-то равнодушно. Главное – разговоры. Аппетит к этому.
Мне нужно порасспросить Эренбурга о его последней книге «Люди, годы, жизнь», да я боюсь, что он уйдет от «темы». Спрашиваю как бы между прочим, откуда возникает желание рассказать о своей жизни через других людей, что дает ход воспоминаниям.
– Так мне хотелось высказаться по самым современным вопросам. Теперь я получаю тысячи писем. Мне пишут в основном два поколения. Люди старые обрадовались, что я рассказал о времени, по которому они немного тоскуют. А молодые открыли то, чего не знали.
Эренбург уже увлекся и рассказывает о скандале, который разразился в Западной Германии вокруг издателя, собравшегося там напечатать его книгу.
– «Зольдатен цайтунг» заявила, что моя книга не может быть напечатана, так как я призывал насиловать немок во время войны. Тогда мой издатель решил проверить этот факт, и, представьте, одиннадцать организаций проверяли его! Он, конечно, не подтвердился. Тогда та же самая газета напечатала статью, где говорилось, что я во время войны призывал убивать немецких солдат. В ответ я послал письмо своему издателю, где написал, что горжусь этим и, если издатель не подтвердит этого, я откажусь печатать у него свою книгу. Издатель объявил дискуссию. Опубликовал мое письмо. Некоторые немцы вступились за меня. Пишут: «А почему Эренбург должен любить немцев?» Но на днях появился заголовок через всю газету: «Эйхман повешен, а Эренбург жив!» По-моему, все это очень интересно, а, Назым?
– Интересное дело! Когда книга дает бой – я люблю! Я записываю разговор, и Эренбург больше над этим не смеется.
– С кем из писателей вы встречаетесь во Франции?
– С кем? С Сартром, с Веркором, с Роже Вайяном, с Клодом Руа. В Италии я люблю Карло Леви. Я многих люблю например, Пабло Неруду, Рафаэля Альберти, Жоржи Амаду. И я люблю Назыма, который меня восхищает вечным отрочеством. Написали? Но не в русских переводах. У нас с Назымом, должно быть, общие друзья в современном литературном мире.
– Да. Почти все они мои друзья тоже. Как вы считаете, в каком месяце стоит ехать в Чили? Вы ведь были там?
– Вам необходимо ехать по делам?
– Нет. Нас давно приглашает Пабло, хочет показать свой дом, свою страну. Я дал ему слово, что в этом году обязательно приедем. Раньше я даже думать об этом не мог, а теперь, когда врачи разрешили мне летать в Гавану, я хотел бы посмотреть и на Чили.
– У Пабло роскошный дом! Поразительная коллекция морских диковин! Но я не советую вам, Назым, пускаться в это путешествие. Я жил у него дней тридцать. Пабло никогда не было на месте, и меня все это время кормили одной яичницей. Если вы любите яичницу…
– Мне нельзя яичницу, – улыбнулся ты. – Вопрос не в этом. Я спросил в «Аэрофлоте», сказали: билеты для нас двоих будут стоить почти две тысячи рублей. А у меня сейчас немножко трудновато с этим.
– Чилийская яичница определенно не стоит таких денег! – рассмеялся Эренбург. – А что вы, Назым, сейчас пишете?
– Только стихи. У меня был странный период, несколько лет длился, примерно до 58-го года. Не мог писать стихов. Думал, кончено с этим. Теперь наверстываю.
– Да, я вас превосходно понимаю. У меня самого так бывало со стихами. Стихи – капризная вещь.
Он вдруг задумался. Опустил голову, водит ложкой по дну тарелки.
– Мне надоела условность в литературе, Назым. Я хочу вам, Вера, процитировать Павленко: «В литературе, хочешь или не хочешь, нужно врать, но пар требует выхода. Только не так, как тебе хочется, а как тебе хозяин велит». Вы понимаете?!
Когда мы вышли, ты сказал:
– Не обращай внимания на эту яичницу в доме Пабло Неруды. Уверен, что он ел ее не больше двух раз. Я даже думаю, что Пабло специально сбегал из дома. Они оба настоящие люди. Но не могут долго находиться вместе. Вдруг начинают спорить, говорить друг другу наперекор, ведут себя, как фехтовальщики. Пабло весь кипит будущим, а Эренбург больше поэтизирует культуру прошлого. Как коммунист я во многом с ним не согласен, но как человек – я люблю его.
Мы еще долго стояли в ночи на улице Горького против здания Моссовета под окнами Эренбурга и ловили такси.
– Интересно, – говорил ты, – Эренбурга здесь воспринимают как человека левых взглядов, а в Европе не так. Помнишь, в Риме нам рассказывал журналист, член итальянского ЦК, как проходят его встречи с итальянцами, которые устраивает компартия? Приходят, в основном, старые дамы в кружевных перчатках, мелкие служащие, вообще старики. Их привлекает его изысканная речь, эрудиция, изящные рассуждения о литературе двадцатых-тридцатых годов. Но сегодня итальянцев волнует будущее, жизнь советских людей, результаты ХX съезда партии, отношение к Сталину. В этом дело! Я тебе говорил, как недавно итальянский буржуазный издатель просил у меня стихи: «Пожалуйста, поменьше лирики, – настаивал он, – меня интересуют революционные стихи, самые острые, самые непримиримые. Сегодня я могу сделать бизнес только на этом». …Вера, Эренбург так много говорил о своих стихах сегодня. Я не знаю его стихов. Он хороший поэт?
– Но ты ведь тоже сегодня долго рассказывал о своих картинах. Если он меня спросит, какой ты художник, что мне сказать?
– Вот ты какая, издеваешься над стариками, – ты рассмеялся. – Нет, серьезно, тебе нравятся его стихи?
– По-моему, он никогда не был мальчишкой.
А теперь переживший тебя («после войн мировых смерть перепутала весь свой порядок…»), Назым, Эренбург написал о тебе в своей книге: «Внешне он походил скорее на человека с севера, чем на турка, – очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он чувствовал себя свободно – в Москве, в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции тосковал. В Риме я разглядывал два тома его произведений, один иллюстрировал Гуттузо, другой – друг Назыма, турецкий художник Абидин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абидином, и Назым просиял: он не хотел говорить о своих стихах, он хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах: Пабло Неруда, Арагон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Жоржи Амаду – всех не перечтешь».
Да, я хотела сказать, Назым, что перед публикацией главы о тебе Эренбург прислал мне рукописный текст и попросил посмотреть, не напутал ли чего. Я попросила убрать только одну фразу, где он говорит, что ты был человеком, который плакал на свадьбах и смеялся на похоронах. А зря.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































