Текст книги "Последний разговор с Назымом"
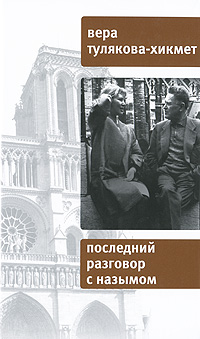
Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Когда мы остались вдвоем, я сказала тебе, что даже из-за такого зла, как сталинизм, не стоит умирать. Ведь исторически эта проблема с повестки дня снята ХХ съездом, и сегодня сталинизм доживает только в отдельных людях.
– Откровенно говоря, я так разозлился на Мехти не потому, что он отсталый коммунист и проповедует вождизм, а из-за этих открыток…
Помнишь, Назым, как ты ждал прихода Мехти? Ты и Пьера-то в тот день позвал «на него».
Ты отметил в своем календаре день 7 февраля, когда Мехти должен был вернуться из двухнедельной поездки по Турции.
– Что тебе привезти с родины, Назым? – спросил он, улетая.
– Привези открытки, брат. Это недорого, а я все-таки увижу мою Турцию.
И вот Мехти у нас. Ты суетишься около него:
– Ну, расскажи, брат, как там? Что ты видел? Где был? С кем встречался?
Мехти загадочно улыбается:
– Очень красивая страна! – и достает пачку цветных блестящих открыток, рассыпает их по столу.
Ты хватаешь одну, другую, третью, садишься поближе к свету и начинаешь раскладывать открытки на столе, вглядываешься, всматриваешься в них – ты так взволнован. Наконец отодвинулся от стола, снял очки, обнял Мехти.
– Спасибо, брат, что не забыл мою просьбу.
А Мехти вдруг подошел к столу, собрал одним движением все открытки, как колоду карт, и сунул в карман.
Ты обомлел, смотришь на него – не понимаешь, шутит он или серьезно.
– Извини, Назым, не могу тебе их оставить, – говорит Мехти. – У меня половина Баку знакомых, всем нужно что-то дать из Турции. Вот я им и раздам открытки. Хочешь, выбери одну – он снова вытащил пачку из кармана.
– Нет, спасибо, Мехти. Не хочу.
А помнишь, как Пьер пришел к нам зимой после операции?
Он был счастлив, с восторгом рассказывал о своем молодом хирурге. Задрал вишневую шерстяную рубашку, надетую прямо на голое тело:
– Вот он настоящий маэстро! Смотрите, эта линия, по-моему, красива сама по себе. Косметический шов.
Мы увидели на его смуглом животе тончайшую изломанную линию, действительно, изысканного рисунка. Тогда же узнали, что это лишь первая операция, и через полгода Пьеру предстояло оперироваться снова. Но он уже не говорил об этом с прежним беспокойством. Теперь Пьер верил своему хирургу:
– Он взял с меня слово, что вторую операцию я обязательно буду делать у него. Боится, если я пойду к другому врачу, все может случиться. Оказывается, я немножко трудный случай, Назым, и я, конечно, вернусь только к его ножу. Это не вопрос!
Когда же лед начал ломаться под твоими ногами?..
Зима 1962 года. Рим, веселое приземление в Милане – еще все замечательно. Перелет в Париж, встречи с друзьями, предновогоднее настроение, в папке полностью доработанная рукопись «Романтики». Легкое предчувствие успеха… Много новых турецких книг, хороших, разных. Радостно читаешь последние рассказы Азиза Несина, молодую поэзию, «Двести сонетов» Пабло Неруды. В гостях прихватываешь маленький шедевр – письма турчанки Аиссе о любви. Написаны в начале ХVIII века, подлинные – драматичная судьба светской парижанки, купленной некогда французским вельможей на базаре в Стамбуле. С увлечением переводишь мне ее исповедь и жалеешь бедную Аиссе до слез…
И вдруг громом среди ясного неба утренний выпуск «Le Monde». Крупный заголовок. Сообщение из Москвы: репортаж о посещении Хрущевым художественной выставки в Манеже, той самой, которая так тебя порадовала. Подробное описание скандала, учиненного руководителем страны молодым и известным художникам. «Вы могли бы жениться на этой женщине?!» – его вопрос к сопровождающим лицам перед «Обнаженной» Фалька. И прочее в том же духе.
Ты с ужасом и недоверием читаешь информацию из Москвы. Тебе кажется, что это всего лишь очередной блеф буржуазной газеты.
– Кому после XX съезда нужен поворот культуры вспять? Но почему молчит «Юманите»?
А там только несколько строчек скупой информации.
Помнишь то утро, Назым?
Две недели спустя мы вышли на бульвар Сен-Мишель и увидели, что он весь оклеен громадными фотографиями, где Хрущев замахивается кулаком на Андрея Вознесенского. Ты возмутился:
– Это фальшивка!
Все-таки у тебя оставалась надежда.
– Надо скорее возвращаться в Москву.
Да, Назым, я помню, как после встречи нашего последнего Нового 1963 года ты вдруг сдался. Мы страшно устали в те дни. Суматошная рождественская неделя. Слишком много встреч, слишком много ходьбы, суеты и волнений, идущих из Москвы.
В последнее утро старого года мы проходили по Елисейским полям, и ты заставил меня войти в маленький магазинчик для миллионеров. Ты шептался с девушкой в углу, как заговорщик, она радостно кивала тебе и улыбалась отнюдь не дежурной улыбкой. Через минуту возле моих ног стояли связанные из золотых нитей тапочки-туфельки небесной красоты. Безумие! Деньги наши были на исходе, но ты вытащил откуда-то из загашника похрустывающие франки.
– Арагон взял цикл моих стихов, и вот теперь я, наконец, могу подарить их тебе. Ах, как прав Пьер Куртад! В Париже с любимой женщиной хочется быть миллионером. Мне так совестно, что ничего не могу тебе купить. А сколько вещей здесь создано для тебя…
Нет, в то утро все еще было в порядке.
Вечером ты попросил меня надеть золотые тапочки. Я пыталась протестовать:
– Они же летние! Не по сезону, не принято, я буду смешной.
Но ты умолял.
– Значит, я дурак был? Значит, зря? Значит, могу не увидеть их на твоих ногах… Мы же идем к друзьям. Они меня поймут. – И агитировал меня то ли в шутку, то ли всерьез. – Еще, надевай, прошу тебя, красный костюмчик! Ты – женщина из страны Революции, из страны Красной площади, ты должна выглядеть, как красное знамя!
– Cегодня же Новый год, а не годовщина Октября!
– Да просто идет тебе, понимаешь, красный цвет! Идет! Я сдалась и надела все, что ты хотел.
Этот Новый год мы встречали в Париже в гостеприимном доме еврейской поэтессы Доры Тейтельбойм и ее мужа, замечательного кардиолога Гершеля Майера. Оба были коммунистами, романтиками, деятельными людьми больших собраний и митингов. Они с Дорой рассказывали нам, как преследовали их в Америке, как они не выдержали и переехали во Францию.
В доме у них просто, спокойно. Когда мы вошли, гости уже сидели в гостиной на длинных Дориных диванах. Ты целовал руку изящной жены Мигеля Астуриаса, потом Вере, жене Жоржа Садуля, потом женам журналистов – их здесь было несколько, – потом расцеловал Элиану, жену Шарля Добжинского, а потом уже бросился с объятиями к самому Шарлю, своему любимцу и переводчику.
Я смотрю на Шарля. Он француз еврейского происхождения. Глядя на его умное спокойное лицо, лучистые глаза трудно представить, что вместе с родителями он попал в гитлеровский концлагерь, шестилетним ребенком бежал оттуда и единственным из семьи остался в живых. Стал коммунистом. Я знаю, он ничего не забыл. Он хороший человек, наш Шарль, братишка мой.
Париж, 13 декабря 1963 г.
Бесконечно дорогая Вера, я должен был написать Вам несколько месяцев тому назад. Хотел написать сразу, как только к нам пришло это страшное известие, поразившее нас до глубины души. Но в минуты, когда утешения нет и когда смерть образует пустоту, которую ничем нельзя заполнить, я плохой утешитель. Мир без Назыма – как человек без рук или без глаз, потому что благодаря таким поэтам, как он, мы яснее понимаем жизнь, и ночь не кажется нам такой бесконечной. Очень трудно привыкнуть к тому, что его нет. И все-таки жизнь продолжается, как будто ничего не случилось, потому что жизнь – огромное, жестокое колесо. Оно катится сквозь воспоминания и сердца, не останавливается даже тогда, когда давит на своем пути живое существо. Несколько дней тому назад вернулась из Москвы Дора. Она рассказывала нам о Вас с таким чувством дружбы и нежности, что мы до сих пор находимся под впечатлением. Но не думайте, что Элиана или я забыли Вас. Мы думали о Вас так часто, мы говорили о Вас, и у нас сжималось сердце при мысли, что разбилось счастье. Вы и Назым были для нас олицетворением большой и сияющей романтической любви. У Назыма светилось лицо, когда он смотрел на Вас, и это согревало, это наполняло нас радостью; мы видели, что наш дорогой поэт после стольких лет страданий, героической борьбы выиграл право быть просто счастливым, что он обрел эту лучистую свободу, когда любовь и поэзия, как у Поля Элюара, сливаются воедино.
Теперь нам предстоит защищать наследие Назыма, защитить правду, о которой он постоянно говорил с таким мужеством. При жизни он стал легендой. Но нельзя, чтобы легенда заслонила его самого, чтобы она заслонила настоящего человека и поэта. Его поэзия – это наше добро, наш бесценный капитал, и мы обязаны сделать так, чтобы она приносила плоды всем.
Дора Вам говорила, что вышла моя книга «Опера космоса». Назым любил ее. Большие куски из книги я читал ему еще в отеле «D’Albe», в этой незабываемой маленькой комнатке, где вы жили, как два студента. Не прошло и года после нашей последней встречи. Когда я думаю об этом, у меня сжимается сердце. Назыма больше нет, но борьба, которую он вел, не окончена. Я убежден, что его правда победит глупость и зло тех, кто хочет помешать истории двигаться вперед.
Дора сказала, что Вы начали книгу. Написав ее, Вы можете многое сделать для Назыма. Надо до конца сказать правду, не боясь ничего. Мы переведем эту книгу, потому что Назыму нужен Ваш голос.
Голос любви – это единственное, что воскрешает поэтов. Дорогая Вера, мы с Элианой нежно обнимаем Вас и надеемся, что Вы доставите нам радость и приедете в Париж. Наш дом открыт для Вас. Назым говорил: «Ты умрешь, чтобы жили люди… и ты умрешь, прекрасно сознавая, что нет ничего более прекрасного, ничего более верного, чем жизнь… потому что чаша жизни на весах тяжелее». Мужайтесь, Вера, поэзия живет с нами.
Шарль
Навстречу тебе поднялся радостный Мигель Астуриас. Вы шутили, смеялись, выясняли, кто последним видел Пабло, и в эту новогоднюю ночь еще много раз возвращались в разговоре к своим друзьям – Неруде, Жоржи Амаду, Гильену. Говорили об их книгах, стихах, женах, вспоминали и смешное, и грустное. Все вы, в разное время отлученные от родины, испили одну тоску. Когда я видела вас вместе, мне казалось, что даже внешне вы все были чем-то похожи друг на друга, как дети одной матери – свободы.
Новогодний стол, как всегда у этих добряков Доры и Гершеля, был щедро уставлен разносолами и напоминал московское застолье. Ты набросился на еду с такой жадностью, что Гершель испугался:
– Назым, ты не должен так много есть! Это страшно опасно для тебя!
Сигарета зажата в твоих зубах – одну бросаешь, другую закуриваешь. Светлые глаза Гершеля становятся круглыми.
– Зачем ты куришь, Назым? Тебе же нельзя!
– Послушай, оставь меня, брат, – смеешься ты. – Я столько лет просидел в тюрьме. Мог курить и пить, да нечего было. Потом вышел. Свобода! Но опять нельзя – инфаркт. Врачи не велят. Теперь я снял с себя все запреты. Оставшиеся годы я буду делать то, что захочу, черт побери! Я хочу жить, понимаешь, жить! По-человечески!
– Лучше пей коньяк, даже кофе, но не кури, – упорно твердит Гершель. – Вера, иди сюда, – зовет он меня. – Я хочу говорить при ней. Так вот, Назым, если ты не бросишь курить…
– Я не могу, брат. Я люблю курить. И как! Когда не курю, страшно хочу, только об этом и думаю. Начинаю себя удерживать, но так нервничаю, что вреда больше получается, чем от курева. Смог тебе объяснить?
– Но ты убиваешь себя, Назым! Я говорю тебе как врач.
– Все вы врачи ни черта не понимаете, – смеешься ты. – Один врач, очень известный в Европе, сказал мне: «Товарищ Назым, вам нельзя летать на самолете – это смерть для вас, только поездом». Я путешествовал только поездом. Сколько лет! Другой врач сказал недавно: «Вы ездите поездом, но ничего для вас не может быть страшнее! Тряска, которую вы испытываете в поезде – смерть для вас. Только самолетом!» Теперь я летаю, даже летал на Кубу, и хорошо себя чувствую. Третий врач заставлял меня круглый год носить шерстяное белье. Я круглый год потел, и маленького сквозняка было достаточно, чтобы я лежал с воспалением легких. Два, три, четыре раза в год я обязательно болел воспалением легких! Вера заставила меня бросить это белье, и вот я три с лишним года не болел вообще. Даже насморком. Недавно один врач в Румынии мне сказал: «Можете курить до десяти сигарет в день, но кофе для вас смерть». Теперь ты говоришь – лучше пей кофе, но не кури. Пока вы между собой не договоритесь, что можно, а чего нельзя – я не буду вас слушать! Вот так, извини, брат.
– Я сейчас говорю тебе не как врач, вернее, не только как врач, а как коммунист и твой друг, – продолжает Гершель. – Если не бросишь курить сегодня, ты с твоими сосудами проживешь пять, от силы шесть месяцев, понимаешь?!
Ты прожил пять месяцев и три дня после этого разговора, Назым. Мне страшно. Предсказание Гершеля сбылось.
Париж, 13 декабря 1963 г.
Дорогая Вера,
Дора вернулась из Москвы и, кажется, именно с Вами она провела там самые хорошие часы. Она говорит о Вас с такой огромной нежностью, что мне захотелось написать Вам несколько слов и сказать, что Вы всегда в наших сердцах и мыслях. Шарль, Дора и я постоянно вспоминаем, как лишь несколько месяцев назад мы, пятеро, были вместе. Я и тогда ощущал ценность тех вечеров, однако теперь кажется – бесконечность отделяет нас от них. Я часто спрашиваю себя, что же такое излучал Назым? Какая-то странная магнетическая аура исходила от него, и каждый чувствовал, как его неотразимо влечет к Назыму. Он стоит перед моими глазами во весь свой большой рост, и кажется, что его мудрые, проницательные глаза с безмерным человеческим теплом видят тебя насквозь, понимают и сочувствуют тебе. Говорят, любовь таинственная, часто необъяснимая вещь. Но любовь для Назыма была такой естественной и неизбежной! Он оставил с нами свое человеческое тепло, свое дыхание. Все это зажигает и сплачивает нас, делает жизнь выносимой.
Я думаю о выпавшем Вам счастье знать и любить такого человека, чей дух, я знаю, Вы будете делить с другими и нести дальше. Я надеюсь, что Вам удастся передать в работе, которую Вы пишете о нем, великую простоту, прямоту, искренность, высочайшую честность – все, что отличало его от многих других.
Мы желаем Вам, Вера, хорошего здоровья. Будьте всегда энергичной и сильной, выполняя то, за что Назым боролся всю жизнь. И давайте надеяться, что мы встретимся. Я и Дора желаем вам счастья и всего наилучшего.
Гершель
Первые дни твоего последнего года. Мы входим в дом № 18 на набережной Сен-Мишель. Высоко над нами, на шестом этаже в мансарде живет Абидин. Я уже бегала несколько раз к нему в мастерскую-квартирку. Ты поднимаешься впервые. Мне кажется, я никогда не видела таких вытянутых этажей, как в этом старинном доме. «Самое страшное для сердца Назыма – лестницы», – предупреждали меня врачи. Тебе предстоит преодолеть километры ступеней, и я боюсь. Абидин и Гюзин тоже боятся, но ты настоял на своем, и мы уступили. Ты любил Абидина и будто почувствовал последнюю возможность увидеть его дом и картины. Медленно идем наверх.
А там тебя ждет сюрприз. И какой! Абидин заказал обед в Стамбуле, его только что привезли на самолете. И вот на столе одно за другим возникают турецкие блюда, теплые, бесценные угощения родины. На улице мороз, в соседней комнате потрескивают поленья в камине, а на столе горячие фаршированные мидии, любимые тобой с детства, овощи и масса чудес – «наших», «оттуда». Аромат твоей родины. Праздник. Спасибо, Абидин.
– Как жаль, что не смогу угостить тебя моим Стамбулом, – все повторяешь вечером в отеле «D’Albе».
Ты говорил на набережной Неаполя:
– Поедешь в Стамбул без меня. Просил в Каире:
– Сделай это для меня, иди в мой город. И смотри Анатолию тоже, и Анкару, и Измир, и маленькие города, и деревни, и базары, и наши свадьбы, и мою тюрьму.
Частенько приговаривал в Москве, собираясь лечь спать:
– Тебе же будет интересно увидеть Турцию, которая странным образом вошла в твою жизнь…
…А в Измире тополя
выбегают на поля,
Чакыджи меня зовут,
Эй, спалим все дворы!
Здравствуй, милая моя…
4 января 1963 года мы вернулись домой. Когда проходили мимо витрины «Известий», снова увидели фотографию с Хрущевым и Вознесенским, глянцевую, выставленную напоказ. Ты, Назым, как всегда в трудных ситуациях, поехал на Пушкинскую к Твардовскому. Он показал тебе несколько свежих запретов на рукописи, но сдавать своих позиций не собирался. Примерно так же думали Борис Полевой и Тихонов, считали, что нужно по-прежнему работать в духе XX съезда, защищать литературное дело и оберегать молодых. Вот из-за них ты страдал, не таясь. Особенно жалел Андрея Вознесенского, Евтушенко и Роберта. Ты негодовал, временами отчаивался и снова бросался за них в бой…
Мы пришли ужинать к одному известному кинорежиссеру, и у него над столом, там, где еще недавно висела очень хорошая современная картина, ты увидел светлый квадрат стены.
– Снял от греха – признался хозяин дома, – ведь все без разбора объявляют абстракционизмом.
– Да… – ты сокрушенно качал головой.
Наутро поехал к молодому Леве Кропивницкому и купил у него самое большое полотно – настоящую абстрактную картину, очень красивую, сам назвал ее «Взрыв», привез домой, повесил на видное место в гостиной.
– Собаки лают – караван идет, – чаще, чем прежде, повторял ты любимую поговорку, подбадривая себя и друзей.
А сам работал, не разгибая спины. Готовил в печать поэму, привезенную из Танганьики, переводил со Старостовым «Романтику», в промежутках писал статьи. Но на сердце давила тяжесть перемен… Твой взгляд словно навели на резкость. Ты сходил с ума в марте 1963-го после встречи руководителей партии с деятелями советского искусства.
– Я не понимаю, почему один необразованный человек безапелляционно и грубо судит о кукурузе, об архитектуре, о русском языке, о живописи, о стихах! Почему Хрущев навязывает свой примитивный вкус людям культуры, а через них – всему народу? Почему опять командует один человек? Я не согласен с его вкусом, – кричал ты мне, – понимаешь, не согласен! Я не могу писать частушки! Значит, я должен перестать быть поэтом? Хрущев обманул меня. После XX съезда я так ему верил. Я ошибся. Опять пошли слухи, что КГБ охотится за безусыми поэтами. Не хочу ссылаться на Ленина, не запретившего Маяковского, но позволившего расстрелять другого русского поэта, все говорят, очень хорошего – Гумилева. Что-то тут не так, есть какая-то закономерность повторений… Лично мне больше нравится позиция беспартийного Фридриха Великого: «Я сделал для искусства все! Я не мешал!»
Именно в те мартовские дни ты написал:
…Бороться еще могу
За все, что кажется мне правильным,
прекрасным и справедливым.
За все, за всех!
Ни возраст,
Ни здравый смысл мне в этом не помеха.
Но удивляться больше не могу.
Все дело в том, что удивление,
С его глазами, расширенными, юными,
Покинуло меня, умчалось в даль.
А жаль!..
В последнее время ты не хотел, чтобы я видела тебя утром сразу после сна. Говорил, что все труднее и труднее оставаться молодым. Ты вдруг утратил энергию. Быстро стал уставать.
– Я прочитал в разных медицинских книгах, что люди с таким инфарктом, как мой, и с аневризмой живут от восьми до одиннадцати лет. Пошел последний, одиннадцатый год моего срока. Со мной что-то случилось! Я сижу за машинкой час, иногда меньше, и все… больше не могу. Устаю так, как будто таскал мешки с солью.
Все чаще полеживал по утрам.
– Страшная слабость, миленькая. Извини, не хочется вставать. Дай мне глоточек кофе. Если так будет дальше, я не смогу зарабатывать, я не сумею прокормить тебя. Как будем жить? Мои старые пьесы уже прошли, а новые не ставят…
Скажу тебе честно, Назым, в то время я боялась самого страшного для тебя – разочарования. Я тоже привыкла все в твоей жизни проверять стихами и со страхом ждала новых строк.
Какое облегчение, счастье пришло в середине апреля в наш дом вместе со стихотворением «Красная площадь»! Ты торопил Бориса Слуцкого, которому очень нравились эти стихи, перевести их поскорее, чтобы успеть опубликовать к празднику. Борис посоветовал отдать их в «Правду». Вы вместе позвонили в редакцию и тут же, не откладывая дела в долгий ящик, отвезли стихи в газету.
Прошел день, другой, неделя – из редакции никто не звонил. Ты удивлялся: сколько можно читать короткое стихотворение… Потом не выдержал, позвонил сам, и тебя попросили зайти к заведующему отделом литературы и искусства товарищу Абалкину.
Ты приехал от него в ярости:
– Он даже не встал из-за стола! Не подал руки, не предложил сесть!.. Выкинул стихи на стол из ящика! Сказал, что не будет печатать стихи с прозрачными намеками на то, что в советских тюрьмах сидят борцы за свободу! Черт побери! – бушевал ты. – Каким надо быть страшным человеком, чтобы так прочитать стихи коммуниста о любви к Красной площади и свободе!
Первого мая
по всем площадям мира
проходит Красная площадь —
со знаменами и без знамен,
с песней или без песни,
но по всем площадям мира.
Первого мая во все надежды мира
входит Красная площадь.
Первого мая
Красная площадь
вламывается во все тюрьмы,
во все казематы,
где заключена свобода.
Первого мая
Красная площадь
проходит по всем параллелям:
под солнцем,
под дождем,
под снегом.
Первого мая
весь мир превращается в Красную площадь,
в ту самую площадь,
где выступал Ленин.
Через несколько дней в театре Моссовета в антракте спектакля по твоей пьесе он кинулся к тебе с протянутой рукой в битком набитом людьми кабинете Завадского. А ты ему:
– Я вам руки, товарищ Абалкин, не подам, потому что вы – сволочь.
12 апреля 1963 года ты думал вовсе не о космосе:
Через четыре дня буду в Москве.
И эта разлука останется позади как дождливое шоссе.
Новые разлуки придут.
Окунусь в новые колодцы.
К новым возвращеньям, задыхаясь, побегу.
Потом – не Прага, не Танганьика —
уйду в никуда.
И не возвратят меня
ни корабли, ни самолеты, ни поезда…
Не пришлю ни телеграммы, ни письма.
Не рассмеешься мягко, услышав голос мой в трубке.
Останешься одна.
– Знаешь, в Турции был один замечательный поэт, – рассказывал ты мне. – Женился на молодой женщине, ужасно любил ее. Потом между ними что-то случилось, и она ушла. Вышла замуж за молодого шведа или датчанина, уехала к нему. Но затосковала, поняла, что и сама любила старого мужа, вернулась и была счастлива со своим поэтом… Я сделал с тобой страшную вещь: никто не сможет полюбить тебя так, как я. Ты вечно будешь искать меня, снова и снова возвращаться ко мне без меня.
Ты слишком меня зафокусировал, Назым…
Боюсь, что ты – это все мое добро и мое зло. После тебя пустота. Каждый мой год, месяц, день, прожитый с тобой, я словно брала в долг у будущего. А потом только расплата, вечная ссылка в воспоминания…
Теперь, в этой разлуке я гонюсь за тобой. Как же выживают те, кому не оставлено ни посланий, ни стихов?
Вскоре к нам пришел Пьер Куртад. Пришел прощаться. Ты даже вскрикнул:
– А как же операция?!
– К черту! Сделаю в Париже. У меня есть друг коммунист, работает хирургом в одном госпитале. Он сделает.
– Но тебя же предупреждал твой московский врач. Он уже копался в тебе. Он знает, что говорит! Верь ему, Пьер! Ты не дол жен…
– Я не могу здесь! Умру от бешенства. Я задохнусь, понимаешь, Назым! Ты не читал, наверное? В «Правде» появилась статья, где уже ругают французских импрессионистов. Как это возможно? Это наше национальное богатство! Я возмутился. Написал письмо редактору «Правды» товарищу Сатюкову. Я сказал, что они могут не любить нашу живопись, но не надо ее ругать. Эта живопись нам дорога, в ней живет традиция французского народа. Почему нужно обижать любовь целого народа? Вот Пикассо – коммунист, и наша компартия рада, что у нее есть Пикассо.
– Что же он тебе ответил?
– Что?! Как будто не знаешь! Ничего.
– Да-а…
– Я передал копию своего письма Морису Торезу. Спросил, не думает ли он, что я погорячился? Представляешь, он мне ответил письмом. Понимаешь, зачем он мне послал его по почте? Чтобы те, кто читает – доложили наверх. Вот партизан! Переписал мой текст и послал по почте…
Пьер достал из кармана письмо и развернул его. Внизу исписанного листа стояла крупная разборчивая подпись «Морис Торез».
– Вот видишь, нарочно расписался метровыми буквами, чтобы всем было ясно. А Сатюков мне даже не ответил! Ему плевать, что какой-то там француз недоволен статьей, которую он санкционировал! Стоит ли обращать внимание! Я не могу больше здесь оставаться и нормально работать. Я не понимаю таких отношений между коммунистами и коллегами!
Потом я услышала, как ты, тщетно пытаясь отговорить Пьера уезжать, крикнул ему:
– Ты в какую партию вступал? Сатюкова, что ли? Ты не имеешь права так легко сдавать свои позиции! Уехать! Ты не имеешь права уезжать!
Просил, умолял:
– Пьер, сделай операцию, там посмотрим. Это не может продолжаться долго, вот увидишь…
Но Пьер был непоколебим:
– Нет, Назым. Еду. Через один день. У меня билеты в кармане. Вот.
Николь не проронила ни слова в тот вечер, лицо ее было нежным и печальным. Она время от времени приглаживала свои светленькие волосы, а они не слушались, торчали туда-сюда. Я поняла, что у нее надрывается душа.
– До скорого, – сказал Пьер, прощаясь.
– Увидимся, – обнял его ты.
– На вот, – Пьер протянул тебе пачку сигарет «Житан», – ты любишь черный табак…
Жить любовью рядом со смертью, гнать ее, гнать… И ничто не облегчит эту тяжесть. Как легко сломаться, как трудно выстоять.
Ты все-таки попытался бросить курить. Просыпался утром, судорожно выкуривал сигарету, потом сгребал все пачки и с проклятиями спускал их в мусоропровод.
– Если увидите меня опять с сигаретой, ругайте последними словами. С этим делом покончено!
Через два часа ты с грохотом переворачивал весь дом. Злился на себя, раздражался, ничего не обнаружив. И вдруг, сдернув пальто с вешалки, выскакивал за дверь, и, я уверена, не шел, а бежал на угол к табачному киоску.
Сколько раз ты, Назым, давал слово! Каждый раз нарушал. Помнишь, как я однажды потеряла тебя в квартире? Ты вдруг исчез. Я обошла комнаты, заглядывала во все углы – нет. Подумала, уж не решил ли ты подшутить надо мной. А потом увидела через стекло балконной двери, как вьется снизу дымок. Выглянула – ты сидел там на корточках и, как школьник, курил в кулак.
– Ребята, жалейте меня, не давайте мне курить, я не должен, понимаете, не должен! Гершель не врал, он слишком меня любит, – просил ты нас с Акпером.
Но что мы могли сделать, если ты вступал в сговор со всеми, кто проходил по улице, со всеми, кто оказывался у нас дома, и никто не мог тебе отказать? Ты просил так, что все считали, будто сигаретой спасают тебя от гибели.
Назым, сегодня, 1 Мая, во время трансляции праздничной демонстрации на Красной площади дикторы Центрального ТВ громко, на весь социалистический мир читали твои отвергнутые Абалкиным стихи!
Май мы прожили в ста километрах от Москвы, сняли дачу в Доме творчества композиторов. Мы уехали туда, потому что ты решил отремонтировать нашу квартиру. Пригласил мастеров, объяснил им, что и как нужно сделать, а они попросили:
– Дайте нам ключи и уезжайте на месяц. Ни о чем не беспокойтесь. Вернетесь – все будет готово и убрано. Картины и занавеси повесите сами.
Ты был потрясен их деловитостью. Купил путевки, и вот мы оказались в Рузе, в изумительных местах. Наша дачка стоит на холме, под ней вьется узкое шоссе, за ним Москва-река. Красиво, сил нет! Мы ходим гулять в лес, ты то и дело срываешь с деревьев веточки и держишь в зубах:
– Так меньше хочется курить.
Но что-то тебя беспокоит. Говоришь, гложет предчувствие, будто что-то случится. Все рвешься в Москву, выдумываешь причину.
– Поеду, посмотрю на ремонт.
Возвращаешься довольный.
– Ребята хорошо работают.
Но через день все повторяется.
– Поеду, вдруг меня кто-то ищет, вдруг какая-то телеграмма, а я тут, без телефона…
И вот однажды телеграмма действительно пришла. Она два дня ждала тебя в нашем почтовом ящике. «14 мая 1963 года в Париже умер Пьер Куртад».
– Пьер умер? Нет! Этого не может быть! Не может быть! Это уж слишком!
16 мая об этом сообщили наши центральные газеты. С газетой и телеграммой в руках ты примчался к нашему другу, московскому корреспонденту «L’Humanité» Максу Леону, который только что поселился в бывшей квартире Пьера.
– Макс, скажи, это правда?
– Да, Назым. Пьер умер в парижском госпитале спустя семь часов после операции, не приходя в сознание.
Только тогда ты понял, что Пьера больше нет, и был убит, уничтожен, раздавлен. В тот же день ты написал стихи для Пьера, и они начинались страшной пророческой строкой.
Как собственная смерть
обрушилась на меня весть
семнадцатого мая…
Москва была солнечная семнадцатого мая.
Семнадцатого мая, в пятницу.
На Красной площади голубоглазые дети
Давали клятву, вступая в пионеры.
Реактивный самолет исчертил синеву, пролетая…
Пьер Куртад с трубкой в зубах
Проходил по улице Правды
Москва была солнечная семнадцатого мая.
Семнадцатого мая, в пятницу
Я не смог прийти в дом номер 6
на бульваре Пуасоньер.
Не смог войти в холл «ЮМАНИТЕ»,
Встать у твоего изголовья,
скрестив руки
и наплакаться там вдоволь
как шестидесятилетний ребенок,
вместе с одной светловолосой женщиной.
Но Париж, как смерть, лежит на Пер-Лашез
семнадцатого мая.
17 августа 63 г. Париж
Вера моя, извини меня, если я так поздно пишу. Дальше буду по-французски, иначе очень трудно. Знаешь, я тоже все время думаю о тебе. Твое письмо очень меня взволновало, и если я сразу на него не ответила, то только потому, что хотела немножко успокоиться. Как ты? Как ты? Я бы очень хотела тебя видеть. Увы, так получается, что Москва – город, который мне ближе всего на свете. Но у меня сейчас нет сил приехать именно в Москву, потому что я окажусь там одна. Думаю, у тебя также с Парижем, хотя ты и не прожила тут с Назымом больше двух лет. И все-таки, если бы ты смогла сюда приехать, моя квартира была бы в твоем распоряжении, а твой приезд для меня стал бы огромной радостью.
Смерть Назыма, последовавшая так скоро за смертью Пьера, меня потрясла. Помнишь ли ты нашу маленькую поездку в Ленинград и эту снежную бурю, когда мы вчетвером возвращались в гостиницу из Эрмитажа? Я ужасно за них тогда боялась, впрочем, у меня всегда был страх. Мне кажется, у тебя тоже. Я до сих пор не могу окончательно поверить, что их нет. Пришли, если можно, ваши с Назымом фотографии. Не знаю, говорил ли тебе Макс Леон – я бы очень хотела получить подлинник стихотворения Назыма, посвященного Пьеру, и твой перевод… Меня бы это очень обрадовало.
Сейчас отдыхаю у друзей в деревне. После этого настанет возвращение. Надо будет снова жить, работать… Мы должны попытаться делать то, что хотели от нас они. Это трудно…
Пожалуйста, пиши мне время от времени. Я стану тебе отвечать, мы не будем так одиноки. Передай привет всем нашим друзьям. Тебя я люблю. Будь мужественной,
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































