Текст книги "Последний разговор с Назымом"
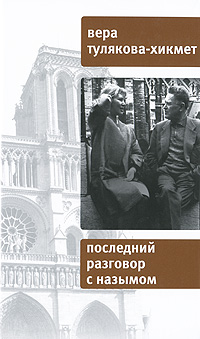
Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
Ты рассказывал, как в ноябре 1954 года по приглашению Владислава Станиславовича Андрюшкевича, главного режиссера Драматического театра, позже получившего имя Комиссаржевской, приехал в Ленинград вместе с Акпером на премьеру своей пьесы «Первый день праздника». Тогда ты еще не написал «А был ли Иван Иванович?» и оставался в большой чести у госаппаратчиков. Тебя торжественно встретили, поселили в «Европейскую». А как только чужие ушли, ты попросил Акпера позвонить Зощенко и пригласить его вечером на премьеру. Сам звонить не решился. К телефону подошел Зощенко, страшно разволновался и стал всеми силами отказываться. Конечно, он подумал, что знаменитый турок Постановления ЦК по его персональному делу не читал и не понимает, что приглашает литературного изгоя. Тогда ты взял трубку и сказал:
– Товарищ Зощенко, я все знаю. Вы не думайте. Но вы один из моих самых любимых писателей. Я приехал ради встречи с вами. И я прошу вас пойти сегодня со мной в театр. Это очень для меня важно.
И Зощенко согласился. В назначенное время он ждал вас с Акпером у подъезда своего дома. Встретились, обнялись, так и вошли в театр, где тебя в дверях поджидало с букетами все партийное руководство города Ленина.
Горько ты, Назым, вспоминал сцену, разыгравшуюся в дверях Драматического театра, и смешно показывал, как опрокинулись лица культпартработников, как все встречающие разом вспотели от напряжения и испуга, как великий жар повалил от них, как, овладев собой, они все-таки попытались оттеснить и увести Михаила Михайловича. Но ты крепко ухватил его за плечо. После третьего звонка вы прошли по опустевшему фойе к дверям переполненного зала. Ты распахнул перед Зощенко дверь и подтолкнул его вперед к зрителям, а сам задержал шаг и остался стоять за порогом. Ты увидел, как премьерная ленинградская публика вдруг напряженно замерла, оставшись как бы наедине с Зощенко, а потом взорвалась искренними восторженными аплодисментами, решив по извечной российской наивности, что он прощен и легализован. Зощенко стоял тихий, сосредоточенный, несуетный… Потом вошел ты, и овация повторилась. «Но это была рядовая овация, – говорил ты, – а аплодисменты Зощенко – это совсем другое дело!»
Ты и потом любил вспоминать эти минуты, считал их одними из самых дорогих и очень счастливых мгновений жизни.
Все на редкость хорошо складывалось в тот вечер. Спектакль удался, пьеса понравилась зрителям, артисты замечательно играли, зал часто им аплодировал и, главное, Зощенко – ты почему-то произносил его фамилию, всегда сильно напирая на оба «о» – был здесь, рядом с тобой. В антракте вы прохаживались, обнявшись, среди публики, и ты говорил Михаилу Михайловичу, как он помог своими рассказами выжить тебе в тюрьме, потому что узник, улыбающийся в лицо своим врагам, это самый непобедимый узник. Вдруг вы услышали, как мужской голос с нарочитой издевкой громко произнес:
– А это что за маленький, черненький носатый прицепился к Назыму Хикмету?!.
Закрыв глаза от волнения, ты сбивчиво говорил, как хотелось тебе крикнуть на весь театр: «Сволочи!» – и бить, бить этих хамов, когда ты обернулся и увидел двух молодых мужиков с комсомольскими значками, явно подосланных. Но ты лишь ответил провокаторам (так и сказал – «провокаторам»):
– Это мой большой друг товарищ Зощенко. Русский писатель, которого уважает и любит весь цивилизованный мир.
Когда премьерный ритуал был соблюден, ты физически ощутил, что не готов, не можешь расстаться с Зощенко. Видел, как тот от волнения еле держится на ногах, и все-таки решился:
– Товарищ Зощенко, завтра вечером я возвращаюсь в Москву. Давайте, едем сейчас ко мне в гостиницу. Если бы вы могли читать один ваш новый рассказ, я был бы самым счастливым человеком!
Зощенко сразу согласился, попросил только по дороге в «Европейскую» завернуть к его дому за рукописью. В номере было людно. Приехал режиссер Андрюшкевич с женой, актеры, переводчики. Сюда же был подан ужин. В ту ночь ты торопил всех:
– Товарищи, умоляю, ешьте скорей! У нас дело есть!
Наконец посуду вынесли. Михаила Михайловича посадили в центре в кресло, он поднял старый портфель, стоявший у ног, и вынул из него увесистую рукопись.
– Здесь неопубликованная книга рассказов. Я назову ее «Сто рассказов». Все написано после приговора. – Он так и сказал: «после приговора». – Я хочу одного, пусть мой читатель знает: я не прекращал работать. Другое дело, что обстоятельства для писателя моего профиля сложились неподходящие. Ну, так не мы их, они нас выбрали…
И он начал премьеру книги «Сто рассказов», книги, которая в задуманном виде никогда не осуществится. И тут ты, Назым, впервые толком рассмотрел Михаила Михайловича. Поразили глаза, худоба, прозрачность, подавляемая нервность рук, истощение, явный предел физических сил… Ты говорил, какую боль испытал за этого гордого человека. Ведь тебе Акпер только что сказал, как Зощенко, доведенный преследователями от литературы и власти до полной нищеты, недавно ходил наниматься лаборантом мыть пробирки в какой-то научный институт.
Много лет спустя Акпер покажет мне пачку почтовых квитанций денежных переводов, которые он по твоему поручению анонимно посылал несколько лет в Ленинград…
Поначалу Зощенко после каждого прочитанного рассказа порывался уйти, ссылаясь на ночь. Потом забыл о времени, скинул напряжение, читал артистично, вдохновенно, на глазах становился красивым, привлекательным человеком. Зощенко читал всю ночь. В тонких пальцах хрустальный бокал. Время от времени он подносил бокал к лицу, вдыхал запах хорошего вина и опускал бокал, так и не отхлебнув. Он был очень серьезен.
В полном восхищении от прочитанного ты вскричал:
– Товарищ Зощенко, брат! Дайте мне вашу книгу, я ее сейчас же напечатаю!
И взял рукопись.
Зощенко помолчал, потом негромко спросил:
– А каким образом вы, Назым, собираетесь это сделать?
– О, не беспокойтесь, брат! У меня есть друг в Москве. Он сейчас же ее напечатает!
– Кто он? – настаивал Зощенко.
– Симонов! У него замечательный журнал, вы знаете…
– Симонов? Ну уж нет, – твердо сказал Зощенко и вернул рукопись назад. – Ваш друг приезжал в Ленинград принародно стыдить меня за мои книги. А вскоре встретил меня в окружении молодых столичных литераторов и как ни в чем не бывало: «О! Михал Михалыч! Что вы тут? Идемте ко мне!» – и руку мне на спину. Я руку стряхнул. Тяжелая рука.
И без паузы попросил тебя почитать стихи на турецком языке.
Ты говорил, что начал читать и вдруг совершенно внезапно рассказал Зощенко одну историю, которую тогда обдумывал. Ее действие происходит в маленьком провинциальном городишке, где жил один простой хороший человек. Его все знали с пеленок, уважали все старушки, всем им он помогал, дрова, воду подносил – и вдруг его выдвинули на повышение. Однажды к нему в кабинет на прием пришел человек и сказал, что он здесь работает завхозом и пора, мол, сменить обстановку. Молодой начальник не возразил. Но после перемены мебели озадачился: «Хорошо ты сделал, друг, но зачем такие шикарные вещи? Мне они вовсе ни к чему». А тот ему уж бронзовый письменный прибор с царскими гербами тащит. А вскоре говорит, что настоящему начальнику полагается повесить над столом его собственный портрет. «Нет, этого не хочу!» – отбрыкивается бывший рабочий. А уж портрет нарисован, и на стене! Потом завхоз говорит: «Слушай, невозможно! Твоя жена в очереди стоит со всеми и покупает то, что берут все. Теперь тебе это не годится, это работает против твоего авторитета. Надо сделать ей отдельный вход в магазин». И как-то само собой получилось, что жена бывшего рабочего привыкла ходить с другого хода за покупками, и жить эти люди стали не как все в городе. А завхоз все не унимается: «Нехорошо, – говорит, – ты здороваешься со всеми подряд. С дворником вот сегодня за руку поздоровался. Зачем? Это неуважение к себе». Так у героя пляж отдельный появился, чтобы народ его голым не видел. И постепенно это все ему начинает нравиться. Он привыкает к своей исключительности. Уже на машине с ветерком ездит. Уже доступ к нему закрыт… И в конце концов, когда он понял однажды, куда его занесло, то спросил себя: как он дошел до жизни такой? Да и был ли этот чертов завхоз на самом деле? Был ли Иван Иванович? Так впервые ты рассказал замысел своей будущей знаменитой пьесы-сатиры «А был ли Иван Иванович?»
Вы с Зощенко расстались под утро. Прощаясь, ты попросил Михаила Михайловича о встрече днем наедине. Договорились в два часа отобедать здесь же, в ресторане «Европейской». Сначала говорили о новых рассказах, честно, как писатели. «А потом, – вспоминал ты, – я его спросил:
– Брат Зощенко, вы для меня один из самых любимых писателей, большой гуманист, как Гоголь, например, или Достоевский. Зачем вы участвовали в этой позорной книге «Канал имени Сталина»? У нее даже обложка напоминает мне сталь от наручников.
– Как? – сильно удивился он. – Меня о сотрудничестве попросил сам Алексей Максимович! А Горькому я добром обязан. И писал я рассказ искренне, честно. А вы полагаете, что “История одной перековки” не вышла?»
Но ты считал, что рассказ, опубликованный в лживой книге, не мог выйти, и удивлялся, как Михаил Михайлович всю эту эпопею с каторжным Беломорканалом не проклял. Зощенко не согласился, пытался объяснить тебе, какое доверие в то время вызывало стремление перековать старую жизнь. Какая сладкая была та вера… Он рассказал, как Горький, вернувшийся с Соловков, отобрал четыре десятка известных писателей для коллективной поездки на строительство Беломорканала. Каждый должен был написать очерк или рассказ о пользе трудового перевоспитания. А Горький осуществит общую редакцию. Под это правительство снарядило огромный пароход, который должен был уходить в плавание из Ленинграда. Зощенко говорил, как в назначенное утро все писатели съехались на поездах в Ленинград, где им была на день отдана вот эта самая «Европейская»; как тут, в ресторане, столы ломились от дармовых закусок, обедов и питья, и все собравшиеся пировали перед отъездом к зэкам с большим вкусом… Он рассказал Назыму, как ему было невыносимо на пароходе, потому что всюду на лесистых берегах их ждали сотни, тысячи подконвойных зэков в новеньких спецовках, и все они страшно, раскатисто, призывно кричали: «Зощенко! Зощенко! Зощенко!» Известность обернулась наказанием. Он говорил, как боялся этих одинаково воспаленных глаз, но еще больше боялся взглядов своих братьев-писателей…
– Товарищ Зощенко, – спросил ты, – вы так любите Горького, я тоже его уважаю. Но скажите мне, бывшему заключенному турецкой тюрьмы, как могло получиться, что такой мудрый писатель из пролетариев приехал в одну из самых страшных тюрем и ничего не понял, стал восхвалять советский тюремный рай?
– Да он решительно все понял. Все знал и, уверен, ужаснулся. Я прежде тоже верил, что его надули, а несколько недель назад встретил бывшего узника Соловков, он при Горьком там находился. Вот он много чего помнит, но одна история с участием Горького очень тяжелая… На Соловках наряду со взрослыми находились дети, дети каэров – контрреволюционеров. Для них была организована специальная колония. Однажды нескольких заключенных с острова послали на соловецком баркасе в близлежащий город Кемь за мукой. Среди взрослых был и один паренек. Послали их голыми, чтобы не сбежали. В Кеми, где они должны были грузить на судно муку, им выдали по пустому мучному мешку с тремя дырками для головы и рук. Из разговоров охраны мальчишка понял, что на их судне на Соловки поплывет сам Максим Горький. Значит, все теперь переменится! Горький их защитит!.. Но их загнали в трюм и предупредили: если кто пикнет – головой в воду, а там, они знали, больше трех минут не продержаться. На Соловках Горького окружили двумя-тремя десятками интеллигентных стукачей, других научили, что говорить, и пошла грубая показуха с цветочками на столах… А когда он уезжал, соловецкая власть устроила торжественные проводы. Горький тоже сказал речь, сказал, что живут заключенные здесь хорошо. Тогда мальчик, тот самый мальчик, что сидел в трюме голый, прорвался к нему и крикнул: «Алексей Максимович! Не верьте. Вам всё врут!» Горький потребовал комнату и попросил оставить их вдвоем. Два часа мальчишка рассказывал ему о соловецких пытках, о двадцатичасовом рабочем дне, о том, как заставляют людей трудиться в ледяной воде… Горький плакал, ужасался и, взяв обещание с соловецкого начальства мальчика не трогать, весь в слезах уехал. Недалеко отплыл старый баркас с пролетарским писателем, когда мальчишку расстреляли перед строем. Горький узнал об этом, но сделать ничего не мог. Он уже был сломлен.
На сем и закончился ваш обед с Зощенко.
Помнишь, как спустя много лет, в начале шестидесятых мы с тобой, Назым, пили чай в богатом доме вдовы Алексея Толстого Людмилы Ильиничны. Приглашена кроме нас была лишь единственная гостья, Екатерина Павловна Пешкова, первая жена Алексея Максимовича. Эта тихая, сдержанная старушка в разговоре особого участия не принимала, да и разговора-то не выходило. Ситуация становилась критической. Напор светских фраз Людмилы Ильиничны только усугублял пустоту, и вдруг ты ни с того ни с сего, словно в продолжение давно идущего внутри спора, спросил Екатерину Павловну:
– А как мог ваш муж бросить этого ребенка?
– Какой муж? Какой ребенок?! – опешила старая женщина. Ты, волнуясь и путая русские слова, пересказал услышанную от Зощенко историю о расстрелянном мальчике. Екатерина Павловна долго не отвечала. А потом глухо так сказала:
– Не судите, да не судимы будете. Уже все было нельзя. – И после паузы: – Нашего сына мы потеряли на той же дороге… – Вдруг вся собравшись в пружину, Назыму в упор: – А вам не приходилось видеть глаза Алексея Максимовича на последних фотографиях? Вы посмотрите, посмотрите, а еще лучше хроникальные кадры, где он на московском вокзале провожает Ромена Роллана. Нет, он ничего не мог изменить…
Вечером, едва я пришла домой после этого долгого разговора с тобой, ты позвонил и безо всякой подготовки попросил послушать несколько фраз. Ты читал медленно, как завещание:
– Я хочу жить в такой стране, где двери не будут закрываться на замки и где будут позабыты печальные слова: грабеж, вор, убийство.
Я ничего не поняла. Ты повторил фразу.
– Ну как же? – ты стал нервничать. – Этими принципиальными словами закончил Зощенко свой рассказ «История одной перековки», написанный по заказу Горького. Как я мог их пропустить?! А они заметили. И долго помнили! До самого сорок шестого года! Помнят и сейчас…
Я умру, ты прости меня, умру,
и, разбив красный шарик, ты выйдешь оттуда
и опустишься на морозную площадь…
<… >
с новогодней сверкающей елки…
Ты прав, Назым, тысячу раз прав. Который месяц я сижу, заключенная тобой в нашу одиночку? Я слабею. Это все, что могу тебе сказать. В мое одиночество то и дело врываются люди. Но все они как чужестранцы. Говорят на незнакомом мне языке. Слова летают между нами, как шарики пинг-понга: скок-скок-скок…
В нашем доме собираются часто наши друзья. Никто не ушел. Знаю, что приходят коротать со мной вечера, говорить о тебе. Только все они немножко другие, словно горят вполнакала.
Вчера Володя Бурич рассказал анекдот. Все смеялись. Я тоже слышала свой смех. Потом он сказал:
– Жаль, что Назым не слышал. Ему бы понравилось. А было это на кладбище у твоей могилы.
Я уже вошла в этот мир отвлеченных понятий и обманчивой тишины. Иногда вы все так кричите, так воете, что поднимается ветер, ломает ветки деревьев, и перепуганные птицы начинают кружить с открытыми клювами.
Понимаешь, я такая несильная, что ничто мне не страшно, не боязно. Ничто не ранит: ни угроза, ни чье-то нетерпеливое желание, ни сплетня. Я неуязвима, Назым, потому что я отсутствую.
Да, душа моя растет, летает. Я увлечена тобой, Назым. Между нами пролегла прямая линия, «воздушные пути», как сказал бы твой дачный сосед Пастернак. Но… вижу, тебе все труднее существовать в пространстве без моего голоса. И я вдруг с тревогой задумываюсь о последствиях. Потому что мой социум – муж, ребенок, семья – определен и незыблем. Я наслаждаюсь общением с тобой по телефону, встречаюсь на студии, приезжаю с деловым визитом в Переделкино, но… Слово «нельзя» мною усвоено с детства. Я – продукт регламентированной жизни без свободы маневрировать в ней. Ведь существует «НЕЛЬЗЯ» – и все! Хоть умри! А ты, вольный орел, наверняка забыл, что свобода у нас всегда оборачивается бедой.
Помнишь, ты все удивлялся, Назым, как русские слова «беда» и «победа» похожи…
Короче говоря, однажды я с ужасом понимаю: все таинственное, что происходит между нами, – неправильно. Неправильно, Назым!
Видимо, в этот момент я и перестала быть молодой.
Мне недавно твои славные девчонки, твои просвещенные поклонницы признались, что я никогда не была молодая рядом с тобой. Говорят, «у вас, Вера, глаза были на веселом лице напряженные, трагические».
Я решила, Назым, наконец исправить ложь Валентины Брумберг, которой искренне подыгрывала столько времени моя студия, и сказать тебе, что я замужем. Дождалась твоего возвращения из очередной заграничной поездки, позвонила и попросила разрешения приехать к тебе в гости с мужем.
Господи, как долго ты молчал. Как долго…
– Вы вышли замуж?
– Да, Назым.
– Вы счастливы?
– Конечно.
– Сколько ему лет?
– На год старше меня.
– Чем он занимается?
– Тем же, чем и я, только на другой киностудии.
– У вас теперь другая фамилия?
– Нет. Фамилия девичья.
– Девичья…
У меня нет памяти на числа, на даты, каждый раз с трудом соображаю, сколько мне лет. Но, кажется, мы все-таки приехали к тебе осенью 1957 года. Или весной… Я сейчас вспомнила, в чем была одета.
Я приехала, наивно полагая, что ситуация еще управляема. Что ты все поймешь и, конечно, одолеешь свою болезнь. Ведь ты такой сильный, такой мужественный, всю жизнь борешься, борешься…
Прости меня, Назым, я не могла предположить – откуда мне? – что чувства сильнее обстоятельств, разума, всего на свете, особенно – твои. Горе нам, горе. Я и думать не могла, какую страшную боль причиняю тебе запоздалым признанием, а факт моей биографии не только ничего не остановит, а, напротив, подхлестнет. Он вызовет в тебе отчаянное желание доказать, что ты молод, что имеешь право на любовь, на счастье, на полное равенство со мной. Ничего этого я знать не знала, когда ехала к тебе на дачу в Переделкино с мужем. Мы поженились в институте после 2-го курса, пять лет назад, у нас была хорошая семья. И все вообще великолепно. Но ложь милой Валентины Брумберг, показавшаяся мне поначалу невинной шуткой, стала в конце концов отвратительной, а признание постыдным.
Злясь на себя, я думала, а почему «Ему» в голову не приходило спросить меня о моей жизни?! Не помню, как я объяснила мужу эту нелепость. Я видела, что вся эта история ему показалась идиотской и восторга не вызвала, но он, не углубляясь в детали, очевидно, не придавая особого значения происходящему, сделал для меня то, что я просила.
Мы приехали. Ты хорошо нас встретил. Был излишне возбужденным и, против обычного, быстрым, как ртуть, беспрерывно что-то рассказывал, шутил, смеялся, никому не давал вставить слово. Ты говорил один, перескакивая с темы на тему. Мы слушали тебя, как всегда, открыв рот. Ты пытливо на меня посматривал, спрашивал одними глазами: «Ну, довольна?» – и как-то лукаво при этом улыбался.
Врачиха ахала:
– Ой, Назым, как она изменилась! Была такая девочка, а сейчас просто дама.
Среди обывателей существует мнение, будто девушка, выйдя замуж, тотчас меняется. Мне было смешно и противно слушать эти бредни, но я молча получала по заслугам. Мы сидели наверху, в твоей диваннной комнате, где по стенам стояли разноцветные диваны: красные, желтые, зеленые, сиреневые. Над моей головой болтаются узорчатые варежки и носки ручной работы, замечаю новые вышивки. Всё пестрое, нарядное. На твоем громадном некрашеном столе появилась голова негра из черного дерева. Удивительная голова. Потом ты очень жалел, что не взял ее с дачи. Ты стоял и гладил полированную голову негра. Я заметила, как дрожали твои руки. На какое-то мгновенье ты забыл, что мы все здесь. Ты стоял и гладил голову негра. Мне стало невыносимо больно, оттого что мучаю тебя. Захотелось прекратить все это, но я не знала как. Я подошла к тебе и сказала, что нам пора ехать. Ты посмотрел на меня внимательно-внимательно, и в твоих глазах я прочла не упрек, нет, а скорее горечь, разочарование…
Лицо твое, обычно бледное, стало красным, и глаза потемнели. И все-таки, даже видя твои муки, я не чувствовала себя преступницей.
Вот, сейчас рассказала тебе, как все было, словно гору свалила с плеч.
Что же во мне такое было, а, Назым? Почему люди всю жизнь относятся ко мне по-человечески, с добром, нежно даже? Знаю, что у меня рука «легкая»: толкну человека, когда у него что-то в судьбе решается, пожелаю удачи – обязательно сбудется. Да и сама я, как у нас говорят, везучая… Вот и тебя встретила… Я ищу ответы в твоих стихах, но по-русски они звучат иногда маловразумительно:
Никто не может сделать твой портрет.
То, что от горизонта веет,
то, что от берега уходит…
Пускай тебя не ищут в карусели красок.
На солнечных террасах виноградников
у деревянного забора
климаты стоят.
Грусть самой дальней из планет.
И пусть тебя не ищут в рифмах
тени-света.
Ты вне игры объемов и плоскостей.
Однажды чья-то радость
где-то
фонтаном вдруг забьет.
Никто не может сделать твой портрет.
То, что от горизонта веет,
то, что от берега уходит.
Серебряная рыба в море
на миг мелькнет.
Напрасно к зеркалу протягиваешь руки,
стараешься войти в его глубины…
Ночами в женские бараки
приходят без вести пропавшие мужчины.
Дверь сердца твоего то открывается,
то закрывается.
Серебряная рыба в море
вдруг появляется,
и снова нет.
Я нарисую твой портрет.
Знаешь, как бы ни было тяжело и больно, я всегда искала в жизни счастливые глаза, умную книгу, красивую вещь, доброе слово, просто радовалась солнцу. И я частенько находила опору, то, что вселяло в меня надежду, давало мне силы улыбаться, помогало смеяться днем, а плакать по ночам. И вот теперь пришло горе.
Я не узнаю′ своего лица. Сколько месяцев прошло, как мы расстались? Не один и не два, а я все не могу найти свою улыбку, живу стиснув зубы. Жалко будет, если ожесточится мой характер. Я без улыбки – будто не я. Мне и не выжить без нее. Лицо мое, как мокрый осенний день, – разве это хорошо? Неужели ты хочешь, чтобы оно стало похоже на старую деревянную ложку, Назым?
Но я не теряю надежды: моя улыбка ко мне еще вернется. Вместе с письмами и газетами я вытащу ее однажды из нашего почтового ящика и, улыбаясь, прочту эти письма и эти газеты… Моя улыбка нужна и тебе. Как иначе я расскажу о нас? Разве получится правдивый рассказ? Ты сам – моя половина, путешествовавшая ко мне с другого края света целых пятьдесят лет, ты сам не существуешь без моей улыбки, так верни мне ее, Назым!
Перед уходом ты затащил нас на кухню.
– Давайте пьем немножко за молодых. Ведь так у вас полагается?
В женских руках сверкнули ключи, дверцы буфета открылись, и в маленьких рюмках появился коньяк. Я помню и сейчас выражение твоего лица: ты говорил, смеялся и отсутствовал в одно и то же время.
Я сижу как на иголках. По рукам твоим разливаются муаровые красные круги. Не отхлебнув, ставишь на стол наперсток коньяку. А я замечаю не это, я распыляюсь на мелкое. Все в доме твоем меня начинает раздражать. В моих ушах не хрустальный звон рюмок, а лязганье ключей: тут все на замках…
Однажды я спросила твою врачиху, почему она так не доверяет людям? Почему все запирает? И она ответила:
– Ты знаешь, во время войны меня обокрали. Я приехала из армии в Москву, я служила солдатом, и у меня утащили вещи. С тех пор я всех боюсь.
В войну, когда каждая семья теряла близких, единственных, любимых, когда страна истекала кровью, когда рушились города и надвигался фашизм, – ее на всю жизнь сразила кража… Мы ехали в машине и слушали заключительный аккорд исповеди. Все говорилось подчеркнуто громко. Ты, Назым, сидел рядом с шофером и, безусловно, все слышал, но не повернулся, не произнес ни слова. Твой затылок ничего не выражал. Почему? Потом я много раз видела, как молчание ты выбираешь своей тактикой по отношению к непробиваемым, ничтожным людям, патологически неспособным что-либо понять. А мне хотелось выскочить из машины и подержать ладони на снегу. Снег был белый. Он лежал повсюду. И мне было приятно, что он чистый, что его много.
Почему ты тогда молчал? Почему? Разве ты не знал, что такое война? В своей турецкой тюрьме, очень страшной, как все тюрьмы на свете, ты слушал о войне по радио. Как выяснилось теперь, твоя жизнь тоже зависела от нашей победы. И все-таки, может быть, ты не знал, что такое война? Ты не пережил той длинной, как километры, секунды, когда слова матери больно врезаются в уши колокольным гулом: «Твой отец погиб смертью храбрых…» Погиб… смертью… храбрых… Нечеловеческие эти слова вонзаются в тебя горячими, длинными иглами и прошивают тебя, простегивают, запечатывают бессильную, маленькую. И почему-то слово «храбрых» становится самым тяжелым, оно вытесняет из сознания на время весь остальной смысл, полощется перед твоими глазами, как кровавое знамя, застилая все вокруг. Твой отец герой, и он погиб – это несовместимо, этого нельзя понять, особенно если тебе одиннадцать лет, если за окном спокойно опускается снег, если ты никогда не смотрела в лицо мертвецу.
Снег был белый. Он лежал повсюду. «Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится…» – смиряла я себя стихами из довоенного букваря, когда мы возвращались из Переделкино в Москву в двухцветной вишневой «Волге» Назыма Хикмета.
Обидное говорю тебе, Назым. Знаю. Но ведь было и обидное, правда? Мы – люди, и ты был человеком. И, слава Богу. Я не хочу отдать забвению ничего, даже того, что меня мучило в тебе, злило. «Я тот, кто есть», – повторял ты вслед за Бетховеном его любимое изречение Брута. Вот и мне нужен ты, а не идеальный вдовий вариант. Да и в слове «вдова» есть что-то кликушеское, жалостливое. Пожалуй, я останусь твоей женой, Назым.
Со следующего дня ты перешел в атаку, тобой овладело чувство соперничества. Ты решил доказать мне, что молод, и стал создавать вокруг меня свое подконтрольное поле, не давая возможности мне не то чтобы забыть, а хотя бы на минуту отключиться от мысли о тебе.
Ты звонил десятки раз в день, находил меня везде и всюду. Ты ничего не хотел принимать во внимание – ни мою работу, ни мою семью, ни неловкость, которую я испытывала от твоего непомерного внимания. Ты думал только о себе, а мне звонил, звонил не переставая. Я не могла отлучиться ни на минуту из сценарного отдела – тотчас объявлялся розыск по всем четырем этажам студии, ведь «на проводе» был Назым Хикмет!
Ты привозил или присылал с шофером громадные торты и наборы шоколадных конфет, цветы, духи, и бог знает что еще ты выдумывал, чтобы окончательно покорить меня, влюбить, свести с ума. Теперь ты знал, что я женщина, и твои ухаживания сильно напоминали натиск предприимчивых героев из романов Дюма.
Ты требовал подробного отчета о каждом моем шаге, ты хотел знать, во что я одета, как причесана, кто сидит рядом, что собираюсь делать через час. Ты звонил мне после работы домой ровно через двадцать пять минут после ухода со студии, подсчитав с точностью секундомера время, затрачиваемое на дорогу. А если меня не оказывалось дома, ты начинал бесцеремонно обсуждать с соседями причины моего опоздания.
Однажды я вошла после работы в свою коммуналку с тяжеленными сумками, и молодая соседка сказала мне, смеясь от удовольствия:
– Только что звонил Назым и просил передать тебе, что ты шлюха.
Это было слишком! Я догадалась, что ты не знал бранного смысла этого слова, которое произвел самостоятельно от безобидного глагола «шляться».
Пожалуй, это была твоя единственная грубость за все наши годы.
Ты так страдал, так волновался, когда я задерживалась, что мои соседи искренне тебя жалели, и, стоило мне переступить порог квартиры, как все наперебой набрасывались на меня с упреками и заставляли тебе звонить. Ты был таким незащищенным в своей любви, что поневоле все тебе сочувствовали и помогали.
Моих соседей ты тоже окружал непривычным для них вниманием. Очень скоро они стали твоими добрыми друзьями и союзниками. И дело вовсе не в обаянии и славе. Многим казалось, что дни Назыма сочтены. В нашем дворе не было ни одного старика, который бы ходил с такой опаской: четыре коротеньких шага и пять минут передышки… «Не ходи, а то умрешь!» – долго стояло в ушах не только у него, но и у всех, кто бывал на даче. А ведь тебе было в то лето всего пятьдесят пять! Да, ты перенес пять лет назад инфаркт, но вокруг нас было трудно найти режиссера или писателя без инфаркта, а то и без двух. Все они жили как нормальные люди. Правда, у них не было врачей на зарплате, и никто им не внушал страшных мыслей. Ведь здоровому человеку врач не нужен. Но ты боролся и, шаг за шагом, становился сильнее.
Вскоре ты уже не мог прожить и двух дней, не заглянув на студию. Ты преображался и молодел на глазах у всех. Приходил красивый, веселый, сильный, элегантно и тщательно одетый. Ты больше ничего не скрывал, а весь светился и был распахнут настежь, как огромный обжитой дом. Ты излучал кипучую энергию, тебя переполняли замыслы, желания, ты заражал всех своими пристрастиями, интересами, и постепенно все вокруг стали твоими братьями, все – кому было двадцать и кому шестьдесят. Я, как все, быстро привыкла к твоей доброте и вниманию. Если ты не звонил с утра, у меня все валилось из рук. Мне не хватало твоего голоса, становилось тревожно, тоскливо. Постепенно ты стал мне необходим.
И все-таки, во всех этих тортах и шоколаде, покупавшихся с расчетом на большой коллектив, было что-то досадное, что-то барское. Ну кто мог себе позволить в то время нечто подобное? В пятидесятые годы люди жили скромно, чтобы не сказать бедно. И однажды я тебя попросила:
– Пожалуйста, не надо. Вы ведете себя, как купчишка. Ты огорчился:
– Но, милая, почему вы лишаете меня радости сделать что-то приятное для себя?
– Для себя? – переспросила я, думая, что ты оговорился.
– Как вы не понимаете, все, что вас коробит, я делаю для себя. ДЛЯ СЕБЯ! МНЕ приятно вам дарить. И когда я ищу для вас цветы, я получаю удовольствие. А вы можете их выбросить – это не важно. Но разве так страшно или позорно, если один человек хочет для другого что-то очень маленькое сделать?
Добрая, славная Раиса, присутствовавшая при этом разговоре, как всегда, пожалела тебя:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































