Текст книги "Последний разговор с Назымом"
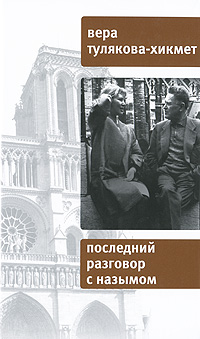
Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
– Потом, потом…
Дома, когда мы остались одни, ты рассказал мне вот что.
– Меня все мучил вопрос – как погиб Мейерхольд? Это стало навязчивой идеей. Ты же знаешь, по Москве ходят три версии: его расстреляли в тюрьме; нарочно придавили деревом на лесоповале; засунули в кипящий котел с супом на тюремной кухне, где он работал. Оказалось, две последние версии неверны. Рудницкий располагал совершенно секретной пока датой расстрела Мейерхольда в тюрьме, но места его захоронения не знал. И вот Рудницкому понадобилось похоронить кого-то из близких на Ваганьковском кладбище, а дело это почти нереальное. Ваганьково густо заселено покойниками, там ноги поставить некуда, и каждый клочок земли стоит астрономических денег. Рудницкий начал хлопоты и стал проводить на кладбище кучу времени. Его поразил тот отпечаток, который наложило на ваганьковских служителей пребывание на стыке жизни и смерти. Оказалось, что для них эта загробная жизнь так же реальна, как и земная! Рудницкий познакомился с одним из кладбищенских работяг, многие годы промышлявшим рытьем могил. И этот хваткий, совершенно сумасшедший дядька, с которым Рудницкий нашел общий язык и много, с интересом общался, однажды привел его на единственную свободную полосу земли перед храмом и сказал, что ни один могильщик, который в принципе и родную мать может продать не моргнув глазом, ни за какие блага не станет никого хоронить на этой полосе. Сказал, что там во времена, приходящиеся на дату расстрела Мейерхольда, был ров с негашеной известью, куда сбрасывали привезенные ночью тела расстрелянных и засыпали землей. Могильщик этот был свидетелем тех страшных ночей и сам хоронил мертвых именно из той тюрьмы, где в феврале 1939 года (в действительности в феврале 1940 г. – А. С.) был, по сведениям Рудницкого, приговорен к высшей мере великий режиссер. Могильщик говорил, что это место для служителей запретное – там мученики лежат, и за их невинную гибель будет месть живущим от того мира. И за то, что известью их выжигали, тоже добавится… Я спросил Рудницкого, можно ли верить этому рассказу? Понимал ли он сам, что происходило в то время? И он ответил, что сложно было понять все под давлением тоталитарной пропаганды, которая разрушала мозг. Даже сомнения люди старались отгонять ради главной веры. Отец Рудницкого был директором какого-то завода, к искусству отношения не имел. Его еще до войны в тридцатые годы посадили и расстреляли. Потом посадили мать. А он, молодой человек, пошел воевать на фронт. Гнало его чувство вины, которое почему-то было, хотя в виновность родителей не верил. Свое личное ощущение времен войны Рудницкий вспоминал светло. Его все любили, еврейства никто не замечал, и ему было хорошо на фронте. Потом Рудницкий заговорил про Пастернака. «У меня до такой степени были сформированы мозги, что я рвался, даже хотел выступать в ЦДЛ, где происходило то историческое заседание! Но Таня (Т. И. Бачелис. – А. С.), жена, на мне повисла. Таня всегда была более мудрой. И Таня сказала: «Если ты туда пойдешь, то я от тебя ухожу». И Рудницкий не пошел только под угрозой развода. То, что сделала для него жена, какое благо она сотворила, он понял уже на следующий день, когда встретил на улице, кажется, Леонова. Покашливая, с ернической улыбкой, тот сказал: «Я очень вчера заболел, никак не мог пойти». И по этой ернической интонации Рудницкий понял все. Он сказал мне: «Мы старались быть бронированными. Эту цельность мы в себе культивировали». Говорил, что не фигура Сталина его вдохновляла – образ страны, подкрепленный фронтом, войной вызывал желание чем-то для нее жертвовать. Рудницкий говорил об этих вещах, как об источнике слепоты. А в Советском Союзе эту слепоту объявили патриотизмом!
Ты налил две рюмки конька и, протягивая мне одну, сказал:
– Давай выпьем за Мейерхольда и за всех, кто лежит с ним рядом в этой яме. Весь вопрос заключается только в одном – как жить после кремлевских тайн.
А знаешь, как ты умер, Назым? Ты всегда хотел это знать. Теперь я могу рассказать тебе, как это случилось.
Накануне, в воскресенье я встала первой, принесла тебе маленькую чашку турецкого кофе и что-то к нему. Ты выпил и продолжал лежать в окружении газет. Я пошла в кабинет и в страшной спешке села работать. В двенадцать часов я обещала принести в Центральный Детский театр пьесу «Журавли», которую заказали тебе, а ты перекинул работу мне, и вот я не успевала к назначенному сроку. Пьеса рассказывала о трагедии Хиросимы, о коротенькой жизни маленьких героев, превратившихся в горстку пепла, и о бумажных журавликах, которые теперь делают дети Хиросимы, – по преданию тысяча журавликов, сделанных детскими руками, способна воскресить хорошего человека. Я все читала и перечитывала твои стихи о маленькой японской девочке. По твоему совету включила их в пьесу. Они как будто специально были написаны для нее.
На моих коленях лежит венок из тысячи разноцветных бумажных журавликов, искусно созданных маленькими желтыми ручками. И письмо:
Незабвенный Назым Хикмет!
Пожалуйста, просим Вас, примите подарок от девочек Хиросимы. Мы с благодарностью и уважением склоняем головы перед Вашей памятью и возлагаем перед Вашим прахом тысячу сделанных нами журавликов, тысячу птиц, несущих по свету волю к вечному миру.
Дорогому Назыму Хикмету, семье и близким друзьям покойного от школьников Хиросимы, продолжающих бороться за мир; от Хиросимского общества бумажных журавликов.
23 июня 1963 г.
Прости меня, Назым, я уже не верю в чудо воскрешения, точно так же, как я не верю и в твою смерть.
Ты позвал меня и попросил:
– Если можно, работай, пожалуйста, здесь, чтобы я мог тебя видеть. Извини, что лежу, ты знаешь, я не смог заснуть сегодня…
Я взяла рукопись и пришла. Вскоре ты встал, умылся и сел со мной рядом. Некоторое время смотрел, как я ищу твои стихи в сборнике, сам помог мне выбрать нужные строчки, потом вдруг закрыл ладонями лист, на котором я писала, и сказал:
– Давай поговорим немножко.
Ты говорил час, а может быть, два. За эти два часа перед моими глазами прошла вся твоя жизнь – не отрывками, как прежде, не кусками, а вся единым духом. Ты вспомнил маму. Это было необычно. Ты ведь старался не говорить о ней. Ты по-прежнему невыносимо страдал оттого, что ее нет в живых, и всякое упоминание о ней резало тебя как ножом по сердцу. Ты просил меня под любым предлогом прекращать расспросы о ней. Но теперь ты рассказал мне, почему она рассталась с твоим отцом, человеком, которого безумно любила и вдруг однажды сама попросила уйти.
– Мама ревновала его так отчаянно, что ее страдания могла облегчить только разлука, хотя и отец любил ее. Ты видишь, какие у меня гены в крови. Родители развелись и остались на всю жизнь друзьями.
И ты рассказывал, как иногда отец приходил к маме в гости, как они немного грустно, немного нежно говорили о жизни, которая как будто свернула от них в сторону и текла где-то рядом за их спинами, и они никак не могли обернуться и найти ее русло… Ты стал говорить об отце, о его второй семье, о его жене, простой женщине, так отличающейся от твоей мамы. Об их детях, о сводной сестре. Рассказал, как однажды, когда тебя посадили, полиция схватила и зверски избила твоего отца – требовали от него улик против тебя. Он ничего не сказал. Да и что он мог знать, ты ведь жил с мамой, с ним виделся редко. Но отец ничего не сказал им не из сочувствия к твоей деятельности – ей он не сочувствовал. Он вообще не мог понять, почему его сын, который может жить как обеспеченный и всеми уважаемый поэт, нарочно старается попасть за решетку, то есть жить хуже, чем собака. Он не сказал ни слова от злости, от презрения к тем, кто его избивал. Потом, когда отец встретился с тобой, признался: «Я не понимаю, чего ты ищешь, сынок, ты ведь не нищий и не простолюдин, чтобы переделывать мир. Оставь это занятие беднякам, их жизнь на воле немногим лучше, чем в тюрьме. И все-таки есть в тебе что-то, что заставляет их бояться тебя, ненавидеть и уважать. Они ведь тебя ни разу не посмели и пальцем тронуть. Знаю, правда, что в самом начале тебя бросили в трюм корабля, закачали туда стоки канализации, чтобы дерьмо было тебе по колено, и держали там несколько суток. Но не били. А руки у них чесались, раз они избили меня. Что же это в тебе такое, сынок?»
– Я не мог ничего объяснить ему, конечно. Я смотрел на его голову, она вдруг за несколько месяцев стала совсем голой, как коленка. Мне было так жалко его, так жалко, ты не можешь себе представить. Больше мы не виделись. Потом он умер. А мама до конца дней своих писала картины, очень яркие, потому что она уже плохо видела и нарочно выбирала самые контрастные цвета. Мама была немножко странной в конце жизни, почему-то любила писать портреты красивых юношей. Она совсем не могла видеть некрасивые лица и всегда удивлялась, что мои женщины были некрасивые. По-моему, она не любила их только за это. Говорила: «Как ты можешь, Назым? Ты же поэт! Как ты можешь каждый день видеть перед своим носом некрасивое лицо?» А я ей старался объяснить, что не могу жениться на красивой женщине, боюсь, просто пропаду. Буду ревновать, как черт! Я ей говорил: «Ты же узнала ревность, ты же сама не выдержала и прогнала отца, разве он был самым неверным мужем?» – «Я обыкновенная женщина, но все равно не понимаю, как ты можешь… Лучше ревность… Лучше мучения. Ты же поэт, Назым, тебе полагается мучиться, чтобы писать стихи, так уж пусть эти муки будут от любви»… Ах если бы мама знала, что я испытал в конце своей жизни! Самую сложную ревность на свете, ревность к будущему моей любимой без меня. Я ненавижу всех этих мужиков, которые могут прийти в твою жизнь после меня. Ведь они где-то ходят в этом городе, мы, может быть, уже встречались… Ненавижу их, а иногда и жалею. Хочется им помочь, дать советы, как с тобой управляться. Я хотел бы написать смешное письмо в стихах, там рассказать, что должен делать человек, чтобы ты его любила, и чего не должен делать, чтобы не надоесть тебе. Эти влюбленные мужики такие всегда дурачества сделают! Я думаю, мама полюбила бы тебя. Она бы радовалась за меня, что наконец у меня обнаружились глаза.
Вспомнил Пирайе. Ты всегда говорил о ней так, как говорят о родном и хорошем человеке.
– Она единственная женщина, перед которой я виноват. Она незлопамятная, знаю, но я хотел бы ей об этом сказать. Я тогда совершил ошибку… Я думаю, когда Мемед вырастет, станет мужчиной, прочитает все мои стихи, он поймет меня. Придет к тебе, скажет спасибо за отца. Ты тогда подружись с ним, помогай во всем как сыну…
Потом заговорил о тюрьме.
– Мне стыдно, когда мне воздают почести в Советском Союзе за семнадцать проведенных в тюрьме лет. Они в Турции должны были меня судить. Я ведь с самого начала знал, что мне угрожает тюрьма. И главное, я знал, за что я сижу. А здесь люди гибли, не понимая – за что. Я в тюрьме лучше становился, сильнее, внутренне развивался. Это нормально. В этом нет никакого героизма. Героизм проявляли коммунисты в тюрьме здесь, начиная с ХVII-го съезда партии – ведь их посадили такие же коммунисты, как и они сами, и безо всякой политической причины. Выдержали все это, не утратив оптимизма и веры в ленинизм, герои. Они сохранили свое человеческое достоинство и, выйдя на свободу, сказали: «А все-таки революция была не зря!» Мне немножко стыдно бывает перед ними за то, что люди из хорошего отношения к поэзии, к турецкому народу создают мне какой-то ореол. Когда мы были в гостях у Каплера, я восхищался им как мальчишка. Как он сохранил молодость, юмор, способность по-настоящему работать и по-настоящему любить. Какой обаятельный человек! И я никак не мог представить его с номером на груди. Я все-таки однажды хотел бы говорить с ним об этом.
– А знаешь, Назым, Алексей Яковлевич Каплер был одним из тех, кто позвонил мне после твоего исчезновения и спросил, есть ли у меня деньги. Юрий Александрович Завадский спросил, Исидор Шток, Комиссаржевские, Вера Федоровна Панова звонила из Ленинграда…
– Вдруг подумал, что заключенных в своей тюрьме я всегда очень легко представлял на свободе. А вот никого из тех знакомых на воле, кому пришлось сидеть в тюрьме, я не могу себе представить за решеткой, хотя перевидал так много узников… Даже нашу бедную старую турчанку Сабиху не могу представить в Сибири. Как она радовалась, когда ты называла ее своей свекровью. Как старалась научить тебя готовить турецкую еду, варить кофе по-турецки. Помнишь, как она ласково приговаривала: «Веричка, тебя Назым окончательно отуречил!»
В то утро ты снова заговорил о Ленине. Странно, но я ни разу не видела книг Ленина в твоих руках. Энгельса – видела, Антонио Грамши – да, а Ленина – нет. Очевидно, его ты читал в далекой молодости, совсем юным человеком.
В то утро ты сказал мне:
– Я всю жизнь думал, что коммунизм можно построить быстро. Я был уверен, что это случится при мне. Еще год назад я почти так думал. Теперь я понимаю, что на это потребуется не десятки, а сотни лет. Так что, вот, миленькая, не только я не увижу коммунизма, не только ты не доживешь до него, но, самое грустное, что даже наша Анюта… И вопрос не в экономике. Через несколько лет, если не будет войны, конечно, жизнь здесь наладится, и все будет хорошо. Время, о котором я говорю, уйдет на постройку нового человека, необыкновенного человека! Я вижу его, и он мне так нравится! Мы все, коммунисты, немножко нетерпеливые были, хотели ускорить процесс роста человеческого сознания. Но как бы ни мечтал отец ускорить роды своего ребенка, он все равно вынужден ждать девять месяцев, иначе получается выкидыш…
Около полудня мы расстались. Я поехала в Детский театр, оттуда на дачу к маме повидать Анюту. А ты – к Акперу, писать и переводить на русский язык обещанное Науму Мару предисловие к его книге.
Мы встретились дома вечером, часов в восемь. Пили чай с мамиными пирогами. Ты признался, что у Акпера тебе сделалось так плохо, думал – все, умираешь… Но виду не показал – Акпера пугать не хотелось. Полежал немного, потом стало лучше, боль в сердце отпустила, осталась слабость.
– Теперь совсем хорошо. Завтра поеду в поликлинику, надо сделать анализ крови и ЭКГ.
Я видела, что и сейчас тебе худо. Мечешься, мечешься по квартире…
В доме у нас не все еще было устроено после ремонта – не успели повесить картины и шторы на окна, поэтому комнаты были непривычно голые, большие. Мы пошли в гостиную и включили телевизор. Передавали из Бухареста концерт румынского джаза. Ты подошел ко мне, сел на пол у моих ног, взял мои руки в свои и сказал:
– Ну давай, Веруся, подумаем, где мы повесим картины в т воем дом е…
От этих слов мне стало так больно, так нехорошо, я поняла их смысл, но все-таки спросила:
– Почему в «моем доме»?
– Чувствую, что недолго останусь в нем… А ты будешь жить о-о-е-ей, сколько еще! Вот поэтому я так и сказал. Извини, радость моя, не хотел тебя расстраивать.
Я заплакала.
– Веруся моя, я хочу, чтобы ты привыкла к этой мысли, так тебе будет легче. Это однажды случится, не завтра, конечно, и не через месяц. Может быть, даже не через год, – стал ты меня утешать. – Я постараюсь жить еще два года… Я обещаю тебе. Два года – твердо говорю! Увидишь!
Потом вдруг сделался веселым, шутил, смеялся. Гладил мои руки. Мы слушали музыку. Вдруг ты сказал:
– Прости меня, я очень тебя мучил своей ревностью. Мне так стыдно теперь… Какой я был дурак. Ты простишь меня, простишь? Тебе ведь сейчас со мной не так трудно, правда? Ты прости меня за это дурачество, хорошо, Веруся?
И приставал ко мне до тех пор, пока я не сказала, что все забыла давно.
Поздно вечером в дверь позвонил соседский мальчик и принес тебе по ошибке попавшее к ним с газетами письмо от Яшара Кемаля. Ты обрадовался.
– Я знал, что сегодня что-то будет! Я тебе говорил!
19 мая. Хиллз Родд, Кембридж 238
Мой мастер, Назым, аслан баба (отец-лев. – А. С.)! В начале месяца я уезжаю отсюда, неделю пробуду в Париже, потом перееду в Венгрию. Значит, как вы и хотели, можем встретиться в Будапеште 15 июня. Но дела прокручиваются тяжело, до сих пор мне не выслали ни приглашения, ни билета на самолет. Поскольку тот, кто обжегся на молоке, дует на воду, – а я уже ошпарился разок – опасаюсь, что нам не удастся встретиться в Венгрии, как тогда в Танзании. Скажите, где в этом случае мы сможем повидаться? Позвоните мне. Я бы хотел кое-что сказать вам при встрече, так что сейчас не буду и начинать… Если не сможете позвонить, напишите в Париж Абидин-бею, но я все-таки рассчитываю на звонок. Не знаю, слышали вы или нет, что меня и некоторых товарищей выбросили из газеты. «Джумхуриет», по-моему, перешла в руки реакционно настроенных людей, и мои дела сильно испортились. Мне кажется, ситуация в Турции довольно сложная. Там сейчас процветает страшно жестокая и оппортунистическая буржуазия. Никакой жалости у них нет! Вдобавок ко всему пришла «нота» от хозяина моего дома с требованием его освободить. Вот так, решил поехать в Европу и остался без работы, без дома. Но хватит, скоро обо всем мы обстоятельно поговорим. Думаю, что, вернувшись в Турцию, я смогу все исправить. Как дела у нашей невестки? Пишете ли вы? Получили вы мою книгу «Земля железная – небо медное»? Судя по откликам, поступающим из Турции, ее встретили лучше, чем «Тощего Мемеда». Тоскуя, целую вас и женушку, Тильда целует вас обоих.
Яшар Кемаль
Сразу звонишь, заказываешь разговор на девять утра с Кембриджем:
– 47509 – Мистера Кемаля!
Вот она – сохранилась квитанция за твой несостоявшийся разговор с Яшаром.
Сколько энергии в тебе сразу появилось! Пересматриваешь всю программу дел на завтра:
– К черту врачей, надо ехать в венгерское посольство, торопить с бумагами для Яшара. Давай поедем в Будапешт раньше, через неделю. Берем Анюту из школы и едем! Там, на месте, вернее всё устрою для него. Ах, бедный сынок, бедный сынок, это они его учат. Увидели, что парень сильный, слишком независимый стал. Ничего, все у Яшара будет хорошо. Я уверен. Это уже ясно. Его талант вырос, как замечательное дерево, и люди с радостью попробовали вкус его плодов… Я очень рад, очень рад. И книжка серьезная, в ней он дальше пошел… Надо завтра отвезти ее в издательство. Пусть срочно переводят… А может, сейчас ему звонить, Вера? Нет, поздно уже, пока дадут… утро будет…
Ты говоришь, говоришь, говоришь…
Начал искать книгу Яшара и все никак не мог найти. Ая пошла спать. Ты проводил меня до спальни. Потом принес мне свежий номер «Нового мира», сам вернулся к телевизору – хотел дождаться последних известий. Через полчаса прибежал и неожиданно предложил:
– Пойдем в сквер, посидим под каштанами. Они сейчас все в цветах. Тут краской пахнет, ужасно душно.
Я посмотрела в окно – в доме напротив уже не было огней. Накинула на плечи большую шаль, сунула босые ноги в сабо, и мы пошли.
Здесь, на скамье под цветущими каштанами нашего сквера мы говорили с тобой в последний раз. Грустный был, но хороший разговор… Забыть его смогу только со смертью.
– Я проживу еще два года, – упрямо сказал ты. – Я обязательно проживу. А потом ты меня не держи. Мне страшно представить себя дряхлым стариком, беспомощным, жаждущим смерти как милости. Ах, не говори ничего, милая! Твои слова как бальзам, но они – ложь, в которую ты веришь. Разве можно любить старика Лира? Я стану гораздо хуже. Ведь я не слеп, и мне вечно будет нужна моя корона – твоя любовь, и с каждым днем больше. Как сейчас. С каждым днем больше.
Ты молчал. Наверное, ждал опять моих возражений. Я не говорила ничего. Ты провел рукой по лицу и ударил в ладоши.
– В конце концов, я дурак. Я тебе надоедаю этими глупостями. Будь я последний человек, если еще раз начну об этом.
И помолчав, спросил:
– Скажи, пожалуйста, Веруся, как бы ты хотела умереть?
– Никак, – ответила я.
– Я понимаю, – ты рассмеялся. – Но придется все-таки, знаешь… Ты предпочитаешь быструю смерть или?..
– Конечно, кто не хочет легкой смерти…
– Я! – почти закричал ты. – Я!
– Как?
– Я предпочитаю умереть от рака. Медленно, все понимая, долго. Я предпочитаю умереть от рака, от блуждающего воспаления легких, от чего угодно, но медленно. Тебе очень странно?
– Очень, – ответила я.
– Если у меня будет рак, нет, я не думаю, но если так случится, ты обещаешь мне сказать, Веруся?
Я знала, если пообещаю, то выполню. Я хотела понять, во имя чего должна проявить жестокость.
– Объясни, Назым.
– Внезапная смерть – страшное предательство, это как нож в спину. Понимаешь? Я должен, я хочу знать, что умираю. Тогда я сделаю то, чего не могу сейчас, всю свою жизнь не мог. Это очень важно. Тогда все меняется. Человек тот – и уже другой. Все другое: скорость, смелость, честность, вообще всё. Иначе видится мир. Мне нужно это время перед уходом.
Ты замолчал. Молчал долго. Потом сказал:
– После моей смерти я хотел бы проснуться через полчаса, чтобы увидеть свое сердце, которое так меня мучило, и услышать твой плач…
Перед уходом у меня еще так много дел,
перед уходом.
Я оленя от рук охотника спас,
но еще лежит без сознанья.
Я с ветки апельсин сорвал,
но корка еще не очищена.
Со звездами уже смешался я,
но число их еще не сосчитано.
На подносе разложены розы,
но чаша из камня не высечена.
Любовью еще не насыщена жизнь.
Перед уходом у меня еще так много дел,
перед уходом.
Господи, Назым, как много мы говорим о смерти даже сейчас. Но куда деться, если она таскалась за тобой по пятам. А ты заклинал ее: «Я проживу еще два года… Мне нужно время!»
Потом мы вернулись. На улице было уже совсем светло. Ты сидел возле моей кровати. Сон ушел из нашего дома. Ты достал из коробочки снотворное фирмы «Си-ба» и угостил меня…
Утром я проснулась раньше обычного, проснулась от солнца, ударившего прямо в глаза из незашторенного окна. В доме было тихо. Я не встала – не хотелось тебя будить. Минут через пятнадцать услышала, как в наш почтовый ящик засовывают почту – значит, 7.20 утра. Я специально сняла с ящика крышку, чтобы не гремела по утрам, но ты все равно каждое утро просыпался от возни почтальона, даже во сне боялся пропустить этот момент. Минут через пять ты вскочил и почти бегом кинулся к двери. Я хотела позвать тебя, но промолчала, решила подремать. А ты не возвращался. Прошла минута, вторая – ты почему-то не открывал входную дверь и вел себя подозрительно тихо. Я полежала еще чуть-чуть, но какая-то сила подняла меня посмотреть, где ты притаился. Встала, подумала: пить захотел или куришь. Быстро прошла на кухню. Там тебя не было. Я открыла дверь в ванную, потом в туалет. Вдруг стало страшно, так страшно, меня будто ударила сзади мощная струя горячего воздуха…
Я выскочила в прихожую и увидела тебя за вешалкой на полу. Ты сидел, прислонившись спиной к двери, опершись рукой об пол, поджав под себя одну ногу по-турецки, а вторую слегка вытянул вперед. По выражению твоего белого, непривычно спокойного лица я в первую же секунду поняла, что ты мертв.
В эту секунду мир отпустил меня. Он оглох. Я пыталась заговорить с тобой – ты не отвечал. Я поняла: все кончено. Бросилась к телефону и позвонила Тосе.
– Тося, Назым умер.
Она вскрикнула:
– Не может быть!
Я сказала:
– Подождите, сейчас я пойду посмотрю…
Положила трубку, кинулась в прихожую и снова, едва взглянув на тебя, поняла, что это правда.
Я сказала ей:
– Да, он умер.
И опять она не верила, и я опять просила:
– Подождите, я посмотрю…
Не знаю, сколько времени это продолжалось. Стоило мне выйти из прихожей, как я уже не верила в случившееся.
– Я сейчас вызову врачей! – крикнула Тося и повесила трубку.
В доме было тихо-тихо, как будто из него выкачали жизнь. Вещи потеряли весомость. Я помню, как не могла стоять на ногах. Ноги не то что меня не слушались, но они как бы вовсе отсутствовали, и я плавала по комнатам, ударяясь обо все предметы и двери, но не могла и подумать, чтобы сесть. Я все передвигалась и передвигалась, пока откуда-то не стало известно, что выехали врачи, что вызвана команда по оживлению сердца из Боткинской и «скорая помощь» из «Кремлевки».
Балконная дверь во двор оказалась с вечера открытой, и я без усилий вышла на балкон. Было светлое утро. Я помню, как меня поразило, что жизнь не остановилась – из всех подъездов нашего дома торопливо выбегали люди и через несколько мгновений исчезали в арке под нашим балконом. Дети опаздывали в школу, взрослые спешили на работу. «Они просто ничего не знают, – думала я. – Они совсем ничего не знают, в этом все дело…» Несколько раз я возвращалась в прихожую, там по-прежнему дверь нашего дома охраняла твоя скульптура, Назым. Помню, как меня удивило, что по твоим ногам расползались муаровые круги и красные пятна. Словно вся кровь твоя отливала к ногам. Я помню, как подумала, что ты очень красиво и удобно сидишь. Возможно, я даже восхищалась твоей позой, законченностью движения, силуэта. Это было безумие.
Вскоре, а быть может, и нет, я увидела, как в наш двор вползает огромный белый автобус, из него почти на ходу выскакивают мужчины в белых халатах и спрашивают, где квартира двенадцать. И тогда я крикнула им сверху, что они должны подняться к нам, в сто двенадцатую, но они мне ответили:
– Мы в двенадцатую, а к вам приедут! ждите!
Я знала, что это ошибка, но все уже покатилось вниз головой после самой неисправимой ошибки этого утра, все потеряло смысл. Я могла только ждать. Я была заперта изнутри тобой, Назым.
Потом я увидела, как эти же мужчины выскочили из первого подъезда и побежали ко мне. Через мгновенье они звонили в дверь. Я ждала их, стоя над тобой. Я сказала им, что дверь открыта, но она не поддавалась. Я объяснила им, в чем дело. Они попросили:
– Отодвиньте его!
Я сказала, что не могу этого сделать. Наконец, один из них каким-то образом просунулся в щель. Я вышла, чтобы не видеть, что будет дальше. Я слышала, как говорили:
– Он совсем теплый.
Потом кто-то из них подошел ко мне и спросил:
– Вы не знаете, у него был инфаркт?
– Был.
– Тогда ничего нельзя изменить…
Я и так знала, что ничего нельзя изменить, и их слова меня даже не тронули. Все потеряло смысл, все, все.
Потом я увидела тебя на диване в гостиной.
Вскоре приехали врачи из «Кремлевки», из той больницы, где ты лечился. Помню, как ко мне подошла женщина и спросила:
– Девушка, а где его жена?
– Это я.
– Девушка, вы меня не понимаете, очевидно. Я спрашиваю, где жена умершего? – настойчиво повторила она.
– Это я, – ответила я покорно, впервые усомнившись в том, что говорю правильно. – Я…
– Девушка, вы меня не понимаете… Я вышла из комнаты.
Через некоторое время врач снова настигла меня и стала спрашивать, как правильно пишется твое имя. Я говорила ей, но она все переспрашивала, уточняла… Это было непереносимо. Я взяла со стола книгу стихов, которая лежала там с воскресенья, и протянула ей.
Потом помню, как две женщины, приехавшие из разных больниц, узнали друг друга и стали вспоминать какую-то медицинскую конференцию, где произошел какой-то смешной случай. Обе говорили наперебой и смеялись, а ты беззвучно лежал рядом с ними, Назым. Уходя, одна из них спросила меня:
– Вы не боитесь остаться одна? А то мы можем подождать, пока приедут близкие…
– Не боюсь.
Мне было все равно, останется она или уйдет, даже хотелось, чтобы ушла…
Потом не помню, что было… Нет, помню. Крик Акпера – гортанный, сильный, очень страшный. Знаю только, что я не плакала первые полчаса этого утра.
Но ты не проснулся через полчаса не поэтому, Назым?
Вот я и рассказала тебе все. Да, только не сказала, что в прихожей у двери, где ты навечно перекрыл мне собой выход из нашего дома, рядом с твоей рукой на полу валялся ключ от почтового ящика и горел свет. Последнее, что ты успел сделать – зажег свет…
Откуда вынесут мой гроб, из нашего ли двора?
И как вы меня спустите с третьего этажа?
Ведь гроб не поместится в лифте, да и нельзя,
а лестница наша узка.
И может быть, голуби будут, и солнце по грудь,
а может быть, снег, наполненный криком детей,
а может быть, дождь и мокрый асфальт вокруг,
и ящики с мусором будут стоять у дверей.
Мне на лоб упасть может капля дождя —
вода, говорят, к добру,
и будет оркестр или нет – дети ко мне прибегут,
дети покойников любят, за мною пойдут по двору.
Проводит меня наш милый балкон с бельем,
окно нашей кухни посмотрит мне вслед.
Я в этом дворе был счастлив.
Будь счастлив, мой дом,
соседи мои, желаю вам долгих лет.
Ты, Назым, Пьер, Париж, Москва – как все перепуталось в те недели 1963-го. Кого-то из вас несут на кладбище «Пер-Лашез», когото на «Новодевичье»… А вокруг повторенья… Только не чудо повторений, как ты писал, восхищаясь Бахом, а пошлость повторений… Жестокая, мстительная.
Я помню твое неподвижное лицо, выставленное напоказ. Смерть не испортила его. И вдруг легла какая-то тень, оно начало хмуриться. Кончик носа слегка опустился, и ты стал похож на турка больше, чем живой. Я оглянулась и поняла, отчего тебе становится душно. Я тихо прошу, я умоляю:
– Кончайте. Скорее. Видите, он не выдерживает!
Но меня не слышат. Предлагают бутерброд с черной икрой… Нет, Назым, я не расскажу, почему тебе стало так плохо, когда ты впервые не стоял, опершись о колонну, а подчинившись, лежал в вестибюле Дома литераторов. Я промолчу. Пусть об этом расскажет кто-нибудь другой.
Завтра закончится второй год без тебя. В наш дом без звонков и предупреждений придут гости – наши друзья. Придут, потому что захотят прийти. А сегодня я хлопочу: нужно кое-что купить для стола, дом приготовить для товарищей наших… Времени у меня мало, Назым. Извини. Я должна идти.
Когда на кладбище произносили ритуальные речи – не помню. Я ждала, что все разойдутся, и мы с тобой, Назым, вернемся домой. Вокруг гроба лица, лица, лица, тысячи горестных плачущих лиц. Ты лежишь, голова на красной подушке. Такой же бездыханный, как я. Глаза закрыл, чтобы не видеть шумихи вокруг, не видеть самого себя. Звук выключен. Мы как два телепата общаемся в тишине. Прорвалось солнце, покрыло тебя золотой рябью. Я увидела твое розовое лицо. Розовое, как при волнении. Я подошла и погладила твои щеки. Они оказались теплее моих ладоней. Но тут откуда-то возникли строгие глаза Музы Павловой, и ее голос приказал убрать руки, чтобы не испортить твой грим. Я поняла, что никто нас уже не понимает, и все только мешают мне слышать, что ты сейчас хочешь от меня. Кто-то сзади обнимает за плечи железными руками и отводит от тебя. Я пячусь назад и не могу расслышать что-то важное из того, что ты сдавленным голосом говоришь и говоришь мне. И вдруг я увидела одну твою знакомую художницу, странную женщину. Она несколько раз приходила к нам с мужем, всегда, вот и сейчас в желтом платье. Звали ее Элла или Эмма – не помню. Она подошла к гробу и стала рыться, что-то искать в цветах. Рылась долго. С одной стороны, с другой стороны… Потом я ее потеряла из виду. И вдруг ее лицо оказалось прямо передо мной. Она протянула мне черную розу величиной с трость.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































