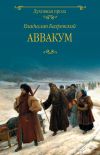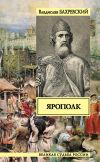Текст книги "Люба Украина. Долгий путь к себе"

Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 63 страниц)
Допрашивал запорожца сам польный гетман. Допрашивал трижды. Сразу, как взяли в плен, обойдясь мордобоем. Во второй раз – серьезно, на дыбе. В третий раз огнем пытал.
Запорожец твердил, как присказку: «Хмель идет с ханом. У хана сто тысяч войска, и у Хмеля сто тысяч. А пушек у Хмеля двадцать шесть».
Потоцкому было доложено, что говорит запорожец на допросе, и еще о неистовстве Калиновского: польный гетман изощряется в пытках, кричит на казака и беснуется: «Врешь, сатана! Врешь!» Казак же молит пощадить его за правду.
Потоцкий явился на четвертую пытку, лично придуманную польным гетманом. Казаку после каждого его ответа отрубали один палец, на руке или на ноге, и прижигали рану огнем.
– А, коронный! – Запорожца окатили водой, и он в очередной раз очнулся из забытья. – Лют у тебя польный.
– Сколько у Хмельницкого войска? – прохрипел Калиновский сорванным голосом.
– А нисколько у него нет. – Казак закрыл глаза, и на него снова опрокинули ушат воды. – Нисколько, говорю, нет. Ты же это хочешь от меня услышать, душегуб вонючий. И Хмеля нет, а только вы оба тут, на этой горе, сгниете. Со мною рядом.
– Руби! – Калиновский толкнул палача к казаку.
– Прекратить! – раздался голос коронного гетмана. – Скажи мне, сколько у Хмельницкого войска, сколько войска у хана? Сколько у них пушек, и я прекращу твои муки.
– Нет хана, и Хмельницкого нет, – ответил казак. – А пушек двадцать шесть. А казаков сто тысяч и сверх того, не считаны.
Потоцкий посмотрел на распластанное окровавленное тело и тихо сказал палачам:
– Отрубите ему голову.
Запорожец потянул в себя воздух, чтоб вдохнуть последний раз во всю грудь, и грудь, наполненная кровью, забулькала, заклокотала, но воздух прорвался-таки к легким, остудил их огонь, и сказал казак самому себе:
– Теперь дело за вами, хлопцы!
В тот же миг свистнула сабля.
– Стой! – закричал Калиновский. – Он что-то еще говорит.
– Поздно, – палач аккуратно вытер тряпкой кровь лезвия и поглядел – не затупилось ли.
– Казаки что-то затевают! – доложил Потоцкому Самойло Зарудный.
На противоположном берегу реки Рось, против лагеря, появилась большая масса людей.
– Возможно, хотят отвлечь наше внимание от основного удара, – сказал Потоцкий. – Усильте посты. Ведите наблюдение.
Солнце зашло, и в наступающих сумерках было видно: войско на той стороне реки прибывает.
Запылали костры, покрывая степь от края и до края трепещущими живыми чешуйками.
Гетманы, полковники, старосты и каштеляны собрались в шатре Потоцкого. Вопрос был все тот же – принять сражение или уйти.
– Мы не должны верить показаниям казака! – кипел Мартын Калиновский. – Его могли подбросить нам для пущей паники.
– Ваша милость, много ли охотников сыщется среди нас пойти к Хмельницкому, чтобы на пытках сообщить ему: король со всем войском Речи Посполитой уже в Белой Церкви? – Это сказал Корецкий.
Голоса поделились почти поровну. Отступать опасно, но отсиживаться в лагере опаснее вдвойне.
Говорили и другое. Нужно дать сражение немедленно, пока не поднялась вся Украина. Каждый день промедления – это прибывающие силы Хмельницкого и убывающие – осажденных.
Выслушав всех, коронный гетман Потоцкий сказал:
– Пока у нас есть войско, есть и Украина. Потерять войско – потерять Украину. Властью, данной мне королем и сенатом Речи Посполитой, приказываю строить табор. Утром мы уходим. Наш путь на Богуслав – Белую Церковь – Паволочь.
– Ради бога, послушайте старика! – воздел к небу руки Мартын Калиновский. – Панове, мы даже дороги не знаем, чтобы провести отступление в надежных боевых порядках.
– Я знаю человека, который укажет нам дорогу! – сказал Корецкий. – Это местный уроженец Самойло Зарудный. Человек всем нам хорошо известный.
– Ваши милости! – Потоцкий голоса не повысил, но голову поднял чуть выше обычного. – Ваши милости! Приказы не обсуждают!
– Да поможет нам Бог! – Старик Калиновский стоял и плакал на глазах смутившихся командиров.
Уже через четверть часа Самойло Зарудный знал, что ему доверено быть проводником, а через час из лагеря ушел незаметный человек, один из поварят Потоцкого, ушел, растворился во тьме весенней черной ночи.
16 мая на восходе солнца войско Потоцкого начало строиться в табор.
Хмельницкий готовил переправы через реку Рось.
– Вот первая наша удача! – сказал Потоцкий своему окружению. – Хмельницкий сосредоточил войска для удара из-за реки, считая, что именно с этой стороны наш лагерь уязвим более всего. Пока он переправится, мы оторвемся от его основных войск.
Не знал коронный гетман, что в десяти верстах от лагеря, в лесистом овраге Гороховая Дубрава, по которой проходит Корсунский шлях, уже построены засеки, вырыты окопы, пушки поставлены, а все стрелки, пушкари, конники роют в поте лица на спуске с крутой горы в овраг через единственную дорогу глубокий, широкий ров.
Засаду устраивал Максим Кривонос.
Как только эхо донесло дальние пушечные выстрелы, полковник приказал работы оставить и всем затаиться. Те пушечные выстрелы были условным сигналом – изготовьтесь, идут!
Польский табор двигался медленно, но без помех.
Татарская и казачья конница маячила с обеих сторон, на расстоянии двух-трех выстрелов.
– Волчье племя, – сказал Калиновский Корецкому, – стоит нам споткнуться – налетят. Не чересчур ли спокоен наш коронный?
Потоцкий и впрямь не волновался. Он спал. Все эти дни, после желтоводского разгрома, гетман храбрился: приказывал, карал, спорил, а ночами, наедине с самим собою, бессонно плакал в подушку. Не по злому умыслу, не по совету какого-то тупицы, сам, своей волей уготовил сыну гибель, да так все обставил, что и одного шанса на спасение не дал.
Не зная иного лекарства от боли души, он приказал поставить в карету вина и пил до тех пор, пока не уснул.
В полдень польское войско подошло к Гороховой Дубраве. Пушистый лесок, росший на топком месте, защитил от возможной кавалерийской атаки, но заставил перестроить движение табора. Дорога была узкая. Часть возов с пушками застряла, получился затор. И, увидав сумятицу в стане врага, люди Максима Кривоноса пошли на польский табор приступом. Калиновский, не дожидаясь приказаний коронного, остановил пушки и, продолжая движение, открыл огонь по лесной чащобе. Поляки стреляли наугад, казаки же, спрятавшись за деревьями, в белый свет не палили, целились.
Под убойным огнем жолнеры рвались на открытое место, прочь из западни, а спешка – плохая помощница. Тяжелые возы опрокидывались. Из леса и трясины выбрались, а впереди – головокружительный спуск в овраг.
Пехота и конница прошли это место без потерь, но внизу их остановил ров.
– Задержите их! – двумя руками толкая от себя воздух, кричал Калиновский. – Задержите кто-нибудь!
Приказ относился к обозу и пушкам, которые начали спуск в Гороховую Дубраву.
Жолнеры кинулись засыпать и заваливать ров, но с обоих берегов оврага ударили казачьи ружья. Татары закружили вокруг обоза, и вся масса телег с пушками, с продовольствием, с панским барахлом неудержимо покатила вниз. Лошади скользили, падали. Возы переворачивались, расшибались вдребезги.
– Всем спешиться! – отдал приказ Калиновский.
Он понимал: в этой западне от конницы мало проку.
Польный гетман размахивал саблей, куда-то кому-то что-то указывал, но никто его не слышал и не хотел слушать. По войску, кинувшемуся из оврага, ударили пушки.
Калиновский сел на брошенный барабан и смотрел на творившееся вокруг него несчастье.
– Низкорожденная сволочь! – закричал он, глядя, как многочисленная челядь расхватывает господских лошадей и удирает.
– Корецкий! Корецкий! – вскрикнул гетман, вскакивая на ноги.
Теряя всадников, крылатая конница Корецкого, не подчинившаяся приказу спешиться, прорубалась сквозь казачий заслон и уходила из оврага.
В овраге жолнеры и шляхта отбивались как могли.
Кто бежал, кто стрелял. Татары бросали арканы, хватая пленных, уже начинался грабеж обоза.
Вдруг подкатила карета Потоцкого. Калиновский рванул дверцу на себя.
– Вот оно, ваше отступление! Вот оно! – закричал он на коронного, но тот только махнул рукой и уронил голову.
– Вы ранены?
– Он пьян, – сказал слуга.
Калиновский топнул ногой, и в это мгновение пятеро похожих друг на друга казаков окружили гетманов, и один из них гаркнул:
– Паны гетманы! Вы в плену!
Пошла пальба. Калиновский встрепенулся, но увидал, что стреляют казаки, стреляют вверх, празднуя победу.
Один Корецкий вырвался из Гороховой Дубравы, он ушел по бездорожью на Дубно.
Спасение стоило Корецкому тысячи жизней.
Хмельницкий с Тугай-беем, сдерживая коней, спустились в овраг. Навстречу им прискакал Максим Кривонос:
– Все кончено, гетман!
Хмельницкий обнял полковника, шепнул ему на ухо:
– Слава тебе! Слава тебе, Кривонос! Во веки веков слава!
– О! – махнул рукой Кривонос. – Ты погляди, кого братья Дейнеки взяли.
– Кого же? – притворяясь, что не знает, спросил Хмельницкий, покосившись, однако, на Тугай-бея.
– Самих региментаров!
– Кого же из них? – переспросил Хмельницкий.
– И польного взяли! И коронного! Вон на барабанах сидят.
Хмельницкий тронул коня, приглашая жестом Тугай-бея ехать за собой. Остановился в трех шагах от пленников.
– Здравствуйте, ваши милости! Вот ведь как Бог устроил. Ловили меня, а сами и попались.
– Хлоп! – Потоцкий топнул ногой. – Меня победила не твоя разбойничья сволочь, а славное татарское рыцарство. Чем вот ты заплатишь ему?
– Вашей ясновельможной милостью, – улыбнулся Хмельницкий. – Тобой, Потоцкий! И тобой, Калиновский. И прочими, прочими! – Обратился к Тугай-бею: – По обещанию моему отвези обоих гетманов его величеству великому хану Ислам Гирею. Скажи, Хмельницкий слово держит.
– Стало быть, хан в Бахчисарае! – вскричал Калиновский и уставился бешеными глазами на Потоцкого. – В Бахчисарае он был! В Бахчисарае!
– Гетмана! Гетмана! – послышались возгласы и топот лошадей.
Казаки расступились, пропуская трех всадников.
– Мне коронного гетмана! – сказал всадник, спешившись.
Увидал Потоцкого, подошел к нему:
– Ваша милость, я послан к вам от сената Речи Посполитой.
Потоцкий показал рукой на Хмельницкого:
– Ему говорите. Теперь у нас один гетман.
– Ваша милость! – Гонец растерянно посмотрел вокруг, не веря своей догадке, осенившей его. – Ваша милость!..
– Говори, я слушаю! Я хоть и пленный, но – гетман! Польный гетман! – вскричал Калиновский, вскакивая с барабана.
Казаки задохнулись от смеха:
– Ну, петух и петух!
– Ваши милости! – вскричал в отчаянье гонец. – Казаки! Я прислан сообщить вам, что его величество король Владислав IV умер.
Хмельницкий даже глаза прикрыл веками: сколь хитро ни рассчитывай, у жизни свой неведомый ход.
Снял шапку. Задумался на виду у всего казачьего войска.
* * *
Считали трофеи, пленных, убитых. Казаков погибло в том бою семьдесят человек, ранения получили девяносто пять. За те смерти и раны польское войско заплатило дорогой ценой. Убитых казаки не считали, считали пленных. Взято было два гетмана, высоких чинов: полковников, ротмистров, капитанов, поручиков, высокородных хорунжих – 127, рядовых – 8520, взято было: хоругвей – 94, булав – 5, пушек – 41, а также множество фузий, пистолетов, копий, обухов, сабель, панцирей с шишаками, телег, лошадей, шатров и всякого имущества.
– А найден ли старый запорожец? – спросил Богдан Кривоноса.
– Нашли и похоронили, – ответил Кривонос гетману. – Над Росью могилка. На самом высоком месте.
– А поедем-ка, Максим, поклонимся казаку. Победой и, может, самой жизнью все мы ему обязаны.
И поехали они на реку Рось и поклонились могиле безымянного казака.
Глава третьяВ покоях королевы Марии ветром выдавило стекло. Этим ли шквалом или каким другим, но выдуло и всех высокородных любителей французского, и не только высокородных, даже слуги исчезли.
За обедом королева почувствовала, что ей плохо. Кружились потолок и пол, но она, не меняясь в лице, дождалась десерта, отведала и похвалила кушанье и только после этого вышла из-за стола и сама, без посторонней помощи, дошла до спальни.
– Врачей, – попросила королева.
Фрейлины кинулись за врачами и не нашли ни одного. Врачей тоже унес ветер. Королева потеряла сознание.
– Я разыщу врача в этом переменчивом городе, – твердо сказала герцогиня де Круа.
Мадам де Гебриан попыталась остановить де Круа:
– Ходят слухи, что короля отравили. Мы плохо знаем, кто здесь за нас и кто против. Нужно быть очень осторожной.
– Я буду осторожной, – пообещала де Круа.
Она надела платье горожанки, взяла корзину и отправилась в город.
Ей указали врача, того самого, который лечил пана Мыльского. Получив золотой, врач охотно последовал за хорошенькой горожанкой, но в покоях королевы растерялся. Он умел штопать пробитые головы, знал, что и как делать, когда разрублены ребра или проколот бок, но здесь был другой случай. Ему ведь и не сказали, что больная – женщина, к тому же королева.
Он пощупал пульс, поставил на всякий случай пиявки, но, получив еще несколько золотых, все же признал свое поражение.
– Я не понимаю причину болезни, – сказал он дамам, окружившим его. – Здесь нет телесного повреждения, но сдается мне, что у больной нездорова душа.
Никаких лекарств врач не дал, и фрейлины лечили королеву грелками, бульонами, тишиной и цветами, принося в спальню королевы все, что цветет в майские дни. Королева выздоравливала медленно. Явились слуги и пропавшие врачи, но выздоровлением своим Мария де Гонзаг была обязана расторопности маркиза де Брежи.
Однажды он явился и попросил аудиенции.
– О какой аудиенции вы говорите? – возмутилась мадам де Гебриан. – Королева опасно больна.
– Наша встреча должна состояться, – сказал первой статс-даме польской королевы французский посланник и соглядатай кардинала Мазарини. Он повторил вежливо, но твердо: – Наша встреча должна состояться.
Беседовал де Брежи с королевою всего несколько минут, но эти минуты оказались воистину живительными. В тот же день королева впервые за болезнь, на полчаса всего, но поднялась с постели.
Разговор между де Брежи и королевой Марией оставался некоторое время тайной, пока не явилась-таки на свет весьма странная легенда, будто де Брежи хлопочет о новом замужестве Марии де Гонзаг и в мужья он прочит ей кардинала Яна Казимира. Слух был столь фантастичный, что мадам де Гебриан отказалась ему верить, зато юная герцогиня де Круа поверила вполне.
Пани Деревинская вернулась в свое золоченое гнездышко на берегу озера в самом начале мая.
Дом епископа в отсутствие хозяина жил своей размеренной жизнью.
Вода в озере после таянья снегов поднялась, молодо зеленели весенние леса.
В природе благость, в людях тишина, а у пани Ирены нервы звенели, как звенят от ветра натянутые струны.
«Надо уезжать!» – твердила она, ложась спать.
«Сегодня же!» – приказывала себе поутру, но не уезжала.
Вглядывалась в слуг, заговаривала со священниками: ни злобы у одних, ни тревоги у других.
Однажды ночью она проснулась, оделась, взяла два заряженных пистолета, кинжал, свечу и подземным ходом отправилась в покои епископа. Тайник она взломала себе на удивление легко.
Забрала драгоценные камни, скрылась незамеченная. Еще день ушел у нее на сборы, и шестого мая она уже снова катила в карете в неведомую даль.
Впрочем, в не такую уж и неведомую. Она решила переждать безвременье во Львове, в большом и сильном городе.
– С них надо было по три шкуры драть, тогда бы смирно жили! – Князь Иеремия, завернувшись в лисью шубу, отнятую для него в богатом казачьем доме, сидел у огня, разведенного прямо в шатре.
Князя трясло. Больным он себя не чувствовал, но его трясло.
«От ненависти, что ли?» – думал он, удерживая себя от того, чтобы не заклацать в присутствии людей зубами.
– Подогрейте вино и оставьте меня, – приказал он джурам.
Вино тотчас подогрели, он выпил его, дождался, пока все выйдут из шатра, и только после этого позволил себе лечь в постель.
Дрожь тотчас накинулась на него, и зубы застучали.
– Эх, Пшунка! – застонал он. – За тебя придется работать.
Он вел свой шеститысячный отряд к Переяславу, по хорошей дороге. Возле Переяслава собирался переправиться через Днепр и соединиться с войсками Потоцкого. Переправу он задумал совершить в единочасье и для того отправил людей вверх и вниз по Днепру собрать паромы и лодки.
Ни в Черкассах, ни в Довмонтове, ни в Секирной, ни в Стайках, ни в Ржищеве, ни в Трахтемирове, ни на реке Бучаке его драгуны не нашли ни одного парома. Все они были затоплены в первую же ночь после разгрома Потоцкого.
Князь Иеремия получил известие о корсунской погибели в Яготине, и хотя в тот же день ему сообщено было и о потоплении паромов, он пошел со своим войском дальше, не отваживаясь на какое бы то ни было решительное и необходимое в этом страшном положении действие.
Под Березанью к нему прибежал в исподнем белье местный шляхтич. В ноги упал:
– Князь, защити! Холопы мои взбунтовались, надругались над моей женой и дочерьми, а меня раздели до белья, били и прогнали из именья вон!
– Оденьте его! – приказал Вишневецкий.
Он повернул отряд, окружил имение шляхтича кольцом, сжег все хаты до единой.
Оставшихся в живых людей согнали на широкий двор шляхетского дома, где были поставлены большие котлы для варения сыров. Подгоняемые драгунами, люди наполнили котлы водой и зажгли огонь. И когда вода закипела, джуры Вишневецкого отняли у матерей малых детей и бросили в котлы.
Подошел тогда к Вишневецкому шляхтич, хозяин имения, и спросил:
– Как же мне теперь жить на этом месте? Сегодня меня отпустили живым, а теперь убьют.
– Не бойся, – ответил князь и приказал зарезать всех от мала до велика. – Доволен ли ты теперь?
– Князь, я жил трудами этих людей. Ты сжег пчельник, а пчел убил.
– Встань в строй и добудешь себе славу саблей своей.
Так сказал Вишневецкий шляхтичу и был горд своим словом, потому что оно звучало по-библейски.
Поднявшись наутро с постели, князь Иеремия умылся, оделся, позвал брадобрея.
«Это, пожалуй, единственный час, когда я не занят хлопотами о других, но обо мне хлопочут», – подумал он, отдаваясь во власть ласковых рук самого преданного своего слуги.
Завтракать князь Иеремия пожелал в одиночестве. Во время бритья, когда сверкающее лезвие брадобрея порхало то у горла, то у виска, он вдруг ясно осознал, что остался на Украине единственной реальной силой.
Не Потоцким и Калиновским, не Конецпольским или Корецким, не Фирлею, не Оссолинскому, не королю, а ему, князю Вишневецкому, Божьим промыслом ниспослан крест спасителя Родины.
И когда эта мысль опалила ему мозг, он прекратил завтрак и, помолясь, вышел к войску и приказал идти в Лубны. Но это был уже не тот поход, который затеялся два дня тому назад.
Вишневецкий жег и убивал без суда и без тени сомнения – лишь бы украинская хата, лишь бы украинец.
Он собирался призвать под свое знамя всю шляхту и дать Хмельницкому решительный бой.
До Березани шел с тремя ночевками, вернулся в Лубны с одной ночевкой, но она стоила ему половины отряда. Драгуны из украинцев разбежались.
С тремя тысячами не только нападать, но и отсидеться за стенами – невозможно.
Вищневецкий забрал имущество и ушел в Быхов.
Из Быхова он отправил воззвания к шляхте, но такие же воззвания шли от коронного хорунжего Александра Конецпольского. Тот звал шляхту под Глиняны.
Примас королевства архиепископ Гнезенский, который по смерти короля являлся главой государства, тоже слал воззвания, приказывая шляхте объединиться для борьбы, но у шляхты был свой расчет. Если уж невозможно сохранить имения, так хотя бы уберечь добро, и возы шли в замки и города под защиту каменных стен и грозных пушек.
На Черниговщине, куда прибыл Вишневецкий, шляхта собралась в самом Чернигове, в Остре, в Новгороде-Северском, в Стародубе, Почепе. И никуда она идти не желала.
Сюда, в Быхов, прибыло из-под Белой Церкви – ставки казачьего гетмана – посольство, состоящее из пяти казаков. Хмельницкий не торопился похваляться победами. В письме князю Вишневецкому – русскому человеку – он объяснял, что не желает братоубийственной войны, не желает истребления шляхты. Не казаки, но Потоцкий начал военные действия. Потоцкий грозился искоренить казацкое племя. И народ поднялся с дубьем не потому, что он дурной по рождению, но отчаявшись, ибо довели его алчные арендаторы до такого состояния, когда сама смерть милее жизни. Хмельницкий укорял князя в жестокости и просил оставить злое дело.
Вишневецкий письмо прочитал, а казаков, всех пятерых, приказал посадить на кол.
В тот же день принесли князю известие – славное имение его, грозный город Лубны, взят с бою. Бернардинский монастырь сожжен дотла, все монахи до единого убиты, пленной шляхте пощады тоже не было.
– Мой дом? – спросил Вишневецкий помертвелым голосом. – Что с моим домом? Разграбили?
– Замок и крепость разрушены, – был ответ.
– Вот как! – Князь вытер ладонью бисер ледяного пота, выступившего на лбу. Он ясно сознавал, что должен сказать теперь какие-то очень спокойные, какие-то особые слова, чтоб они остались на века, но у него задрожали губы, и он чуть было не расплакался.
Ждать было нечего, и наутро Вишневецкий приказал отходить к Любечу и к Лоеву, где приготовлены были паромы для переправы через Днепр. Отряду, шедшему на Любеч, пришлось бросить тяжелые возы, за ним погналась плохо организованная, но многочисленная группа восставших крестьян.
30 мая отряд Вишневецкого навел переправу и ушел в Брагин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.