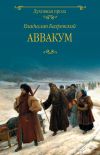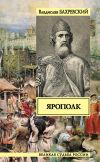Текст книги "Люба Украина. Долгий путь к себе"

Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 63 страниц)
Ночью в дом отца Феодула постучался Ханон Михелев, принес в подарок фунтовое серебряное блюдо и просил взять на сохранение десять возов всякого добра. Отец Феодул все принял и, как мог, спрятал.
Провозившись всю ночь с чужим богатством, наутро Степанида, подоив поповских коров, шатаясь от усталости, принялась за новое свое дело – варить для беженцев кашу. Тут к ней и подошла «мусульманка».
– Зачем ты их кормишь? Скоро придут казаки и всех их убьют.
– О господи! Несуразное говоришь! – перекрестилась Степанида. – Зачем казакам невинные души губить?
– Коли бежали от них, значит, знала кошка, чье мясо съела! – «Мусульманка» засмеялась. – Ой, жду не дождусь казачков! Вот уж пограбим всласть. Да ты, жалельщица, смотри не теряйся. На богатую бабу всегда есть спрос. Красивую дурак сватает, богатую – умный.
Сказала и ушла в церковь крестом лежать.
«В Туретчине дурному научилась», – решила Степанида, но тревога, поселившаяся в душе, не убыла. Степанида глядела на прихожан, спешивших к утрене, и не узнавала многих, к которым успела привыкнуть.
Что-то развязное было в движениях прежде скромных и тихих людей, словно их бес крутил. Хохоток вспыхивал. С таким ли хохотком в церковь идти? К Богу?
«Сломалась жизнь», – подумала о людях Степанида.
Еще служба не кончилась, а прихожане повалили по домам, и опять по-иному, не так, как шли сегодня в церковь. Шмыг! Шмыг! Голову в плечи, скорехонько. Мышиное было в повадке многих.
Отец Феодул повелел Степаниде снова заварить кашу. Мяса не жалеть. Оказывается, в город вошел отряд польской конницы. Отряд был невелик, сабель в полтораста, но горожане из поляков приободрились. В тот же час ограблен был купец из украинцев, держащий мясную торговлю. Со всех его трех амбаров сбили замки, забрали все копчения и соления, в дом пришли, хапнули из сундуков и чуланов.
Город затаился, ожидая новых грабежей, но тут ударила пушка.
Некий Ганя привел под стены Немирова отряд, в котором было чуть больше трехсот человек. Вместо того чтобы выйти за стены и разогнать плохо вооруженный загон, наполовину состоявший из крестьян, шляхта изготовилась к обороне.
Было известно, что войска для подавления Хмельницкого собираются, что над войсками поставлены сразу три региментаря, три известнейших фамилии: Заславский, Конецпольский и Остророг. Правда, вскоре вся Украина и вся Польша узнают сказанное о них Хмельницким: Заславский Доменик – перина, Конецпольский – детина, Остророг – латина. И каждый норовил объяснить крылатое слово: перина – значит соня, детина – ребенок, Александр Конецпольский не ровня своему отцу Станиславу, зеленый совсем, Остророгу Николаю – не воевать, а книжки почитывать. Совсем, говорят, зачитался, засушил мозги. Оттого и латина.
Но слово Хмельницкого в те поры еще сказано не было, и все три полководца для отчаявшихся беженцев сияли, как три звезды спасения.
К Немирову на рысях шел отряд. Сабель триста-четыреста.
– Казаки! – закричали дозорные, и пушкари зажгли фитили.
– Да это свои! – обрадовался кто-то из самых зорких.
– Знамя польское, – согласился комендант Немирова. – Однако одеты… сомнительно, в одежде пестрота…
Отряд остановился. Подтянулись отставшие.
– Пустите нас в город! – по-польски, чисто попросился командир отряда.
– Кто вы?
– Ротмистр Верейский! – ответил командир.
– Откуда вы идете?
– Из-под Умани. Казаки взяли город с бою. Еле пробились… Пустите нас, пока казаки мешкают.
– Мы должны обсудить вашу просьбу, – ответили со стены.
Комендант стоял и смотрел на своих командиров. Кто-то из них сказал:
– Четыре сотни воинов укрепили бы оборону города. Ныне мы очень слабы.
Раздались хлопки выстрелов.
Стреляли те, что были по ту сторону стены. Просились в Немиров: в степи появилась казачья конница.
Опять ударил колокол, послышался шум.
– Что еще? – спросил комендант.
– Пришли горожане, привели детей, просят пустить войско, чтоб было кому защитить их от лютых казаков.
– Пся крев! – вскричал комендант.
За стенами возникла истеричная пальба. Жолнеры били прикладами ружей в ворота – казачье войско было близко.
– Открыть ворота! – приказал комендант.
Отряд влетел как ядро. Ядро брызнуло огнем. Это были переодетые казаки.
Едва стихла пальба, Степанида вышла на улицу.
Пылал замок, языки огня доставали само небо, но зевак не было. Некому было смотреть. Город живых превратился в город мертвых: трупы на земле, в дверях, на воротах…
Степанида шла все скорее и скорее и пришла на площадь перед костелом. И увидела здесь груды тел. Не все в этой груде были мертвы. Она оборвала кусок подола и перевязала разбитую голову девочке, потом перевязала грудь старику… Скоро руки у нее стали липкими от крови, а из одежды осталась исподняя рубаха.
Она вспомнила наконец, что есть отец Феодул.
– Он поможет! Он вам поможет, – сказала, всхлипывая, Степанида. И побежала к церкви.
Она уже издали услышала вопли, визг, рев.
На паперти, размахивая дубиной, метался сапожник, а за ним толпа таких же, как он, перемазанных чужой кровью.
В дверях церкви с крестом над головою, один против толпы, стоял отец Феодул. Ряса клочьями висела с его плеч, его толкали, но он стоял.
– Пустите меня! Пустите! – закричала Степанида, распихивая мужиков, орущих злое на отца Феодула.
– Пустите ее! – сказал кто-то. – Она попу глаза-то быстро выцарапает. Ишь, заступник выискался.
Она вскарабкалась на паперть, отодвинула рукой горбуна-сапожника, встала перед отцом Феодулом, поглядела в мертвое, в белое лицо его, повернулась к людям, пришедшим убить людей, протянула к ним руки и сама услышала себя. Словно из-под земли сама себя услышала. Гробовой этот голос травинкой пробился из-под каменной плиты и, набирая звонкой силы, режущей душу, полетел к небу, и не было ему уже никакой помехи, и преград не было, и никакого края не знал он.
– Боже мой! Боже мой! – пела Степанида. – Стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе! Боже мой. Господи! Беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес! Боже мой! Неужели и на этот раз Ты простишь нам дела наши?!
И она, простоволосая, в одной исподней рубахе, перепачканная кровью, пошла на горбуна, склонив голову для удара, но горбун попятился, побежал, и толпа за ним.
Укрывшиеся в православном храме остались живы.
Глава пятаяПятнадцатого июня в Житомире собрался сеймик для выбора послов на конвакационный сейм в Варшаву. В городе встретились два войска: киевского воеводы Тышкевича и князя Иеремии Вишневецкого. Встретились и разошлись: Тышкевич не пожелал соединиться с Вишневецким. Во-первых, оба хотели стоять во главе объединенных сил, во-вторых, Тышкевич собирался защитить Бердичев, а Вишневецкий стремился к Немирову, чтобы спасти от разора владения племянника князя Дмитрия.
Князь Дмитрий избежал под Корсунью общей участи. Вырвался из окружения с дюжиной шляхтичей, но повезло двоим: юному князю и силачу пану Гилевскому. Теперь это были неразлучные друзья. Князь Иеремия поставил племянника во главе тысячи, а пан Гилевский стал у него хорунжим.
Сеймик наказал послам требовать от примаса посылки королевских войск на Украину, чтобы скорей подавить восстание. Выдвигалось требование, чтобы над войсками был поставлен вместо трех региментаров один, и тут Вишневецкому пришлось добела прикусывать губы. Называли не его, а Тышкевича.
Послы уехали. Тышкевич ушел в Бердичев, Вишневецкий той же дорогой, но днем позже, на Погребище.
Только шел он по-своему, не так, как Тышкевич. Села жег, каждого третьего убивал.
Город Погребище был взят с первого приступа. Потери Вишневецкого составили меньше сотни человек убитыми, но само положение, когда принадлежащий Речи Посполитой город приходилось брать силой, привело князя Иеремию в неистовство.
Впрочем, это было ледяное неистовство.
Соорудили два помоста. На одном поставили золоченое красного бархата кресло, на другом – три плахи. Вокруг помоста для палачей набили островерхих колов, целый частокол.
Кресло занял князь Иеремия Вишневецкий. Барабанщики ударили в барабаны, и мимо князя повели горожан Погребищ, мужчин и парубков. Перед креслом стражники поворачивали человека лицом к князю, и князь, глянув в лицо, определял меру виновности и казнь. Если махнул рукою небрежно, да не рукою, запястьем – легкая казнь: левую руку долой. Ногой притопнул – дело худо: нужно ждать князева слова. И, подумав, князь Иеремия что-то негромко говорил стоявшему рядом с ним пану Машкевичу, а тот уже оглашал решение суда:
– Выколоть глаза! Четвертовать! На кол!
Топоры тюкали, мучимые орали, а у князя только две дорожки пота, с висков, по щекам.
Несчастные люди, которых без счету вели пред очи земного судии, уже смекнули, что лучше не смотреть князю в глаза. Но отвести глаз тоже не удавалось.
– Веки! – кричал князь Иеремия. – Подними веки! На кол!
И пришла очередь одному серьезному человеку. Был тот человек кузнецом. Кузнец уже издали глядел на князя, глядел, как на удивительно большую муху, которую нужно бы и прихлопнуть, но как бы и жаль, уж больно не похожа на все мушиное племя.
Кузнеца поставили перед князем Иеремией, князь, встретившись с глазами его, смутился, отвернулся даже, а когда поглядел на свою жертву сызнова, увидал: кузнец улыбается. И, наливаясь снежной белизной, князь Иеремия поднялся на ноги и, сжав маленькие злые кулачки, крикнул:
– На крест иисусика! На крест!
Палачи тотчас соорудили крест, и кузнеца прибили гвоздями за руки, за ноги, и поставили крест возле частокола, который был теперь живым частоколом.
Тот, кто шел за кузнецом, вырвался из рук стражников и пополз к княжескому помосту на коленях. Полз и грыз зубами землю.
Человека этого стражники подняли, поставили, он обгадился и никак не хотел поглядеть князю в глаза. Тотчас один из стражников саблей поднял ему подбородок, и человек, изогнувшись, лизнул саблю.
– Этот пусть живет, – сказал князь Иеремия.
Человек рухнул на колени и пополз с площади, целуя землю и посыпая голову песком.
Следующий был парубок. Он видел, как трусость спасла перед ним человека. Когда парубка повели, он рухнул на колени, но сам же и вскочил. Перед князем стоя, гнулся, гнулся, а потом выпрямился, поглядел соколом, да тотчас и отвел глаза. И опять их вскинул!
– Как ему хочется жить, но ведь и человеком хочется остаться. – Князь сам закрыл глаза, достал платок, вытер лицо.
– Каково будет решение? – спросил пан Машкевич.
– Пусть отрубят ему руку. Нет! Обе руки!
И понял, что его трясет. Встал.
– Всем остальным пусть отрубят левые руки, – поглядел на пана Машкевича, и тот быстро опустил глаза перед князем. – Пусть рубят через одного.
Пан Гилевский, завернув князя Дмитрия в одеяло, носил его по комнате, тот уже и не бился у силача на руках, а жалобно просил:
– Отпусти меня! Дай мне убить его. Он ославил род Вишневецких. Мы отныне не князья, а палачи.
Пан Гилевский ходил по комнате взад-вперед, со всем соглашаясь, что говорил ему князь Дмитрий, но не отпускал.
И князь Дмитрий сдался:
– Уедем отсюда! Уедем в Молдавию. У меня есть свой виноградник в Котнаре. Уедем.
– Уедем, – согласился пан Гилевский и поставил князя на пол.
Князь покорно ждал, когда его распеленают. Сел к столу, стуча зубами о край ковша, выпил воды.
– Я и подумать не мог, что люди творят такое над людьми. – Плеснул из ковша на руку, умылся. – Надо позвать слуг, пусть приготовят нас в дорогу.
Небо – синий купол. Под небом зелено.
Трава стояла в пояс. Цветы расшивали ее и наряжали, и казалось, что весь этот мир радуется, что люди оставили его в покое.
«Господи, уж не конец ли света приходит?» – подумала пани Мыльская, прикрывая глаза веками.
Тотчас поплыло в мозгу алое, синее, золотое – цветы полевые.
– Что же люди-то думают над своей головой?! – сказала вслух, передернув плечами от внезапного ледяного озноба.
– Ты про что? – спросил Павел.
– А вот про то, – она показала на траву. – Сколько мы земли проехали, а нигде ничего не посеяно, не посажено.
– Чем хуже, тем лучше! – Павел щелкнул вожжами. – Сами себе бунтари погибель устроят. Перемрут от голода, как мухи.
– Дурень ты, право! – в сердцах сказала пани Мыльская. – Бунтари те же работники. Перемрут они, и нам с тобой помирать. Тоже ведь ничего не посеяли… А трава рада стараться, вмиг поглотила поля.
– Она только и ждет, чтоб человек спотыкнулся. Хата не успела сгореть, а крапива – уж вот она – растет, аж скрипит!
– Безобразие человеческое скрывает. Останови-ка! – сказала пани Мыльская сыну. – Тише!
Все затаились, вслушиваясь в тишину степи. Но тишины не было. Гудели шмели и пчелы, звенели осы, сверкал голосок неведомой птицы. Что-то стрекотало, что-то скреблось, царапалось, посвистывало.
– Ничего не слышу, – тревожно завертел головой Павел.
– Ты не погоню слушай. Слушай, как земля живет.
– Фу-ты! – перевел дух Павел. – Испугала.
Свернул лошадей с дороги.
– Придется в село заезжать. Последнюю краюху хлеба съели вчера днем, – сказал Павел, ожидая, что ответит мать.
Пани Мыльская пошла по траве, трогая пальцами головки цветов. Сын, глядя матери вослед, распрягал лошадей. Ехали всю ночь, пора было и на покой.
Степь привела пани Мыльскую к обрыву. Внизу, как в чаше, которая была до краев налита голубым воздухом, словно серебряное колечко, сверкало белизною хат украинское село.
Пани Мыльская приметила тропинку и пошла по ней вниз. И как только верховой ветерок оставил ее волосы в покое, она услышала:
Ой, на Ивана на Купайла
Где ты, Александра, ночевала?
Ой, ночевала я, дивоньки, под грушкою,
Ночевала, дивоньки, с Иваном, с душкою.
Ой, ночевала я, дивоньки, под явором
С тем Иваном, дивоньки, со дьяволом.
Пани Мыльская затаилась, высматривая песню. Увидала.
Слева от тропинки – распадок. В распадке ровная белая площадка: из криницы песку нанесло.
Поставили девушки посредине той площадки вишневое деревцо – видно, не родило, вот его и срубили. Украсили вишенку венками, а сами вокруг хороводы водят и поют купальские песни.
Ой, за нашим садком
Три месяца рядком, —
пела девушка, а подруги подхватывали:
Ой, яворе-явореньку зелененький,
Туды ехал казаченько молоденький…
Пани Мыльская, стараясь не нашуметь, повернула и пошла к своим. Разбудила Павла:
– Поехали в село. У них, видно, не бунтуются. Парубки с дивчинами Купалу справляют.
Они попросились в крайнюю хату.
К ним вышли пожилая женщина и две молодухи: одна, видимо, дочь, другая – сноха. Молодухи сдвинули три жердины, давая лошадям въехать во двор. Двор был чисто выметен, полит водой от пыли.
– Беглецы, – сказала женщина твердо. – Господи, не приспел бы наш черед по свету мыкаться.
Сноха что-то пошептала свекрови на ухо.
– Ну и нехай жиды! – сказала хозяйка строго. – Проходите в горницу А ты, Анфиска, чем на ухо шептать, поди собери на стол.
Обедать хозяйка села вместе с беженцами, спросила:
– Далеко ли путь держите?
Пани Мыльская черпнула ложкой из чугуна, отведала. Еда была простая, но вкусная.
– Сами теперь не знаем, куда едем, – сказала она, набирая новую ложку, поняла вдруг, как стосковалась по домашней еде. – От войны бежим, а война уже и позади, и впереди… Помыкаемся, наверное, помыкаемся да и поедем на свое пепелище. Хоть помереть-то дома.
– Да-а, – сказала хозяйка и вскинула глаза на дочку: – Анфиска где?
– Хвостом вильнула – да и была такова.
– Дождется она у меня! – в сердцах сказала хозяйка. – Вы днем-то поостерегитесь ехать. В нашем селе то же самое, что и всюду.
Поели. Пани Мыльская достала серебряную монету, подала хозяйке:
– За хлеб-соль вашу.
Хозяйка взяла монету, повертела в руках.
– Больно дорого похлебку мою ценишь. Ну да ладно, возьму твой дар. Скоро дочку замуж выдавать. Только и на свадьбах ныне невесело. Сегодня повенчались, а завтра его, глядишь, уже и везут – голова в ногах.
Дочь вздохнула, вышла из хаты, принесла два старых снопа.
– Ложитесь, поспите… Ныне и погулять людям опасно.
– Пойду лошадей напою, – сказал Павел, ему хотелось оглядеться.
– Дочка лошадей твоих напоит, – сказала хозяйка.
Делать было нечего. Павел взобрался на печь. Достал на всякий случай оба пистолета.
Хозяйка медлила уходить:
– Я сказать-то вам что хочу. Вы к Вишневецкому не езжайте. Вишневецкого казаки все равно поймают и в клочья разорвут. Столько от него беды! Послушаешь – сердце заходится. В котлах варил детишек, руки сечет, глаза колет, на колы сажает. Пустеет от него земля.
– Далеко ли он, Вишневецкий? – спросил Павел.
– Верстах в десяти от нас днями прошел.
У Павла сердце так и екнуло. Десять верст всего!
– А давно? – спросил Павел равнодушным голосом.
– Да позавчера. В Погребищах теперь кровавую купель людям устроил. Никакому басурману в злобе за ним не угнаться. А ведь терпит его Господь Бог. И Богоматерь, заступница наша, – терпит. Видно, с дьяволом у него договор. Право слово.
И только хозяйка положила руку на дверь, чтобы выйти из хаты и дать людям покою, как дверь распахнулась, и, толкнув хозяйку плечом, ввалился в горницу казак, а за ним еще пятеро.
– Хе! Сколько тут панского мяса, а у меня собаки не кормлены! А ну-ка, брысь все во двор!
Хозяйка взяла вдруг левою рукой казака за ухо, ухо перекрутила да и потянула героя к образам, а возле образов осенила себя правою рукой крестом и поклялась громким голосом:
– Да наполнятся темною водою глаза того, кто в доме моем позарится на чужую жизнь. Господи праведный! Богоматерь – надежа наша! Да пусть молитва моя станет волей Твоей!
Отпустила ухо, сняла икону да и перекрестила сначала казака той иконой, а потом и дружков его.
Попятились казаки да и затворили за собой дверь.
– Отдыхайте, – сказала хозяйка беженцам. – Пойду Анфису крапивой настегаю. Она привела моего крестника. Душегубство – болезнь заразная.
– Душегубство – болезнь заразная, – сказала пани Мыльская сыну.
Они пристали наконец к огромному табору. Голова этой чудовищной змеи металась от города к городу, от села к селу с единственной целью – ужалить. Табор-тело катил за головой в полной безысходности. Сам по себе он существовать не мог, а идти ему приходилось по отравленной болью земле. Горьким было небо, черное от пожарищ, приторно-сладкой земля от неистребимого трупного запаха.
В таборе беженцев собралось более семи тысяч детей и женщин. На князя Вишневецкого молились.
– Он строгий! Он наведет порядок в стране!
В звезду князя Иеремии верили в Варшаве.
Во львовских костелах шли заздравные молебны о князе и его рыцарях. Проповедники бушевали на кафедрах, выбивая речами слезы и опустошая кошельки прихожан. Деньги собирали на армию, но если паненки были щедры на милостыню, то их мужья не торопились отправить под знамена ни слуг своих, ни тем более холопов.
Пани Ирена Деревинская на правах беженки, потерявшей состояние, была принята в избранный круг Марии Фирлей. Здесь любили разговоры о таинственном и превыше всего ценили дух рыцарства.
Князь Вишневецкий стал кумиром Марии Фирлей, а значит, и пани Ирены. Ее и приняли-то в этом доме лишь потому, что она лично знала князя Иеремию.
– Вот кто должен быть командором Мальтийского ордена! – воскликнула однажды пани Фирлей.
– Кто же? – Пани Деревинская сделала вид, что не поняла.
– Князь Иеремия!
– Простите мое невежество, но я почти ничего не знаю о Мальтийском ордене, – призналась пани Ирена.
Она и вправду ничего не знала об этом.
Пани Фирлей охотно пришла ей на помощь.
– Лет сорок тому назад, – объяснила она, – князь Януш Острожский учредил майорат в пользу старшей дочери, которая была замужем за Александром Заславским. По прекращении потомства Заславского в прямом поколении майорат должен был перейти в дом Януша Радзивилла, женатого на младшей дочери князя Острожского, а по прекращении обеих линий майорат образовывает командорство Мальтийского ордена. Младшая дочь Острожского умерла несколько лет тому назад…
– Но для чего это? – удивилась пани Ирена. – Для чего Речи Посполитой терять свои земли? Какова от командорства польза?
– Ах, мы только и думаем о пользе! – обиделась пани Фирлей. – Эта постоянная забота о себе привела к тому, что никто всерьез не хочет помочь Вишневецкому, и он один вынужден противостоять крымскому хану, казакам, взбунтовавшейся черни, да еще и разбойникам из своих же шляхтичей, которые действуют под маской «людей Хмельницкого».
– Вы имеете в виду Радкевича?
– Вот именно! Под видом запорожцев он разорил в местечке Сквире имение Замойских.
– Эта история действительно не делает чести польской шляхте.
– А вы еще говорите, зачем майорат? – воскликнула пани Фирлей, разглядывая в зеркале свое изумительно белое лицо совершенной, отрешенной, неземной красоты. – Почему я не мужчина?! Я отдала бы полжизни, лишь бы стать командором. Командор!
Она несколько раз повторила слова: командор, кавалер.
– Вас завораживают слова, – сказала пани Ирена.
– О нет! Меня завораживает тайна. Тайная власть над миром… Вы думаете, миром правят короли?
– Мне никогда не приходило в голову думать об этом, – улыбнулась пани Ирена. – Миром правит Бог!
– Но Мальтийский орден создан промыслом Божьим. Мальтийский орден – почка от ордена святого Иоанна Иерусалимского. Когда были утрачены святые места, еще в древности, орден пребывал на Родосе, а по утрате Родоса получил от императора Карла V Мальту. Невидимые нити связывают Мальту со всем миром, со всеми европейскими дворами!
– А зачем вам это? – спросила пани Ирена осторожно, у нее у самой сердце билось звончее, чем всегда.
– Чтобы жизнь не прошла впустую. – Пани Фирлей посмотрела в глаза пани Ирене. – Жить – это влиять на волю. На волю людей, на Божественную волю. Молитвами можно влиять и на Божественную волю.
– Как я хочу быть с вами всегда! – воскликнула пани Ирена.
– Так будьте же! – ответила пани Фирлей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.