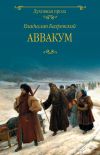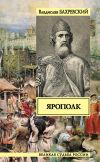Текст книги "Люба Украина. Долгий путь к себе"

Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 59 (всего у книги 63 страниц)
Принесли серебряную братину с медом. Ему очень хотелось пить, но он позволил себе один большой глоток и потом только пригубил. Мед ему подали вишневый, выдержанный, настоянный на кореньях и травах.
– Спасибо, – сказал Тимошка, возвращая братину.
Прислонился плечом к стене, закрыл глаза.
Задремалось вдруг.
Увидал он себя на влажной весенней земле. Ножки, как у теленка, которого только-только из-под коровы в избу принесли, подгибаются, вихляют. Но он бежит счастливый, держа в ладошке лазоревое пасхальное яйцо. Парни и девки затеяли уже обычную игру, целят попасть яичком в лунку. «Кидай! Кидай!» – кричат они ему, смеясь. А он бежит! Бежит, захлебываясь от смеха, от своего озорства, потому что он собрался подскочить к самой лунке и бросить свое лазоревое яичко наверняка.
– Проснись!
Он проснулся. Перед ним стоял в шелковой бороде, в боярской собольей шапке, в золотой шубе на соболях любимец Москвы, самый родовитый в государстве – Никита Иванович Романов.
Тимошка вскочил с лавки, поклонился боярину со смирением и охотой. Склоняя голову, Анкудинов приметил в глазах Романова живинку интереса, принял ее на свой счет и ошибся. Романов был охотник до немецкой одежды, и ладный европейский Тимошкин кафтан пришелся ему по вкусу.
– Назови себя, кто ты есть и какого звания? – предложил ему свой прежний вопрос Богдан Матвеевич Хитрово.
– Я есть сын человеческий, – ответил Тимошка, глядя в переносицу Никите Ивановичу. Ему очень хотелось привлечь на свою сторону именитого боярина, и он бы завлек его, как завлек Богдана Хмельницкого, Ракоци, королеву Христину, великого визиря, но кто же ему даст здесь разговориться по душам? И, озлясь вдруг, он вскинул гордую голову и кивнул писарям: – Что же касается до титулов моих и до моего природного звания, то я есть сын царя Василия Ивановича Шуйского.
– Ты есть сукин сын! – возразил ему князь Долгорукий.
А подьячий объявил спокойно, как делают обычную свою работу:
– Ты есть сын Дементия Анкудинова, бывшего в Вологде продавцом полотна. Покойный великий князь Василий Иванович Шуйский был бездетен. Родные братья великого князя Иван Иванович и Дмитрий Иванович Шуйские не оставили по себе наследников мужеского пола. Все три брата Шуйских, вместе с патриархом Филаретом Никитичем, были в заточении, в Польше. Василий Иванович и Дмитрий Иванович умерли, не обретя свободы, а младший из Шуйских, Иван Иванович, вместе с патриархом Филаретом возвратился в Москву. Умер Иван Иванович уже в царствование государя и великого князя Алексея Михайловича. Был на Руси еще один князь Шуйский, брат Ивана Федоровича Шуйского, отца царя Василия Ивановича, а именно князь Василий Федорович. Князь Василий Федорович имел одного сына, знаменитого Михаила Васильевича Шуйского-Скопина. Михаил Васильевич умер скоропостижно, не оставив наследников. Таким образом, род князей Шуйских пресекся.
– Что бы мне ни говорили, я знаю, кто я есть, – сказал Анкудинов следователям. – Хочу слышать, что скажет боярин Никита Иванович, ибо слово его всей Москве дорого.
– А то и скажу, – ответил Никита Иванович, – всяких я молодцев видывал, но ты – из воров вор.
С тем боярин удалился, а Тимошке объявили:
– Пожалуй-ка на дыбу! Может, позабудешь свои сказки, а правду вспомнишь.
И когда затрещали у Тимошки кости, взмолился он. Палач слегка облегчил муку, чтобы несчастный мог говорить. Тимошка сказал с дыбы:
– Объявляю: я человек убогий. Приношу мою вину государю.
– Кто твои отец и мать? – спросил князь Долгорукий.
– Из каких людей отец и мать мои, не упомню, мал я остался, когда они померли. Архиепископ Варлаам, вологодский, у которого я жил с малых лет, видя мой ум, называл меня Царевой палатой. Это прозвище запало мне в голову, стал я о себе думать, будто и впрямь я – честного человека сын. После жил я в Москве у дьяка Ивана Патрикеева, сидел в Новой чети. Когда с Патрикеевым беда приключилась, я от страха бежал в Литву, назвавшись Иваном Каразейским.
– Кто же научил тебя называться князем Шуйским? – спросил Хитрово.
– Отец мой Демка. А родной ли он мне или приемный, того не ведаю.
Тимошке подпалили пятки огнем, он закричал, но после такой подлой пытки отвечать на вопросы не пожелал. Его сняли с дыбы, усадили на лавку.
– Будешь ли свой мед пить? – спросил с издевкой Хитрово.
Тимошка кивнул. У него хватило силы пить маленькими глотками. Потом он достал белоснежный платок и промокнул со лба и в глазницах ледяной пот.
В пыточную палату привели монахиню. Увидав Тимошку, она, согнувшись вдвое, зарыдала.
– Кто этот человек? – спросил у монахини Хитрово, тыча пальцем в Тимошку.
– Мой сын! – ответила монахиня.
– Узнаешь ли ты мать свою? – спросили Тимошку.
Он сидел, опустив голову, боясь не только языком – мыслью шевельнуть. Словно из-под глыбы льда, оттаивая от боли. Молчание затягивалось.
«Не ломают костей – и доволен, – подумал Тимошка. – Мог бы за границей тишком до глубокой старости дожить, сам ведь не хотел тишковатой жизни. Чего же теперь муки свои продлевать?»
Когда у бояр-следователей терпение кончилось, он поднял глаза на монахиню и спросил ее:
– Как тебя зовут?
– В мире звали Соломонидкою, а постригши нарекли Стефанидой.
– Признаешь, что это мать родная твоя? – спросили Тимошку.
Он, улыбаясь, покачал головой:
– Не надо меня запутывать. Эта старица мне не мать, а матери моей родная сестра. Была она мне, впрочем, вместо матери по своей природной доброте.
– Кто был твой муж? – спросил Долгорукий монахиню.
– Демка, его, Тимошкин, отец. Занятия муж мой имел разные. Полотном торговал, служил у архиепископа Варлаама.
– Сколько лет твоему сыну? – спросили монахиню.
– В Вологде он у меня родился. Теперь, стало быть, ему тридцать шесть лет.
– Поговори со своим чадом, может, образумится, – сказал монахине Хитрово.
И бояре уехали обедать.
Монахиня снова зарыдала, припав к Тимошкиной груди. Ему было больно. Он поморщился и тут же решил, что гримаса пришлась кстати. Пусть глазастый подьячий поломает потом голову.
От монахини пахло хлебом, видно, таково было монастырское ее послушание – хлебы печь.
– Мне больно, – сказал он, отстраняясь.
Она смотрела на него и плакала. Вот он, сын ее, красивый, как ангел! Умный, осанистый, боярам по обхождению ровня. Да что делать, государю царю дорожку перебежал. Коли не смирится, казнен будет без всякого снисхождения.
– Тимоша, – шептала мать, – да неужто свет тебе не мил?! Соглашайся со всем, что бы тебе ни сказали. Всю вину свою отдай государю. Винись и моли! Царь у нас молодой, сердцем мягкий, но и ты не будь к матери своей, к самому себе не будь жестокосерд!
Тимошка запечалился, и печаль его показалась всем искренней. Вдруг он сказал:
– Ну, довольно тебе, старица Стефанида! Скажи лучше, где матушка моя. Пусть ее пришлют сюда, чтоб могла свидетельствовать о том, что был я в вашей семье приемышем.
Мать всплеснула руками, разрыдалась. Она знала одно: упрямство сына приведет его на плаху.
Но Тимошка уже выбор для себя сделал. Бедная монашенка, пахнущая родным хлебом, помогла ему сделать этот выбор.
Кто же отпустит на свободу человека, неугодного самому царю? Если и даруют жизнь, то искалечат. Зачем жить тому, кто все уже совершил, для чего был рожден, а рожден он был – укорить родовитых людей и царя самого укорить в неправде жизни. Так пусть же останутся в душах всесильных сомнение и беспокойство.
Монахиню увели.
– Образумься! – крикнула она ему напоследок.
Он ободряюще улыбнулся ей и опять попросил пить. Ему подали серебряную чашу, он напился, мечтая о передышке, но ему тотчас представили еще двух посетителей: отрока лет десяти-одиннадцати, второй был писец Иван Песков, единственный добрый друг в прежней московской жизни.
– Слышал я, князем себя именуешь! – зашумел на Тимошку Песков. – Не довольно ли ложью пробавляться? Погляди на сына своего! Это же Сережка, сын твой. Подкинул мне – и был таков! Как видишь, не выгнал из дому дитя твое единокровное, рощу. Да только по твоей подлости пала мне на голову государева высочайшая немилость, от службы – отставили. Разве что не побираюсь. Тимошка, опомнись! Себя не жалко – сына пожалей. Твоя ведь кровь. Твое единственное честное, неуворованное наследство.
Тимошка засмеялся:
– Ты забыл, Иван, что Сережку не жена моя родила, а женина служанка.
И отвернулся, не слушая укоризн.
– У тебя и дочь есть. Ее-то не забыл? – кричал Песков. – За что же мне доля такая – детей вора и погубителя моей жизни хлебом-солью кормить?
Но Тимошка даже вослед сыну не поглядел.
Приводили приказных подьячих, писцов и просто знакомых, опознававших Анкудинова, но он ни с кем не поздоровался и никого не пожелал вспомнить.
Тогда привели и поставили перед Тимошкою друга его по заграничным бегам Костьку Конюхова.
– Говори! – приказали Костьке.
Он принялся за свой рассказ, опустив голову, а потом распалился и уже на Тимошку не боялся глядеть, хоть глаза в глаза.
– Спознался я с Тимошкой, как сидел в Новой четверти в подьячих. В те поры я жил и ел в его доме. Задурил он мне голову сказками про царскую жизнь, в Литву звал. И побежали мы на ночь глядя из Москвы. Дочь и сына Тимошка к Ивану Пескову отвез, а дом с женою запер и сжег. Побежали мы в Тулу, наняв тульского извозчика. А из Тулы проселками, мимо застав, ушли в Новгород-Северский. Оттуда нас отвезли в Краков, к польскому королю. Тимошка в те поры назывался – Иваном Каразейским, воеводою вологодским и наместником великопермским. В Литве нас не больно хорошо приняли, и подались мы к молдавскому господарю, а оттуда в Царьград. В Царьграде Тимошка басурманился.
– Верно говорит Костька али брешет? – спросили следователи Анкудинова, но тот молчал.
Тогда Тимошку освидетельствовали и увидали, что он обрезан.
Рассказал Костька про все их заграничные мытарства и про жизнь у Хмельницкого говорил:
– Гетман держал Тимошку в чести, а Выговский был ему большой друг. Он-то и написал к Ракоци прошение, чтоб тот к шведской королеве о нем, о Тимошке, доброе написал. Ракоци Выговского послушал, отписал королеве Христине, и королева Христина Тимошке поверила. В Швеции Тимошка принял лютеранскую веру, как у папы в Риме сакрамент принимал. А я, Костька, вере христианской не изменял – не басурманился, панежской и лютеранской ересью не соблазнился… Тимошка звездочетные книги читал и остроломейского ученья держался!
– Ну, чего ты так стараешься? – сказал Тимошка Конюхову и обратился к подъячему: – Запиши! Верно он говорит: от православия нигде не отпал Костька. Геенны огненной он боится.
– А ты не боишься? – спросил Хитрово.
– Я боялся не свою жизнь прожить.
– Вот и жил, чужое имя позоря.
– А про то тебе, боярин, не понять. Своей жизнью умному человеку на родине моей не позволяют жить.
Разговор и впрямь пошел непонятный, а потому пытка и очные ставки были окончены.
Тимошку отвели в отдельный каземат, и он, оставшись один, тотчас лег и заснул. Под утро ему начал сниться сон.
Увидал он себя на влажной весенней земле. Ножки, как у теленка, которого только-только из-под коровы в избу принесли, подгибаются, вихляют. Но он бежит счастливый, держа в ладошке лазоревое пасхальное яйцо… Тот же самый сон. Точь-в-точь!
– Вставай! – над ним склонился монах. – На молитву пора.
Тимошка сел, поежился от холода, потер ладонями лицо.
– Какому Богу молиться прикажешь? – спросил так буднично, словно спрашивал, перед какой иконой свечку поставить.
– Бог един! – Монах поперхнулся попавшей в дыхательное горло слюной.
– Это для тебя, дурака, Бог един! – Тимошка беззлобно улыбнулся. – А я все веры перепробовал, и ни одна от пытки и скорой смерти, как сам видишь, не уберегла.
– Свят! Свят! – монах крестил углы, крестил Тимошку, сам крестился.
– Никуда теперь от дьявола не скроешься! – Тимошка засмеялся, вполне довольный бегством святого отца, но спать ему не дали.
Пришел подьячий, велел идти на очередную пытку.
Впрочем, обошлось без кнута, без дыбы, без иного мучительства. Тимошке задавали бесконечные вопросы, но он молчал, не слушая, что ему говорят.
Он понимал – это последний час его земной жизни. Кто же знает, есть ли жизнь небесная, когда в разных землях люди веруют по-разному, а то и совсем разным богам?
Его смущало одно: проходят последние минуты жизни, но он чувствует, видит, живет все так же буднично, и все кругом буднично: скрипит пером писец, зевает подьячий, палачи дремлют в уголке, их работа сегодня впереди. Дьяк, задающий вопросы, торопится, глотает слова – исполняет пустую формальность и не скрывает этого. Неужто и впрямь он, Тимофей Дементьевич Анкудинов, никак не интересен людям? Ведь он столько повидал, другого в Москве такого нет…
Оборвал ниточку мыслей, они сплетали хитрое кружево, вели к тому, чтоб пожалел он себя, Тимошку. А чего жалеть! Жизнь, может, прожил он и подлую, но зато уж не сермяжную, не постылую, какую все тут вокруг него тянут, страшась его жизни, а в глубине души люто завидуя.
Дьяк кончил писать.
– На Лобное место, что ль, теперь? – спросил Тимошка насмешливо.
Дьяк вздрогнул, опустил глаза, и никто не посмел на взгляд его ответить взглядом.
10Снег отволг, небо, как шерстяным платком, закуталось в серые, сочащиеся влагой облака.
– Тепло, – сказал Тимошка Костьке, которого тоже вели на казнь.
Народу перед Лобным собралось немного. С высоты помоста Тимошке были видны люди, суетящиеся в торговых рядах. Люди покупали, продавали… У каждого было свое дело. А его дело – помереть на глазах зевак.
Он собрал все силы, призывая на помощь весь свой магнетизм, и засмеялся: экая глупость лезет в голову. Дьяк, читавший длинную перепись его бесчисленных грехов и преступлений перед Богом, царем, перед русскими людьми, покосился на него. В толпе зашептались: «Не боится!» Тимошка повернулся к Костьке Конюхову:
– Ты не жалей, – сказал он ему. – Ни о чем не жалей.
Костька дернулся, отворачиваясь от бывшего своего господина и друга.
– Не бойся, – улыбнулся Тимошка. – Моя болезнь не заразная!
В это время дьяк кончил читать о нем, об Анкудинове, и он, пропустив приговор, глянул на палачей:
– Голову отсечь или четвертовать?
Палачи молчали, а в народе зашикали: «Экий неспокойный!»
Дьяк прочитал приговор Костьке Конюхову. За добровольное признание и принесение вины государь даровал ему жизнь, но ввиду его клятвопреступничества по отношению к его царскому величеству приговор гласил: отрубить Костьке с правой руки три пальца. Однако же по ходатайству его святейшества патриарха Никона, дабы мог Костька креститься правой рукой, государь оказывал еще одну милость: отсечение должно произвести на левой руке. Жить Костьке после казни надлежало в сибирских городах.
Палачи подошли к Тимошке, стали его раздевать.
«Как ребенка», – подумал он и побелел. Превозмог себя, улыбнулся Костьке, единственно близкому человеку.
– Вот видишь, и здесь я первый. Ни о чем не жалей!
Палачи запрокинули Тимошку навзничь, кинули на землю и тотчас отрубили правую руку до локтя и левую ногу до колена.
Тимошка не закричал.
Отсеченные руки, ноги, голову воткнули на колья, тело оставили на земле, чтоб ночью его сожрали бродячие собаки.
Часть седьмая
Воссоединение
Глава первая
1Гетман Войска Запорожского Зиновий-Богдан Хмельницкий плакал. Он плакал беззвучно, как плачут одинокие старики.
Многое дозволяется гетману: он может казнить и миловать, может бежать с поля боя или забрать себе львиную долю общей добычи – казаки простят, ибо знают, что он такое для Украины – Богдан Хмельницкий. Не дозволяется гетману одного – быть человеком, как все. Нельзя ему поехать в Чигирин, похоронить милого сына, надежду свою, свою корысть к будущему, потому что такого будущего, которое он задумал, уповая на Тимоша, не будет. У Юрка – сердце женщины, Юрко Тимоша не заменит.
Ни одной слезы не обронил гетман по старшему сыну. Он предчувствовал беду и, узнав о беде, умер душой.
Богдан не боялся слабость свою перед казаками выказать, слезы на людях он проливал. Всякие бывали у него слезы – искренние, как биение сердца, и лукавые. А вот убили Тимоша, и не случилось у отца слез. Он этих слез ждал, как пахарь ждет дождя для поля.
Слезы пришли к нему во сне. Он проснулся оттого, что текло по шее. Лицо было мокрое, но Богдан не отер свои слезы, он даже не пошевелился. Лежал, дожидаясь утра, и глядел перед собой, горюя бессловесно.
2Войска хана и гетмана с одной стороны и войска короля – с другой стояли друг от друга более чем в сотне верст. Хмельницкий – в Баре, Ислам Гирей – под Зинковом, Ян Казимир – возле Жванца. Стояние длилось более месяца и грозило затянуться на неопределенно долгий срок.
Король пришел под Каменец-Подольский, чтобы заградить казакам и татарам путь на Молдавию, а при удачном стечении обстоятельств самому двинуться в глубь Украины и восстановить угодный шляхте порядок.
План Яна Казимира осуществился только наполовину. Богдан Хмельницкий не смог оказать помощь сыну Тимошу. Тимош погиб, Василий Лупу бежал, союз между казаками и Молдавией был разрушен. Получив помощь от короля, новый господарь Стефан Георгий, втайне уповая на покровительство православной Москвы, в действительности становился союзником католической Польши. Ян Казимир притянул к этому союзу и трансильванского князя Ракоци. Еще до событий в Сучаве король отправил к Ракоци посла с приглашением напасть на Хмельницкого, ложно сообщая князю о том, что Москва отказалась от дружбы с гетманом ввиду его вероломства.
Запоздалый рейд казаков и татаро-черкесского отряда Шериф-бея на помощь осажденной Сучаве был не бесполезен для Украины.
Татары и черкесы отбили у молдавско-венгерского войска, шедшего на соединение с королем, обоз и лошадей.
Король обещал Стефану Георгию и Ракоци разрушить союз между ханом и казаками. Увидав же перед собой страшное для них татарское войско, венгры и молдаване поспешили убраться восвояси.
У Яна Казимира было пятьдесят тысяч шляхетского ополчения и пятнадцать тысяч шведских наемников. Силы явно недостаточные, чтобы атаковать Орду и казаков. Король вынужден был стоять на месте, уповая на хитрости дипломатии.
Погода была такая, какой и положено быть в октябре. Шли дожди, дули холодные ветры. Укрыться за стенами Каменец-Подольска на теплых квартирах король не мог. В Каменец-Подольске прошел мор. Король поэтому отступил под Жванец, за реку – от заразы подальше.
Хмельницкий несколько раз обращался к хану с предложением нанести польскому войску сокрушительный удар. Ислам Гирей, делая вид, что согласен с гетманом, посылал королю письма, предлагая сразиться. Письма хана выглядели предупреждением о возможности со стороны союзников активных действий.
Сокрушать польского короля Ислам Гирей не собирался, но долгостояние ему наскучило, и он прислал к Хмельницкому Сефирь Газы с наказом, чтоб гетман шел в Гусятин, ближе к королю. Хмельницкий понял замысел Ислам Гирея. Хан нацелился захватить королевские обозы, отрезать королю дороги на Польшу. Близилась зима, и хан, обрекая войско на голод, хотел заставить Яна Казимира начать переговоры.
Маневр казаков и Орды оказался для поляков нежданным. Не только весь польский обоз попал к татарам, но и казна, которую везли из Польши, чтоб король смог заплатить наемникам и поднять их боевой дух.
Ученый под Берестечком, Богдан Хмельницкий к хану теперь сам не ездил. Отправил Ивана Выговского, в который раз предлагая атаковать лагерь Яна Казимира. В подарок послал соболей и соболью шубу. Хан съязвил:
– Что-то ныне в Чигирине русских соболей стало много!
Про себя Выговский подосадовал на оплошность с подарком и, однако, затеял опасный в своей откровенности разговор начистоту:
– Московский царь потому щедро платит Хмельницкому, что гетман умеет тебя, великого хана, отговорить от похода на московские города. Каждый доит свою корову.
Ислам Гирей засмеялся, принимая шутку:
– Хмель хитрый! Все хитрые! Я дою польскую корову, турки доят крымскую, вы – московскую, но где же доильщик на чигиринскую?
– Великий хан, – в голове Выговского задрожали обида и горечь, – ты погляди на Украину! Когда-то это и впрямь была корова с шелковой кожей и с тяжелым выменем. Ныне сквозь кожу все ее косточки наружу торчат, а вместо вымени у нее – одни высохшие кровоточащие соски.
Хан нахмурился:
– С чем ты приехал ко мне от гетмана?
– А с чем можно от Хмельницкого приехать? – сказал печально Выговский. – Я приехал к тебе, великий хан, с просьбой о милости. Король ныне совсем плохо стоит. В его стане бунты, его солдаты разбегаются. Гетман просит тебя, великий хан, идти под Жванец вместе с казаками и пленить короля.
Ислам Гирей сделал вид, что думает.
Повернулся к молчаливому Сефирь Газы, присутствовавшему на встрече.
– Каков будет твой совет?
– Надо еще постоять, король сам пощады запросит, – тотчас ответил Сефирь Газы.
– Погода плохая. Плохо воевать. Подождем, – согласился со своим советником Ислам Гирей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.