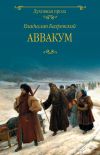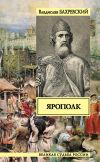Текст книги "Люба Украина. Долгий путь к себе"

Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 61 (всего у книги 63 страниц)
Вот и встретились Тимош и Богдан.
– Прости меня, сын! То не я на помощь тебе не поспешал, то судьба встала между нами.
Снежное лицо сына, устремленное в бесконечность, было прекрасным, да только красота эта для жизни была негодной.
– Сыночек! – опускаясь на колени, шепнул Богдан непривычное для себя, неказачье слово: в суровости казаки детей своих растят.
Поклонился отец сыну – горек и безутешен был тот поклон.
– Я два дня уж как в Чигирине, – попробовал Богдан объясниться. – Мор по Суботову прошел. Пока дымом все окурили, сам понимаешь… Ну, теперь спокоен будешь. Не мог я отпустить тебя, в лицо тебе не поглядев. Спи, сын! Да уж и недалек тот день, когда встретимся.
Богдан встал, дал знак священнику, чтоб начинали последний обряд.
3На следующий день был отпуск послам. Стрешневу гетман прислал в подарок лошадь, лук и деньгами – шестьдесят четыре ефимка, Бредихину – лошадь, лук и сорок один ефимок.
Со знаменем, трубою и литаврами московских послов провожали Юрий Хмельницкий, Иван Выговский и с полсотни казаков. Версты три провожали.
Переправились послы через Днепр в городе Бужине 31 декабря. На целый день в Бужине задержались, по Днепру шел большой лед. Река готовилась стать на зиму.
В пространном отчете о посольстве Стрешнева-Бредихина есть и такая запись: «А что послано государева жалованья гетманову большому сыну Тимофею Хмельницкому два сорока соболей по пятьдесят рублей сорок да жене его Тимофеевой сорок в пятьдесят рублев, и те соболи гетману не даны, для того что сына его Тимофея в Сучаве не стало, а жены Тимофеевой в Чигирине нет».
Роксанда встретила тело мужа, оплакала свою судьбу и в тот же день отправила к Богдану Хмельницкому своего человека, прося гетмана отпустить ее домой.
Да только где теперь был дом ее? В Яссах сидел Стефан Георгий, свергший с престола отца, убивший мужа, ошельмовавший брата… Чигирин для Роксанды тоже не стал домом родным.
Богдан Хмельницкий задерживать невестку против воли ее не захотел. Он дал ей в управление город Рашков, и Роксанда, получив универсал гетмана, тотчас собралась и уехала с детьми и со всем своим двором проливать свои вдовьи слезы в быстрый Днестр.
Через шесть лет после гибели Тимоша, в 1659 году, престол Молдавии занял брат Роксанды Стефан Лупу. Он послал за сестрой, но казаки прогнали молдаван от Рашкова.
Позже Роксанде удалось переселиться в Молдавию. Там она и погибла вместе с внуками Богдана. Бродячая шайка казаков разграбила ее дом, а всех его обитателей вырезала.
Памятью о Тимоше и Роксанде осталась в Яссах построенная на их деньги церковь Фурмос, что значит «красивая».
4Старик Квач, бывший человек пани Мыльской, а ныне вроде бы и вольный казак, проснувшись поутру, поставил под образами дубовую лавку и лег помирать.
– Зачем жить, если нет ее – жизни! – сказал он своей старухе.
«День мой – век мой» – для удалого казака хорошая присказка, а для поселянина никуда не годная. Поселянин живет ожиданием, все время наперед заглядывая да загадывая. Зимой весны ждет, чтобы поле вспахать. Весною – лета, каким хлеб уродится. Летом – осени: у осени на все крестьянские загадки отгадка. Да и не в том ли тайна жизни, что люди лучшего от нее ждут. Но когда год от года перемены нет, когда стоит у ворот, не уходя, как бык приблудный, война, ждать нечего.
– Разлегся! – зашумела старуха на Квача, и он покорно поднялся с лавки, ушел за печь и затих.
Старуха, бодро повозясь у печи, понесла пойло свинье, задала корму корове, лошади. Курей кормила, гусей. Забыла в делах про деда. Вспомнила, когда завтрак собирать время пришло.
– Старик! – окликнула она Квача. – Есть иди.
Квач не откликнулся, и старуха, перехватив воздуху, замерла, слушая, как там ворохается за печью ее причудливый дед. За печью было тихо.
На цыпочках старуха подкралась к занавеске и отогнула уголок. Квач лежал комочком, сухонький, изжившийся, как отпавший от дерева лист. Устремив глаза в потолок, дед пребывал в такой тоске и неустройстве, что старуха подумала грешным делом: «Не жилец».
Боясь нашуметь, все так же на цыпочках, отошла на середину хаты и тогда только сердито и громко зашумела:
– Ну хватит дурь на себя напускать! Вот пойду к пани Мыльской да и пожалуюсь. Уж она найдет на тебя управу.
– Я о Боге думаю, а ты меня пани Мыльской стращаешь, – с укором, но без жизни в голосе отозвался Квач.
– Ишь лежебока! – не унималась, повеселев, старуха. – Я и не грожусь, я взаправду к пани собираюсь пойти. Вот уж и шубу надеваю.
Квач не откликнулся. И старуха, повертев в руках шубу, оделась, сунула ноги в валенки, вышла в сени, хлопнув, для вразумления старика, дверью.
Постояла в сенях, всплакнула. Да и решилась пойти к пани, наябедничать на упрямца.
Вдруг радостно затрезвонили колокола, бухнула пушка, из ружей пальнули. Старуха кинулась обратно в хату и лоб в лоб сшиблась на пороге со своим стариком.
– Очумелая! Очумелый! – в один голос охнули они друг на друга и разбежались в разные стороны.
Квач, на ходу натягивая шубейку, трусил на волю, а старуха, юркнув в хату, тотчас опамятовалась:
– Куда же это он, умирающий мой!
И пустилась вослед за стариком.
Все Горобцы, от мала до велика, высыпали на улицу. В медленном от торжественности движении колыхалось в золотом блеске шествие.
– А попов-то, попов! – ахала Кума, всплескивая от восторга руками. – Нашего-то и не видать среди них.
– Как это не видать! – обиделись за своего попика односельчане. – Впереди, с крестом.
– О чем это вы, глупые! – как истый воробушек, скакал перед толпою Квач. – То русские пришли! Слава Тебе, Господи, услышал нас! Затворяй, беда, ворота! Затворяй, постылая!
За священством двигались русские бояре и среди них местная знать, встречающие – сотник Мыльский, есаул, писарь.
– Все вернулось на круги своя! – сказала пани Мыльская вслух, когда, занимая место перед алтарем, пан Мыльский стал рядом с московским боярином Бутурлиным.
Она, пани Мыльская, тоже была в первом ряду. Взгляд ее был строг и милостив – так смотрят матери на детей.
Квач тоже был в церкви, где бочком, где всей грудью, а то и по-ужиному – пролез.
Свои и приезжие певчие вместе с голосистыми попами и дьяконами пели ектинью, и все, всем народом в единый глас, молили Бога о государском многолетнем здоровье.
Квач плакал от радости и, толкая соседей, все пытался рассказать им:
– А я-то помирать было лег… Нет, говорю, жизни, неоткуда ее ждать. А жизнь сама к нам пришла.
– Тихо ты! – толкали в бок старика, но он не унимался.
– Чего тихо? Это когда смерть – тихо, когда жизнь – шуми, пой.
Царские послы торопились. Они получили от Хмельницкого письмо. Гетман звал послов поспешать в Переяслав, куда созывались полковники, старшина и казаки для общей рады – слушать государеву грамоту.
531 декабря 1653 года в пяти верстах от Переяслава великое московское посольство встретил переяславский полковник Павел Тетеря, а с ним было шестьсот казаков со знаменем, трубами, литаврами.
Казаки сошли с лошадей, и Павел Тетеря сказал Василию Васильевичу Бутурлину и его людям пышную речь:
– Благоверный благоверного и благочестивый благочестивого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии самодержца и многих государств государя и обладателя его государского величества, великий боярин и прочие господа! С радостью ваше благополучное приемлем пришествие. Давно уже сердце наше горело, услаждаемое слухом, что во исполнение царского обета грядете к нам, чтобы быть нам, православному и преславному Войску Запорожскому, под высокою великодержавного благочестивого царя восточного рукою. Я же, меньшой в рабах того же Войска Запорожского, имею приказ от Богом данного нам гетмана Зиновия Хмельницкого в богоспасаемом граде Переяславе встретить вас и сотворить, со всем войском, содержащимся в граде, нижайшее поклонение. Молю прилежно милостей ваших войти в обители града Переяслава.
– Добрый слуга царю будет, – шепнул о Тетере дьяку Лопухину Бутурлин.
Встреча московским послам нравилась. Саженей за сто от городских ворот стоял коридор казаков с ружьями. Все они пальнули в честь посольства. Саженей за пятьдесят от ворот боярина Бутурлина приветствовал переяславский протопоп Григорий со всем священством города и окрестностей.
Теснился народ, все честные люди вышли встречать Москву, старики, дети, женщины, пришли в город крестьяне из деревень. Все хотели видеть чудо соединения двух родных, разошедшихся в веках народов. И каждый человек, какого бы звания он ни был, на свой лад, но понимал – великие дни пришли, великое дело сотворяется на его глазах.
Посольство прикладывалось к святым образам, принимало кропление святою водой, и потом протопоп говорил, и все, затая дыхание, слушали:
– Радостью исполняемся, удостоенные зреть благополучное благородия вашего от царского пресветлого величества пришествие. О нем же слухом уха услышали мы, меньшие и нижайшие богомольцы ваши, с радостию вышли навстречу, уповая, что пришествием вашим Господь Бог исполнил усердное желание православия нашего о совокуплении во едино Малой и Великой России, чтобы быть нам под единого великодержавного благочестивого царя восточного крепкою рукой.
Под радостные клики народа, под звон всех церквей, посольство проследовало в соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы, где был совершен молебен.
На вопрос послов, где же гетман, Павел Тетеря отвечал:
– Гетман хотел быть в Переяславе наперед вашего приезда, но через Днепр ныне переправиться никак не возможно.
6Река, еще вчера ворочавшая ледяными глыбами, смертельная для храбрецов, рискнувших совершить через это мчащееся ледяное месиво переправу, за ночь утихла, и строитель-мороз там и здесь уже перебрасывал хрупкие свои мостки, которые под напором воды трещали и ломались, но было видно – Днепр устал от борьбы и смирился.
Богдан Хмельницкий ждал, когда река станет. В этом столкновении воды и мороза ему чудилось вещее.
Мороз был для него образом правильной жизни. В устоявшихся добротных буднях тоже есть свои кипучие топи, но, однако, надежность мостов, как этого, ледяного, велика, и жизнь от внешних разрушительных сил безопасна вполне.
«Хорошо ли оно, успокоение? – думал Богдан и сам же отвечал себе: – Хорошо».
Река жизни, низвергнув поработителей живота и самого духа, растратив силы на половодье, на одоление всяческих преград, нуждалась в покое.
И сам он, гетман Хмель, желал покоя и постоянства.
Богдан смотрел, как, всплескивая, ужом пробирается вода между остановившимися почти льдинами, и думал о том, сколько людей, дорогих ему, частицу его жизни, унесло потопом. Шесть лет минуло со дня его зимнего бегства из Чигирина на Сечь. За те шесть лет почти все полковники в полках поменялись: убитые, умершие, изменившие… Любимая жена погибла, любимый сын погиб, погибли не только его, старого Богдана, друзья и одногодки, но и друзья его сына – цветущая поросль жизни. И враги погибли. Все региментарии у поляков новые.
– Новое время пришло, – сказал Богдан вслух и про себя подумал: «Сгожусь ли я для него?»
7Шестого января в праздник Богоявления на реку Трубеж двинулось великое шествие, снова собравшее весь Переяслав и казаков, приехавших на раду. Среди крестов, хоругвей, икон несли, как драгоценность, образ Спаса, отпущенный государем с Бутурлиным. Сразу за святыми реликвиями шли в полном облачении архимандрит казанского Преображенского монастыря Прохор, протопоп Рождественского московского собора Андреан, поп Савво-Сторожевского монастыря Иона, переяславский протопоп Григорий, священники и дьяконы приходских церквей, за священниками шли бояре Бутурлин, Олферьев, думный дьяк Лопухин, князья и дворяне посольства.
Богдан Хмельницкий приехал в Переяслав вечером. Сразу по приезде он прислал на подворье, где стояло посольство, полковника Тетерю сказать, что хочет с боярином Василием Васильевичем Бутурлиным видеться тайно, и на той встрече чтоб грамоты государевой не подавать и речей не говорить.
– А пожалует ли государь нас, грешных, теми землями и вотчинами, какими мы владеем и которые надеемся передать своим потомкам? – спросил на встрече гетман.
– Государь всякое добро помнит и не обходит милостью своей того, кто служит ему верой и правдой, – ответил боярин Бутурлин.
Этот разговор разволновал Тетерю, допоздна засиделся у родственника своего Ивана Выговского.
– Уж если и подклоняться под руку московского самодержца, – говорил Тетеря, – так хоть чтоб не без выгоды.
– А ты больше молчи, но дело свое знай, – посоветовал Выговский. – Уговорю гетмана, чтоб он тебя послал в Москву. Пока другие опомнятся, мы уже вытребуем у царя и города, и земли.
– Титул бы княжеский у царя испросить! – помечтал Тетеря.
– Как про твой титул услышат казаки, так и сабли наголо. Главное, грамоты от царя получить… Московские воеводы порядок наведут быстро, тогда и про грамоты можно будет вспомнить.
– Иван, склоняю перед твоей мудростью голову! – поклонился Тетеря Выговскому.
8Поздним утром на подворье московского посла с заднего двора зашел человек в простой одежде. Человек этот был Иван Выговский. Его провели к Бутурлину.
– У гетмана спозаранок была тайная рада с полковниками, – сказал он боярину. – Полковники решили подклониться под руку царя. Из семнадцати полковников одного только не было, Богуна.
– Спасибо тебе, Иване, за верную службу царю.
– Самой жизни для государя не пожалею! – воскликнул Выговский. – Надеясь на его царского величества милость, принес я грамотку. Братья мои, отец мой и сам я – верные слуги царя, молим подтвердить наши права на те города и земли, которыми мы теперь владеем.
– Служи, Иван Выговский, как служил, и надежда твоя не будет обойдена царскими милостями, – изрек Василий Васильевич Бутурлин, удивляясь про себя проворности генерального писаря.
Когда Выговский удалился, сообщив, что раду созовут во втором часу дня, боярин посмотрел Писаревы челобитные и только головой покачал: аппетиты у братьев Выговских были немалые.
Иван испрашивал для себя половину города Остра с селами, местечки Козелец, Бобровицы, Триполье, Стайки, села Лесовичи и Кошеватое, большой город Ромны.
Брат писаря и зять гетмана Данила имел виды на другую половину города Остра, местечки Барышевку, Воронков, Басань, Белогородку, Рожев и села вокруг этих местечек.
Меньшой брат Константин просил Козары и Кобыжчу, отец и шурин били челом государю, чтоб подтвердил право на владение старыми имениями.
9Во втором часу дня ударили барабаны и били целый час, созывая казаков и прочий люд на городскую площадь.
И собралось великое множество народа.
Посреди площади, потеснив толпу, сделали круг, и вошел в него под бунчуком, с булавою гетман Хмельницкий, а с ним войсковой судья, есаулы и полковники. Войсковой есаул велел всем молчать, и когда угомонились, Хмельницкий, напрягая голос, начал говорить ко всему народу:
– Панове полковники, есаулы, сотники и все Войско Запорожское и вси православные христиане! Всем вам ведомо, как нас Бог освободил из рук врагов. Ведомо и то, что уже шесть лет живем без государя в нашей земле, в беспрестанных бранях. Гонители и враги наши, хотящие искоренить церковь Божию, пьют не напьются крови, дабы имя русское не помянулось в земле нашей. Все мы видим, что нельзя более нам жить без царя. Для этого ныне и собрали раду, явную всему народу, чтобы все вы вместе с нами выбрали себе государя из четырех, которого вы хочете.
Хмельницкий замолчал, давая горлу передышку, и площадь замерла, боясь пропустить хотя бы единое слово гетмана. И сказал он:
– Первый царь есть турский, который многажды через послов своих призывал нас под свою область. Второй – хан крымский. Третий – король польский, который, если мы захотим, и теперь нас еще в прежнюю ласку принять может. Четвертый есть православный Великия России государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии самодержец восточный, которого мы уже шесть лет беспрестанными молениями нашими себе просим. Тут которого хотите – избирайте! Царь турский есть бусурман. Всем нам ведомо, как братия наши, православные христиане, греки, беду терпят от безбожных утеснений. Крымский хан тож бусурман. По нужде мы дружбу его приняли, а с этой дружбой и нестерпимые беды. Какое пленение, какое нещадное пролитие крови христианской от польских от панов – никому вам сказывать не надобно. Сами вы все ведаете, что лучше жида и пса, нежели христианина, брата нашего, почитали. А православный христианский великий государь, царь восточный, есть с нами единого благочестия греческого закона, единого исповедания. Тот великий государь, теперь милостивое царское сердце к нам склонивши, своих великих ближних людей к нам прислать изволил. Под его высокой рукой мы обретем наконец благотишайшее пристанище. А кто с нами теперь не согласен, куды хочет – вольная дорога!
– Волим под царя восточного! – закричали те, кто был на тайной раде, но голоса их перекрыл глас всего народа, тех бесхитростных людей, кто не знал ни о сговоре полковников, ни про сомнения старшины.
– Под царя восточного! – кричали люди. – Велим!
Гетман послал полковника Тетерю по кругу спросить людей, нет ли несогласных.
– Вси ли тако соизволяете? – обращался Тетеря к казакам и к простолюдью с одним и тем же вопросом.
– Вси! – отвечали люди.
– Буди тако! – молвил гетман.
– Боже, утверди! Боже, укрепи, чтоб вовеки вси едино были! – радостно и прямодушно сказал народ.
И послал гетман Хмельницкий своего писаря Выговского в съезжую избу сказать боярину Бутурлину и посольству: «Все казаки и мещане под государеву высокую руку подклонились».
Вслед за Выговским в съезжую избу прибыл гетман с полковниками и старшиной. Бутурлин вручил гетману царскую жалованную грамоту.
Хмельницкий, по обычаю, поцеловал печати и передал грамоту Выговскому, который и зачитал ее. Были сказаны речи, после чего Бутурлин и посольство сели в карету и поехали в соборную церковь, чтобы привести к государевой присяге гетмана и его полковников.
Простолюдье уже вовсю праздновало, веруя, что теперь, когда есть такой великий и могучий защитник, как весь русский народ, бедам конец, но владетельные особы засомневались вдруг, и первым среди них Хмельницкий.
Перед самой присягой он попросил боярина Бутурлина, чтобы тот от имени государя дал присягу по трем пунктам: не выдавать Войска Запорожского королю, блюсти прежние вольности, подтвердить права на владения маетностями, то есть городами, селами, землями, какие кто имел.
– В Московском государстве, – возразил строптиво Бутурлин, – целуют крест государю. Такого никогда не бывало, чтоб государь присягал своим подданным. Говорить о том гетману непристойно. Великий государь будет от недругов Войско Запорожское оборонять и защищать, вольностей он у него не отнимает и маетностями велит владеть по-прежнему.
– Такое для нас внове, мы уходим на раду, – заявил боярину Хмельницкий и со всей старшиной отправился в дом Павла Тетери.
Вскоре в церковь явились сам Тетеря и миргородский полковник Сахнович.
– Гетман и вся старшина постановили, чтоб ты, боярин, дал присягу Войску Запорожскому именем государя.
– То непристойное дело! – прикрикнул на выборных без страха и сомненья боярин Бутурлин.
– Польские короли всегда подданным своим присягают! – напирал Тетеря.
– Того в образец ставить непристойно, – твердил свое посол. – Те короли неверные и не самодержцы, а на чем и присягают, того никогда не исполняют, за правду свою не стоят.
С тем и отправились Тетеря и Сахнович к гетману.
10Ватное, его можно было потрогать, молчание повисло в воздухе. Богдан поглядел на руки и увидал, что до белых косточек на пальцах сжимает булаву. Положил ее на стол. Потянулся. Налег спиною на стул. И шляхетская изящная мебель хрустнула, спинка отвалилась. Богдан взмахнул руками и вскочил раньше, чем стул рухнул.
Павел Тетеря побледнел. Кинулся на пол к стулу:
– Смилуйся, гетман. Все стулья были крепкие.
Богдан увидал напряженные лица полковников. Лаврин Капуста, прищуря глаза, смотрел на Тетерю.
– Ох-ха-ха-ха! – схватившись за живот, зашелся в смехе Богдан, полковники оттаяли вмиг, захохотали, тыча пальцем на Тетерю, который, вспотев, как мышь, все еще разглядывал обломки стула.
– Идемте, панове, в церковь к присяге! – сказал Богдан. – У польского короля много бумажных заверений, а на деле всегда другое. Доверимся слову московского царя.
На соборной площади к Богдану с кружкой горилки подошел немировский атаман Куйка.
– Выпей, гетман! Все гуляют, один ты не пьян.
– Хорошее ли дело мы учинили, казак? – спросил Богдан.
– А ты сам погляди. У всех нынче праздник!
– Слава Богу! Я рад, что вымолил у царя милости взять два разных двора под одну надежную крышу.
– То Украина, истекшая кровью, царя умолила, – сказал Куйка, – а ты, гетман, тоже молодец. Коли ты с Москвой, то и мы все с тобой. Выпей!
– Не могу, Куйка! Иду к царской присяге.
– С Богом, гетман! Тогда я за тебя выпью! Будь здоров, гетман! – И Куйка единым духом опорожнил посудину.
* * *
Приводил к присяге Хмельницкого, Выговского и всех полковников по чиновной книге архимандрит Прохор.
После присяги в съезжей избе всем присягнувшим выдали богатое государево жалованье, а гетману вручили знамя, булаву, ферязь и шапку.
Уже на следующий день, получив от Хмельницкого роспись всех ста семидесяти семи городов Войска Запорожского, боярин послал в эти города людей своего посольства, чтоб они привели к присяге всех их жителей.
Сам Бутурлин 14 января 1654 года отправился в древний Киев.
Пока посольство жило в Переяславе, полковники по одному, по двое наведывались к царскому боярину, и каждый просил дать ему грамоту на его маетности. И не только просили, но и стращали. Особенно старался Иван Выговский. Пришел он к Василию Васильевичу Бутурлину с войсковым судьей Богдановичем, с Тетерей и еще с тремя полковниками.
– Ты, боярин, приехал от царя с полной мочью, – сказал послу Выговский, – и, значит, можешь дать нам письма за своими подписями о вольностях казацких и о правах на маетности. Иначе полковникам нечего показать в своих полках. Если же ты, боярин, таких писем не дашь, то вашим стольникам и дворянам в города ехать незачем. У людей в городах от вашей присяги будет одно только сомнение. Да и страшно ныне по нашим дорогам ездить. Гетману прислали письма, что татары наступают.
Царский посол, однако, был тверд, и пришлось казацкой старшине положиться на государеву волю.
У старшины свое на уме, у простых казаков свое.
Встретили Бутурлина казаки в десяти верстах от Киева, у кого был конь, тот и поехал.
Перед Золотыми воротами за городским валом посольство приветствовали киевский митрополит Сильвестр Косов, черниговский епископ Зосима, печерский архимандрит Иосиф Тризна. Речь посольству говорил сам митрополит. И сказал он:
– Целует вас в лице моем он, Владимир, великий князь русский, целует вас светлый апостол Андрей Первозванный, целуют вас Антоний и Феодосии, преподобные отцы печерские. Целуем и мы со всем освященным собором. Целуя и любя, взываем: войдите в дом Бога нашего на наследное седалище благочестивых великих князей русских!
Красиво говорил Сильвестр Косов. Сам отслужил молебен в Софийском соборе, но даже с лица спал и посерел, когда московский боярин спросил его, как школяра:
– Гетман Богдан Хмельницкий и все Войско Запорожское многажды били челом великому государю, чтобы принял их под государеву высокую руку, а ты, митрополит, почему никогда челом государю о том не бил, писем не писал и царской милости себе не поискивал?
– О челобитиях гетмана и всего Войска Запорожского я не ведал, – ответил через силу митрополит. – Ныне же за государево многолетное здоровье и за государыню царицу и за благоверных царевен я должен Бога молить.
И уже на следующий день Сильвестр Косов выказал свой характер и свое отношение к Переяславской раде.
Бутурлин приводил к присяге киевских казаков и мещан. К митрополиту поехал стольник Кикин, а в Печерский монастырь к архимандриту Иосифу Тризне подьячий Плакидин. Московский посол просил прислать для приведения к присяге шляхту, слуг и дворовых людей, которые у них живут.
– Шляхта и дворовые люди служат мне и живут с того, что я даю. Царскому величеству им присягать не годится, – ответил Кикину митрополит, а Тризна, прежде чем дать ответ, решил посоветоваться с Косовым.
Пришлось к митрополиту послать думного дьяка Лариона Лопухина. Лопухин припугнул Косова государевым гневом.
– Шляхта и дворня – вольные люди, я не пошлю их к присяге! – ответил митрополит, рассердясь.
– Зачем ты учиняешь раскол? – спросил его Лопухин. – Упорство твое, митрополит, не дельное. Поезжай к ближнему боярину Василию Васильевичу Бутурлину и объяснись.
– Шляхту и дворовых людей я к присяге не пошлю, с боярином вашим мне говорить не о чем! – не помня себя от ненависти, закричал на думного дьяка Косов.
Ларион Лопухин, не благословясь, тотчас уехал от митрополита.
Косов метался по своему дому, обижая в неистовстве ни в чем не повинных перед ним слуг своих. Он, киевский митрополит, отныне попадал под власть московского патриарха. Он – шляхтич – должен был теперь служить московскому царю!
– Проклятый Хмель! Проклятый, проклятый, проклятый Богданище! – кричал киевский богомолец, стоя перед святыми иконами.
Но что было ему делать, Сильвестру Косову? Он не хотел потерять удобств и преимуществ той жизни, какие давал ему его сан.
Проманежив московских бояр еще один день, Косов послал-таки на присягу своих шляхтичей и слуг, а печерский архимандрит Тризна последовал его примеру.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.