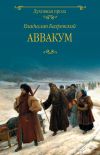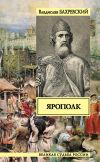Текст книги "Люба Украина. Долгий путь к себе"

Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 63 страниц)
Братья Дейнеки должны были вести за собой загон полесских мужиков.
– Это ведь поначалу страшно, – говорил, блестя глазами, меньшому Дейнеке степенный крестьянин, вооруженный топором на длинной рукояти. – Я поначалу-то бегал в бой, ничего не видя и не слыша. Все топают, и я туда же, а в глазах – рябая стена. Как меня не убило?
– Теперь-то видишь, куда бежишь? – спросил Дейнека.
– Теперь я смекалку навострил. Особливо после Клебани.
Окутались белыми дымами пушки, грохнул залп.
– Пошли! – раздалась команда.
– Пошли! Пошли! – Крестьянин поплевал на руки, ловчее устраивая топор в руках.
Опять ударили пушки, но теперь со стен Тульчина.
Приступ захлебнулся быстро, хотя Дейнеки успели побывать на стене. Скинули в ров пару древних затинных пищалей.
Пан Четвертинский своего не упустил. Удар в спину отступающим был как пинок от дверей. Крылатая конница, врубившись в расстроенные порядки, отсекла две дюжины казаков, пленила и увела в город.
Четверти часа не минуло, и все двадцать четыре казачьи головы, посаженные на пики, трижды поклонились оторопело глядящему на ужасные эти поклоны казачьему войску.
– От пана Четвертинского пану Кривоносу нижайше! – кричали со стены.
– Казаки этих поклонов не забудут, – почернел лицом Кривонос.
Драка получилась кровопролитная, упорная, и хотя город уцелел, пришло время отцам его призадуматься.
Кривонос приказал пушкарям стрелять по Тульчину, пороха не жалея. Из-за стен, как из преисподней, повалил черный дым.
– Ах ты боже ты мой! Годков бы сорок скинуть. Уж такой бы гарный казак был, что сама королева от принцев своих напрочь отвернулась…
Старый Квач стоял перед заморским, светлым, как небо, зеркалом и глядел на себя, и щупал себя, как нового.
Шаровары на нем были шелковые и уж такие зеленые, что даже весенние мартовские зеленя слиняли бы перед подобным чудом. Свитку свою, пропотевшую, драную на спине, локтях, плечах и на груди, он снял и кинул, а надел то, что в глаза просияло. А просиял ему алый, как чума, кафтан на пластинчатых соболях, с огоньками, с соболиной опушкой из хвостов. Пуговицы на кафтане были из чистого серебра, а в то кругленькое серебро вправлены темно-синие каменья. За один такой камешек любая кума голову потеряет. А застежки тоже не простые, шиты серебряной крученой нитью в виде лап, а по краям – окатный, дорогой жемчуг.
Глядь, шуба из красных лисиц, крытая васильковым бархатом. Напялил Квач шубу, в другом сундуке холодные кафтаны, нарядные. Одни запоны чего стоят: изумруды, рубины, а то и белый огонь, шибающий по глазам, как заря. Квач поостерегся снимать с себя то, что прежде надето было. Давай рвать запоны да в мешок кидать, где у него кус сала хранился с луком и хлебом.
Тряханул еще пару сундуков, а в них женские кунтуши. В талию, с узкими рукавами, чтоб в обтяжку, с обшлагами да с отворотами. Кружево все немецкое, с золотыми и серебряными городами, галуны один другого щеголеватей, заковыристей и богаче. Затолкал Квач в свой мешок пару платьев да пару юбок-саян – и полон. Что делать? Давай вокруг себя крутить, под шубу. Старуху утешить хотел. Коли надеть поостережется, так хоть посмотрит всласть.
Набрал дедок добра, сколь на себе унести мог, и тут только опамятовался. Что ж это другие зевают? Побежал своих поискать.
А дверей в доме – как деревьев в лесу. И – никого. Вдруг голоса. Отворил Квач дверь, заранее сияя – вот ведь каков он пан! – да и сморщилась тут его радость, фукнула, как фукает зеленым перезрелый волчий табак.
В белой просторной зале стены в крови, а на большом, как добрый майдан, столе изрубленный саблями пан Четвертинский.
Квач повернулся и пошел прочь от страшного места и про мешок забыл.
Пилява
Глава шестаяРаду собрали по холодку, сразу после заутрени.
– Какое у нас число сегодня? – спросил Хмельницкий у Выговского, поднимаясь на деревянный помост, устроенный на площади у развалин костела.
– Двадцать девятое июня, – ответил Иван Выговский, гадая по лицу, что гетман хотел сказать своим вопросом.
Хмельницкий давно уже приметил: для Выговского вопросов в простоте не бывает, все-то ему чудится двоякий смысл, каверза, потаенный сигнал. Усмехнулся, но тотчас поймал себя на том, что вопрос и впрямь со смыслом. 29 июня – середина лета. Варшава с войной не торопится. Может, ждет осенних холодов, когда казачья голытьба сама собой разбежится по теплым норам. Казака с печи голыми руками бери!
Рада была особая. Чигирин принимал первых послов. Не ахти какие были послы, но уже то дорого, что первые.
Радостно звонили колокола. Казачья рада совпала с днем святых славных и всехвальных верховных апостолов Петра и Павла. Совпала не сама по себе, но по умыслу Богдана Хмельницкого. Все на этой раде совершалось по его велению и в той последовательности, как задумано было самим и обговорено с Выговским.
Верховные апостолы одинаково высоко почитались католической и православной церквами – намек на готовность примирения. И недаром первым был представлен раде игумен Ласка, посланец брацлавского воеводы Адама Киселя.
За два дня, прожитых в Чигирине, монах многое разведал. Многое, да только то, что позволено ему было узнать повелением гетмана.
Посчитал игумен Ласка: в Чигирине, при Хмельницком, десять тысяч казаков и семьдесят четыре пушки. А еще при Хмельницком сотня татар Солтан-мурзы. Мурза посылает вести Тугай-бею, кочующему на Синих Водах, а Тугай-бей шлет гонцов к хану в Бахчисарай. Татары обещают прийти большой ордой в конце августа и всячески подстрекают гетмана не примиряться с поляками.
Приметил Ласка, что казаки спешно и с размахом собирают по всей Украине продовольствие. Опустошают кладовые замков и городов, подчистую забирают господские гумна. И что очень тревожно – большая часть продовольствия на возах. Запрягай лошадь, и поехали.
Одни казаки говорили: у них вся надежда на брацлавского воеводу. Он свой человек, православный. Уж как-нибудь выхлопочет прощение казакам за их самовольство. Но если поляки пойдут войной, то тогда казакам следует соединиться с крестьянскими купами и ударить всей силой на Речь Посполитую, будь она неладна!
Другие, особенно старшины, хотели сразу идти на Запорожье и оттуда вести переговоры с поляками и турками. Многие из старшин боялись черни.
А вот что думал Богдан Хмельницкий, Ласка не знал, и никто ему сказать о замыслах гетмана не смог. Тоже не знали.
Отец Ласка, выйдя перед радой, вручил Богдану Хмельницкому письмо Адама Киселя и представил подарки Войску Запорожскому: серебряные ризы для икон, дорогое облачение для священника, литавры и барабаны, рыболовные снасти.
Принимая письмо и подарки, гетман сказал:
– Войско Запорожское благодарит его милость пана Адама, брацлавского воеводу, за его дружбу и благоволение. Мы обещаем во всем слушать мудрых советов его милости, веруя, что они даны нам ради всеобщего успокоения, а не ради предательства. Слышали мы, что их милости паны Заславский, Конецпольский и Остророг собирают войска, чтобы идти на Украину. Но мы знаем и другое: его милость пан Адам Кисель не хочет войны и добивается у сената прощения проступков казаков. Успокоенные его заступничеством, мы и сами вернулись из похода, и орду, которая хотела идти в глубь страны, удержали.
Сказана была благодарность и самому отцу Ласке за его хлопоты по устройству мира.
И тотчас раде представили черкесских послов. Они предложили гетману помощь: семь тысяч конницы.
Наконец были приняты русские.
Хитроумный отец Ласка так и не понял, сколь высокой степени эти послы. Одеты, как бояре, но от царя ли они или от думного дьяка, ни по их речам, ни по речам Хмельницкого понять было невозможно. Главный из посольства, человек поступи гордой, укорял казаков, что они, люди православные, искали помощи у басурманов. Однако не поспешил пообещать помощи от своего царя, а говорил о мире. Так и сказал: «Худой мир лучше войны».
Русскому этому до боярского звания было как до солнца. Посылал его не царь и не думный дьяк, а всего лишь хотмыжский воевода, и посылал он его не к Хмельницкому – к Адаму Киселю. Посланца перехватили, и гетман уговорил его и его товарищей сыграть роль московского посольства ради дружбы православных народов и чтоб поубавить прыти шляхетским региментарям.
В ответе «московскому боярину» Хмельницкий был краток:
– Мы не вороги царству Московскому, нас не нужно бояться.
И тотчас перешел к делам, громогласие которых предназначалось для ушей посланца Адама Киселя.
– Если наши послы паны Вишняк, Мозыря, Болдарь, Петрушенко, которых мы отправили на сейм требовать вывода польских войск из Украины, уничтожения ординации, навязанной Войску Запорожскому после событий 1638 года, будут возвращены из Варшавы с успехом, я обещаю Речи Посполитой и лично воеводе брацлавскому его милости пану Адаму Киселю наказать самовольников, которые ныне захватывают города и замки. Эти самовольники недавно напали на Новоселку, где усадьба его милости Адама Киселя. Они забрали скот, порох, ружья, палатки, усадьбу разорили, переловили и увели из парков его милости серн. В Мотовиловке и Белогородке опустошили замки, вымолотили все гумна. Самовольники и бунтари-крестьяне взяли Носовку, Сосницу, Мену, Батурлин, осаждают Чернигов. Я посылаю к ним свои универсалы, но они их не слушают. До меня доходят вести, что все эти толпы собираются идти за Днепр, чтобы выбрать себе иного гетмана. А потому, если в Варшаве действительно обеспокоены всеобщим бунтом на Украине, действительно хотят успокоения, то должны не войска собирать против нас, но выслушать наших послов и справедливо решить наши требования.
На том рада была закончена, а послы приглашены на обед к гетману.
В тот же день с посланцем хотмыжского воеводы у Богдана был тайный разговор.
– Я знаю, – сказал гетман, – Адам Кисель подбивает царских воевод и самого царя ударить на бунтовщика Хмеля. Хмель, дескать, наведет на московские города татар. Успокой воеводу: вознамерится хан идти на Москву – со всем Войском Запорожским встану на его пути. Вот тебе письмо. Молю Богом тебя и твоего воеводу, чтобы оно достигло царя. Знай, вручаю тебе саму судьбу украинского народа, который русскому народу единокровный брат.
Вечером Богдан Хмельницкий уехал в Суботов, на рыбалку.
Устроился на раздвоенном стволе плакучей ивы, скрывавшей рыбаря от нескромных глаз с воды и с берега.
Ловил двумя удочками: с малым крючком и с большим.
На реку загляделся. Серебряные сумерки успокоили воду Тясмина, и в тишине было слышно, как пересчитывает ветерок листья ивы.
Ой, не боли голова у Богдана, а боли ты у малой рыбки.
На крючке остром, на леске прочной, на уде гибкой…
Не громче того ветра, что листья считал, пел Богдан свою самодельную думу.
И вдруг решил: «Пора лазутчиков по тылам врага разослать. Приход войска на Волынь и в Русское княжество нужно хорошо подготовить. Брать города приступом – дело убыточное. Надо так сделать, чтоб они сами открывали ворота, встречая войско, как невесту».
– Вот кому мать Украина жизни дороже! – добрым словом помянул гетман Максима Кривоноса. – Не за-ради зипуна воюет.
Кривонос взламывал польскую оборону, открывая путь на Львов и саму Варшаву. Но может, еще более важным в этой полустихийной войне было то, что крестьянские купы, приобретая боевой опыт, из диких полчищ рассерженных людей становились организованным, обстрелянным, воодушевленным победами войском.
…Уда с большим крючком сама по себе поползла в воду. Богдан ухватил ее, подсек и, выскочив из укрытия, вытянул аршинную щуку.
– Кому не надобно, тому само в руки идет!
Богдан глянул через плечо: вдоль берега с короткой мокрой сетью, волочащейся по траве, шел старик.
Богдан не помнил, как его по имени, но знал: это Загорулько. Все Загорульки были, как дубовые пни, необхватны, плотны и страшно упрямы.
– Что ж ты, старый, удаче гетмана позавидовал?
– А для чего она тебе, удача? – шевельнул черными косматыми бровями дед Загорулько. – Удача в походе нужна, а ты дома расселся.
– Ну ладно! – Богдан тряхнул оселедцем. – Мне удача ни к чему. А тебе она на что?
– Мне? Рыбы наловить да насушить, чтоб внучата с голоду не перемерли. На тебя, говорю, надежда невелика. Ждешь поляка в дом к себе. А он и рад стараться. Наточит саблю повострей да и придет. Хлеб отнимет, скотину тоже отнимет, а сухая рыба ему ни к чему. Вот мы ее и будем сосать, как медведь лапу.
– Зачем, старый, задираешь меня? Зачем обидеть хочешь?
– А затем, чтоб ты, озлясь, шапку кинул наземь да и пошел вон из дому – врага воевать. Чтоб в его дому война случилась, а не в нашем. В его доме горшки колоти, его без хлеба оставь. Сами себя мы уж без хлеба оставили. А затянется дело, то и на другой год куковать будем. Где он, сеятель? Ныне все в казаки пошли. Одна у нас дорожка – разбредемся по белу свету. Голод посошок в руки всучит, и пойдешь, мать родную позабыв.
Гетман стоял смущенный.
– Как же мне тебя утешить, дед Загорулько? Возьми улов мой.
– Эко! Нашел утешение!
– Пока этим утешься! – осердился, и не на шутку. – Советчики на мою и на свою голову!
Бросил рыбину под ноги старику, прочь пошел по-над речкой.
– Советчики! – яростно, через плечо крикнул на старика.
Да тот не напугался. Снял щуку с крючка и сматывал леску.
Гетман вернулся назад, вырвал у старика удочку.
– Гляди сюда! – начертил на земле круг. – Это, дед, – Украина. Здесь у нас – поляки. Здесь – татарская орда. Тут – русский царь. Ну, двину я Войско Запорожское на Варшаву, а царь и саданет нас по затылку.
– Перекрестись! – возмутился дед Загорулько. – Русский царь всему православному миру – опора.
– Так у него же договор с поляками.
Старик покрутил головой:
– Гетман, не возносись перед казаком. Ты себе на уме, а простой казак, если до чего умом не дойдет, так сердцем учует. У царя с поляками договор против татар, а не против казаков. Не тронут нас московские воеводы.
– Сердцем, говоришь, чуешь, старый черт?! – Богдан присел и хлопнул себя ладонями по ляжкам. – Так я тоже чую сердцем! Но мне, гетману, сердца слушать нельзя! И самой верной мысли своей и твоей я тоже не поверю. За ошибку твоего сердца ты своей головой заплатишь, а если мое сердце промахнется, то полягут в сыру землю тысячи казацких головушек… Договорюсь с московским царем, в тот же день и час пойду в поход… А рыбу ты мне отдай. Я и в молодости таких щук не лавливал… Погоржусь перед молодой женой.
Уперся глазами в старика. Но дед Загорулько ничего про гетманову жену не сказал. Не хмыкнул, не нахмурился, это, мол, твое дело, как ты с бабой управишься.
Распрощался гетман со стариком дружески. Пожимая ему руку, глянул на кусты, шевельнувшиеся против ветра, – казак прячется. Нехорошо дрогнуло сердце. И тотчас догадался: испуг напрасный: «Берегут своего гетмана. Молодец, Лаврин Капуста».
Подходя к дому, увидал экипаж.
«Ишь какая скучливая!» – обрадовался Богдан.
Пани Елена прикатила со свитой. Тут и весь выводок Выговских: братья Иван, Константин, Федор, прибывший от Кривоноса Данила, их дядя Василий, их племянник Илья. Приехали Самойла Богданович-Зарудный, Григорий Лесницкий, Иван Груша, обозный Тимофей Носач, братья Нечаи – Иван и Данила.
Словно конь, закусивший удила, – с места в галоп, словно вихрь в ясную погоду, – без разбега, без зачина – закрутился, полетел сумасшедший пир.
– Плясать! Плясать! – загорелась пани Елена.
Данила Нечай, словно это его просили, встал, поклонился пани, поправил усы и оселедец, прошелся по горнице, пришаркивая ногами, как бы пробуя половицы – надежны ли? У порога гикнул, развернулся, закинул согнутую в локте руку за голову, присел и, выстреливая правою ногой, боком проскакал до стены, а от стены на другой ноге до середины горницы. И тут закрутился, пылая алыми шароварами, да так быстро, что и не видно стало ни рук, ни ног, ни лица. Все слилось! Алые шаровары, зеленая свитка, белое лицо. И только рыжий оселедец, не поспевая за каруселью, плавал сам по себе, как плавает над водяной воронкой осенний лист.
– Гей! Гей! – вскричал Богдан, обнимая взмокшего, но счастливого плясуна. – Вина ему!
Пока шел веселый галдеж вокруг удачливого Данилы, пани Елена исчезла и появилась вновь в самое время, когда ее хватились. Появилась не одна. Привела падчериц, Степаниду и Катерину. Маленькая Катерина забилась в угол, а со Степанидой пани Елена на диво хорошо станцевала. Данила Выговский засмотрелся на Степаниду, да так, что очнулся от удара по ноге под столом. Дрался, конечно, Иван. Данила испуганно вскинул голову и увидал: Богдан подмигивает ему. Данила вспыхнул и ткнулся глазами в стол с таким мальчишеским упрямством, что всем было ясно: теперь он так и будет сверлить глазищами скатерть, пока дырки не просверлит.
Женщины удалились.
– Ну и болван же ты, братец, – шепнул Иван, а сам качнул золотые чашечки весов, сидящих в его мозгу с рождения: на одну чашечку кинул гирьку «за», на другую две гирьки «против», чтоб не ошибиться.
– А где твой младший сын? – спросил Хмельницкого Самойла Богданович-Зарудный.
– Да уж спит, наверное!
– Учиться ему пора.
– Ох! О своих дивчинках да хлопцах и подумать недосуг.
– Отдай мне Юрка в учебу.
– Ты у нас известный книгочей. Если ты возьмешься научить Юрка грамоте, в коллегии учиться не надо.
Богданович-Зарудный порозовел от похвалы:
– Академии ни один мудрец не заменит. А вот подготовить к академии я берусь Юрка.
В горницу вернулась пани Елена, схватила разговор на лету:
– Пан Богданович! Вы человек ученый, кто это – доктор Фауст?
Пани Елена много выпила, глаза у нее светились даже в сумеречном свете.
– Доктор Фауст? – Богданович-Зарудный удивился не столько вопросу, сколько тому, что спрашивала женщина. – Немец. Философ. Чародей. Говорят, знал наизусть всего Аристотеля и Платона. «Так как природа есть начало движения и изменения, а предмет нашего исследования – природа, то нельзя оставлять невыясненным, что такое движение: ведь незнание движения необходимо влечет за собой незнание природы». – Богдан цитировал Аристотеля, все время повышая голос и поднимая над головой руку. – Помню! Не знаю зачем, но помню.
– С такой памятью, с такими познаниями можно пойти в ректоры любой академии, – расцвел Иван Выговский, словно это он сам знал наизусть Аристотеля.
– О Фаусте мне расскажите! – гневно крикнула пани Елена.
– О Фаусте рассказать, – повторил Самойла Богданович. – Говорят, что он знал многие тайны. Летал по небу, сотрясал дома, предсказывал судьбы. Многие его предсказания сбылись.
– Продать душу на вечные муки за полеты по небу… – Пани Елена покачала головой. – Нет! Не согласна! Уж если продавать душу дьяволу, так за власть над всеми. Чтоб все ползали у твоих ног, как черви.
– Такого в пределах Речи Посполитой даже дьявол не в силах устроить! – сказал Данила Выговский.
– То у москалей возможно, – поддержал его Иван. – У москалей царь – «самодержец», никто поперек ему не смеет сказать. В Московии все рабы. И крестьяне, и бояре.
– Такая власть по мне! – Пани Елена стукнула кубком по столу.
Хмельницкий залюбовался женой: огненная дева. И вдруг вспомнил Матрену. Величавую в каждом жесте, в каждом слове.
«Господи, прости! – Глубокая печаль нахлынула на Богдана. – Совсем забыл о тебе, Матрена. Где ты, птица-человек?»
– Как только вернутся послы, – сказал вслух, – надо направить в сенат ловкого человека, чтобы вытребовал пана Вишневецкого да пана Чаплинского – моих врагов. А не выдадут – Варшаву спалю!
«Жена пьяна, и муж пьян», – отметил Иван Выговский и стрельнул глазом на Григория Лесницкого, недоброжелателя своего. Лесницкий увидал, что за ним наблюдают, озлился, выпустил коготки.
– А по мне, – сказал он, – лучше уж «самодержец», чем польский король, который, прежде чем принять корону, должен подписать pacta conventa и отказаться чуть ли не от всех прав.
– Можно и без короля прожить! – почему-то очень развеселился Данила Нечай. – Вон Кромвель лупит короля и в ус не дует.
– Нет! Нет! – пани Елена даже вскочила на ноги. – Король должен быть! Должен! Должен!
«Да ведь она в королевы метит!» – усмехнулся про себя Иван Выговский.
Разговор затихал, убывал, как убывает огонь в прогорающем костре. Пани Елена ушла и вернулась с трубками для Богдана и гостей, с огнивом и табаком.
Пел сверчок.
Пани Елена проснулась и поняла, что спала очень мало и что уже не уснет. Голова слегка кружилась, приятно кружилась.
«Вино мне не враг», – подумала она и сморщила лицо, потому что это было ужасно, все ужасно.
«Где же ты, пани Хелена?» – спросила она у себя самой и закрыла глаза, чтоб не отвечать. И увидала пани Хелену, скромницу, с опущенными глазами.
«Тихоня!» – гнев метнулся в ней, как черная кошка через дорогу, и отступил: Хелену нельзя было обидеть.
Она покосилась на соседнюю подушку и увидала: Богдан тоже не спит.
– Голова, – сказал он.
Пани Елена выпрыгнула из постели, побежала за изразцовую печь, зачерпнула из бадьи ковш воды, отпила глоток, принесла Богдану.
Богдан ждал воду сидя, поставив босые ноги на подстилку из соболиных хвостов. Ковш выпил залпом.
Она принесла другой. Он пить не стал, плеснул воды на ладонь, умылся.
– Легче… Угораздило, старого, перепить.
Сидел, смотрел в окошко.
Светало.
Она опустилась перед ним на колени, заглядывая глаза.
– Ты был самый красивый на пиру! Самый умный! Самый сильный и самый молодой!
Вскочила, оглянулась, схватила ковш, выплеснула из него на пол остатки воды и надела Богдану на голову.
– Ты – мой король! Не перечь мне! Я хочу, чтобы ты был светлый король. Светлый князь, а не князь кровавых мужиков.
Богдан снял с головы ковш, швырнул в угол.
– Выговский нашептал? Я – не светлый, я – не король и не князь. Я – казак!
Оттолкнул потянувшуюся к нему Елену.
– Нет, я знаю, что я хочу! Я знаю. Вы мне все уши прожужжите, чтобы сбить с пути истинного. И самому Богу дьявол мешает… У меня всяк мужик будет пан! А всякий пан будет мужиком! Ты думаешь, я себя ради затеял эту кровавую баню?.. Я жил других не хуже… Мы, может, и меньшая, но половина великой Древней Руси, а Русь должна, как встарь, соединиться воедино. И тогда всей иезуитской сволочи, змеиному племени, сосущему кровь из самого сердца народного, придется худо… Ты деда Загорулько знаешь? Не знаешь. Ты ничего не знаешь. Ты не знаешь, зачем я пришел в этот мир. А дед Загорулько знает! Он знает, куда я должен идти и что сделать… Вот оно в чем дело-то. И правда – вот она. Мудреному Выговскому про нее невдомек, и ученому Богдановичу она не по уму, а деду Загорульке – под стать и впору.
Лег, откинулся на подушки. Заснул тотчас, вздыхая сладко, облегченно, как ребенок, который настрадался от наказания, от своей неправды, попросил у матери прощения и просветлел.
Пани Елена нашла ковш, поставила на место, села на лавку возле окошка, но ей стало холодно. Тогда она тихонько забралась в постель, полежала у стены, одинокая, ненужная. Послушала ровное дыхание мужа и, боясь потревожить, придвинулась ему под бочок.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.