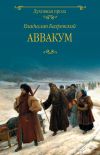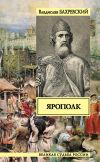Текст книги "Люба Украина. Долгий путь к себе"

Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 53 (всего у книги 63 страниц)
Глава третья
1Перед господарем Василием Лупу лежала коротенькая писулька гетмана Богдана Хмельницкого: «Сватай, господарь, дщерь свою с сыном моим Тимошем, и тебе добре будет! А не выдашь, изотру, и останка твоего не останется, и вихрем прах твой размечу по воздуси».
Грубая мужицкая речь, но вот беда – не пустая. Лупу был рад, что дочь его, его надежда на будущее рода и на собственное спокойное будущее, теперь за такими стенами, которые Хмельницкому не по зубам.
Но грустно было господарю. Грустно! Он сам и Молдавия оставались разменной монетою в делах Турции и Польши, Турции и Украины, Украины и Польши.
Молдавское войско было ненадежно, а три тысячи наемников от Орды и Хмеля не защитят.
Оставалось одно: надежно укрыть свои богатства – залог пребывания на престоле. Фирман на княжество стоил год от года дороже. Сто лет назад господарь Лапушняну заплатил за фирман двести тысяч. Сорок лет спустя Арон Тиран залез в кабалу, пообещав миллион золотых.
Огромные деньги отсыпал за право володеть Молдавией Василий Лупу, но ведь была еще ежегодная дань – харач. И если тот же Лапушняну платил тридцать тысяч золотых, то Лупу приходилось наскребать в казне по семидесяти пяти и по ста тысяч ежегодно.
А кроме харача, были еще обязательные пеюкеш и бакшиш, подарки и взятки, без которых немыслимо сдвинуть с места и самое малое дело, причем ежегодные подарки – падишаху, его визирям, его командующим, евнухам и женам – были обязательными.
Пуще глаз копил и берег мудрый Лупу свое безотказное войско – деньги свои.
Над вторым письмом Хмельницкого яростно пыхтел в усы коронный гетман Мартын Калиновский.
«Не хочу скрывать перед вашей милостью, – писал гетман Войска Запорожского, – что своевольный сын мой Тимофей с несколькими тысячами войска идет жениться на дочери молдавского господаря. Конечно, до этого никому нет дела, но я удивляюсь, что польское войско стало при Батоге, как будто хочет заступить дорогу моему сыну. Я прошу вашу вельможность для спокойствия отечества отступить с войском, тем более что место неудобно для обоза. Я боюсь, чтобы свадебные бояры не затеяли ссоры с войском, а мой сын по своей юности не стал бы искать первой удачи на военном поприще».
– Я посажу его на кол, – сказал Мартын Калиновский сыну Стефану. – Я обоих посажу на кол: дурня сына и старого дурака отца, пусть поглядят друг на друга, поплачут о своей дури.
– Мой отец, – голос у Стефана пересох от волнения, – Хмельницкий пишет о том, что мы стоим плохо. У него всюду шпионы. Не лучше ли будет, если мы отойдем к Брацлаву. В Брацлаве сильный гарнизон. Там мы с большей уверенностью можем рассчитывать на помощь короля и воевод.
– Сын мой, – сказал Мартын, скрестив на груди руки, – доверься опыту старого воина. Если враг хает твою позицию, значит, он желает, чтобы ты покинул ее. Наше войско испило полную чашу позора, покинув под Корсунью свой укрепленный лагерь. Я стоял на том, чтоб держать оборону, но Хмельницкий подбросил нам смертника. Казак поплатился жизнью, однако сбил нас толку.
– В те поры я был уже в плену, – сказал Стефан, опуская глаза. – Отец, у нас в лагере много сена и фуража, но мало конницы и людей.
– Я все предусмотрел. К нам на помощь из Нежина идет мой брат. У него не менее десяти тысяч войска. К нам поспешают королевские войска, которые ведет Марк Собесский. Что же касается Орды, – гетман тонко улыбнулся, – хан столько раз изменял Хмельницкому, что казаки должны больше нашего опасаться татар.
– Отец, я говорил с командирами наемников и со многими другими опытными людьми… Все сходятся на том, что лагерь наш чрезмерно велик, его нужно ужать наполовину.
Старший Калиновский встал, давая понять, что разговор кончен.
– Сын мой, – сказал он, подняв голову, – я всегда был только польным гетманом. Все мои рекомендации коронный гетман отметал как малозначащие, и войско терпело поражения. Теперь наконец я – коронный гетман, теперь я приказываю, и мне мои приказы нравятся, ибо, прежде чем приказать, я – думаю! Не останешься ли пообедать со мной?
– О нет! У меня боевые учения, – солгал Стефан.
Он уходил от отца с тяжелым сердцем: старика прежние встречи на бранном поле с Хмельницким ничему не научили. Ничему!
2Мартын Калиновский принимал в своем шатре командиров подкрепления. Марк Собесский прибыл во главе отряда, состоявшего из трех тысяч немецкой наемной пехоты, полтысячи конницы шляхетского ополчения, двадцати пушек под командой Сигизмунда Прицинского, отличившегося при Берестечке, и полутысячного личного конного отряда.
Видимо, чая себя молдавским господарем, коронный гетман приказал палить из пушки всякий раз, когда он осушал свой кубок.
– Во славу польского оружия! Во славу весны и любви! – уже в четвертый раз поднял тост Мартын Калиновский. Глаза его сияли, он залпом выпил кубок и замер, ожидая выстрела. Пушка грянула.
– Стреляет! – Гетман засмеялся, чувствуя в голове легкость, а в теле молодость. Он сел, обводя глазами своих гостей. Это был особый и совершенно новый для Калиновского взгляд, он отрабатывал его перед зеркалом, ибо пора ему было уметь источать взглядом милость.
– Я вижу, вы озабочены чем-то, – сказал Калиновский пану Прицинскому. – Уж не простыла ли еда на вашей тарелке? Эй! Подать пану поросенка с моим любимым гороховым соусом! Вы любите гороховый соус?
– Да, ваша милость! Кто же из поляков не любит гороховый соус? Но причина моей озабоченности в другом. Я осмотрел лагерь. Мы стоим здесь дурно. Это ведь какая-то впадина. Мои пушки наполовину потеряют свою огневую мощь. Не лучше ли было бы отойти под Брацлав?
– Ну конечно, не лучше! – Мартын Калиновский на этот раз изобразил на лице иную улыбку: вельможную, холодную, ставящую неразумного советчика на место. – Здесь, при Батоге, прекрасные пастбища. Вы заметили, какие кони у нас? Они лоснятся. Обычно при таком стоянии кони худеют, а у нас этого не произошло. Во-первых, май, многотравье, а во-вторых, ваш гетман обо всем позаботился. В этом лагере мною собрано столько всевозможного фуража, что мы можем без ущерба для себя и для наших лошадей стоять хоть два года.
– Но что известно о противнике, где он? – спросил Марк Собесский. – Мы имеем сведения, что Хмельницкий снова позвал татар и татары пришли к нему. Однако мы не знаем, сколько их и где они.
– Мы все знаем, – возразил Мартын Калиновский, – и даже более того… Хмельницкий ныне совершенно неопасен. Татарское войско нуреддина, которое пришло ему на помощь, только для виду нацелено на наш лагерь, на самом же деле оно направлено против самих же казаков. – Калиновский опустил глаза и, оттягивая книзу верхнюю губу, представил на обозрение свою третью заготовку – улыбку дипломата. – Разумеется, секрет, но некоторые секреты следует не таить, а наоборот – распространять. Среди казаков большие раздоры. Хмельницкий казнил двух полковников. Есть сведения, что несколько его полков ушло к русским. Против нас из своих пятнадцати или шестнадцати полков Хмельницкий смог выставить только четыре.
«Боже мой! – Стефан Калиновский страдал, слушая отца, смотреть на него не было силы. – Неужели и я столь же тщеславен и недалек?»
Стефан взглядывал на застолье и вместо усмешек видел на одних лицах восхищение, на других понимание… Хотелось вскочить и крикнуть: «Да опомнитесь вы? Какой корысти ради вы подыгрываете выжившему из ума старику? Он же погубит вас!»
Рука тянулась к вину, потому что все было ужасно: и то, что отец говорил, и то, что думалось об отце.
– Ваша милость! – обратился к гетману Марк Собесский. – Для предупреждения внезапного нападения не следует ли направить в глубь страны легкий подвижной отряд, который, не входя в соприкосновение с противником, следил бы за продвижением основных его сил?
– Панове! – воскликнул гетман Калиновский, оправляя левой рукой правый ус. – Вы такие молодые и такие все озабоченные. На дворе май! Берите пример со старика. Музыканты, полонез!
Он сам начал танец. Седенький оселедец его топорщился, лицо было сурово, движения величавы. Кавалеры, ведя друг друга, подражали гетману.
Танец окончился, и все столпились вокруг гетмана, а он, опять уже с бокалом, подбоченясь, говорил проникновенно:
– Деды и прадеды смотрят ныне на наше дружество и радуются ему. Да, пан Собесский, мы пошлем разведку! Будь по-вашему! Да, пан Прицинский! Пушки должны стоять хорошо. И если будет в том необходимость, мы покинем наш лагерь и перейдем в Брацлав. Я счастлив, что вы все командиры думающие и действующие. Выпьем же за начало конца, ибо в нашем единении я вижу конец казачьей вакханалии. Был Хмель, теперь будет им похмелье.
Грохнули пушки, затрещали ружья.
– Рано палить! – топнул ногой Калиновский – Я не договорил.
Кто-то торопливо отбросил полог шатра.
– Татары!
– К оружию! – вскричал коронный гетман, осушил кубок и только потом пришел в себя. – Татары, говорите? Откуда?
Никто ему не ответил: командиры выскакивали из шатра, разбирали коней и мчались к своим частям.
Гетман, ловя пьяными ногами зашатавшуюся землю, выбежал из шатра. Татары, преодолев редуты в расположении шляхетского ополчения, рубили головы, как лозу.
Мартын Калиновский с земли, по-молодому прыгнул в седло, выхватил из ножен саблю.
– За мной, Речь Посполитая! За мной!
Он помчался на татар со своим знаменосцем и полусотней охраны. К нему присоединилась хоругвь Стефана Калиновского и конный отряд Марка Собесского.
Татары, не принимая боя, стали уходить и ушли, понеся малые потери.
Попавшие в плен вели себя смело. Они говорили, что Хмельницкий пришел с четырьмя полками: с Чигиринским, с Черкасским, Переяславским, Корсунским. С ним нуреддин. У нуреддина сорок тысяч. Говорили, что армия эта стоит наготове, а разгром Калиновского Хмель доверил своему сыну, у которого свой казачий полк и шестнадцать тысяч перекопского бея.
Слухи о нависшей смертельной угрозе пронеслись по лагерю, как летит огонь по степи.
Мартын Калиновский сидел у себя в шатре, придумывая хитроумный план ночного сокрушительного удара, когда вбежал сын Стефан.
– Отец!
– Спокойно! – приказал старший Калиновский, демонстрируя подчиненным полное самообладание.
Стефан взял отца под руку и отвел его в сторону:
– Шляхетское ополчение и часть конницы взбунтовались. Решено схватить тебя и выдать Хмельницкому. Скорее. Они уже идут.
– На коней!
Калиновский опрометью бросился вон из шатра. Прискакали на редут, обороняемый немецкой пехотой. А за ними уже гнались. Рухнул шатер гетмана.
– По изменникам огонь! – скомандовал Калиновский наемникам, и те, послушные верховной власти, развернулись и дали залп по коннице.
Наемники знали свою работу. Они не пугали, они били по цели. Второй их залп окончательно отрезвил покушавшихся на гетмана.
3Они сидели на кошме, пили кумыс. В шатер, словно на колесе, вкатил на кривых ногах отец жены Исы-бея.
– Все наши вернулись, – сказал он, – но у них стреляют.
– Тем меньше достанется пуль на нашу долю. – Иса-бей хранил на лице покой и власть всеведущего. – Пусть воины отдыхают.
Тесть, поклонившись, вышел передать приказ бея войску.
Тимош улыбнулся, а Иса-бей захохотал, откинулся на подушки, проливая на халат кумыс.
Они понимали друг друга. Для них, двадцатилетних, стало привычным ездить впереди своих войск, но нынче они были не по одному прозвищу полководцы, их командам повиновалась многотысячная армия. У Исы было шестнадцать тысяч, у Тимоша – восемь.
– Помнишь, как дрожали тогда ночью, когда отец приехал? – спросил вдруг Тимош.
– Помню, – сказал Иса. – Я стоял у окна и дрожал. Только не от страха. Я хотел, чтобы к нам сунулись! Я Аллаха молил, чтобы сунулись скорее, потому что сон одолевал меня.
– Сегодня нам придется бодрствовать, – сказал Тимош. – Ты поднимай людей до зари. Ударишь со стороны степи. Отвлечешь. Мои казаки будут ждать твоего удара. Как только поляки втянутся в дело, мы атакуем их лагерь со стороны леса.
– Не простое дело – принцессу в жены добыть! – засмеялся Иса.
– А что мне принцесса! – зарделся Тимош. – Мне лишь бы ляхов рубить.
– Мстишь пану Комаровскому, который тебя собирался до смерти засечь?
– Нет, Иса! Никому я не мщу. Уйдут сами с моей земли – я первый буду им другом. Того же пана Комаровского, простя ему все, за свой стол посажу. Только что-то не торопятся уйти. Сколько городов, сколько сел у нас опустело, а конца войны не видно.
Иса взял свою саблю с рукоятью в бирюзе:
– Прими. На ней святая сила Медины и Мекки.
– Ты подарил мне коня, который дорог мне, как жизнь. Теперь даришь свою любимую саблю.
– Что бы я ни подарил, я все равно останусь у вас в должниках. Твой отец даровал мне жизнь.
Тимош снял с пояса свою саблю:
– Возьми, Иса. Она освящена на Гробе Господнем.
Они обнялись.
4Умирает земля перед боем. Не дышит. Но людям нет дела до земли, у них одна забота – как бы половчее подкрасться к врагу и убить его.
В ту ночь из лагеря Калиновского бежало две сотни конницы шляхетского ополчения. Их увел человек, имя которого поминали Иса и Тимош – пан Комаровский.
Лагерь всполошился. Но люди, узнав, что свои шкодят, спешили заснуть, силенок поднакопить: всякому было понятно – утром ждет схватка. И только смежило веки бойцам, только-только окунулись они в первые путаные видения, как во всю ширину майской зари, из-под искорки раннего солнца, клубясь и трубя, как клубится и трубит в необузданном неистовстве степной пожар, покатила на лагерь татарская конница.
– Алла-а-а!
Вой то относило ветром, то набрасывало на лагерь, и тогда сверлило уши, сковывало мозг смертным ужасом.
Тявкнула, как щенок перед волком, предупредительная пушечка, но люди уже пробудились и цеплялись за свое оружие, унимая в себе страх.
«Припоздал Иса! – думал Тимош, глядя, как поднимается солнце. Солнце было летнее: еще не оторвалось от земли, а уже било в глаза так, что взор застилало черными кругами. – А ведь он хитер! – обрадовался Тимош за Ису. – Солнце пану Калиновскому в глаза…»
Молодой казачий командир беспокоился за своих пластунов: не обнаружили бы их раньше времени. Но теперь было ясно, что не обнаружены и не обнаружат. Калиновский всю свою конницу и половину немецкой пехоты послал против татар.
Иса не торопился вести людей под пули. Нашумев, он остановил войско на выстрел от редутов. Поляки дали залп из пушек и ружей. И татары охотно ушли в степь, но тотчас развернулись, атаковали… И атака эта опять была ложной.
– Не стрелять! – прокатилась команда по рядам защитников.
Татары пошли в третий раз, и тут стряслась непоправимая для лагеря беда. Стога сена, склады фуража взвились к небу гигантскими фитилями. Воинов обдало жаром. Ветер срывал огненные шапки горящего сена, бросал на окопы.
– Алл-л-а-а-а! – завыли татары, бросаясь на лагерь.
– Пали! – надрывали глотки командиры.
Грохнул пороховой склад, поднялся иссиня-черный, перепоясанный огненными лентами столб. Земля ушла у них из-под ног.
Войско Калиновского перестало быть войском. Оно превратилось в отдельных несчастных людей, ищущих хоть какого-то – Бог с ним, с позором! – но спасения. Только и спасения не находили. Из леса, с тыла, напали, поражая пулями, казаки. От жара горящих складов железные доспехи накалялись – не было спасения на Батожском поле.
5– Ну, отец, думай о себе сам! – Стефан Калиновский с хоругвью пошел на татар в лоб, прорвался и стал уходить в степь по дороге на село Бубновку. И ушел бы. Да на мосту через речку Собь конь его, перескакивая через трупы, поскользнулся в кровавой луже, рухнул, и Калиновский вылетел из седла, успев удивиться: «Что же здесь было за побоище?!» Рыцарь ударился спиной о настил и сорвался в воду.
Иноземные доспехи спасли его от пуль и сабель, но в речке обернулись погибелью. Тонул и думал: «Кто же послал мне такую смерть?»
То была дьявольская работа пана Комаровского. Опасаясь расплаты за побег из военного лагеря, он решил перехитрить будущих судей. Кто сказал, что это бегство? Это карательный рейд против взбунтовавшегося быдла.
И две сотни конников, две сотни трусов напали на спящее мирное село и устроили малым и старым кровавые крестины.
6Батожский лагерь корчило судорогами агонии.
Мартын Калиновский, не в силах обуздать панику, снова укрылся на редуте немецких солдат.
– Будьте мужественны! – размахивал он саблей. – Жив остается тот, кто не теряет головы. Бейтесь! Бейтесь! Бейтесь!
Старый гетман готов был проявить чудеса храбрости, но казаки лишили его и этой привилегии. Они, не желая терять людей, окружили редут пушками и принялись расстреливать иноземную пехоту, обученную не прятаться и перед самим адом, знавшую секрет погибать с профессиональным достоинством… Хватило немцам науки не запросить пощады, но это все, что они смогли сделать для коронного гетмана Речи Посполитой.
Когда пушки смолкли, в оглашенную тишину разбитого редута ворвались татары, прикончили раненых и уцелевших, сыскали Калиновского.
Оглохший, контуженный, он поднялся с земли с саблей в руках. К нему подскочил на коне татарин, подставил ятаган к лицу, повел влево, и Калиновский проследил за ятаганом, мучительно напрягая рассеянный взгляд. Он знал, что необходимо сделать то, чему учился с малолетства, что умел всегда, и не мог вспомнить, что же он умел. Он сжимал в руках саблю и никак не мог соединить в одно распавшийся мир. Татарин повел ятаганом вправо, и гетман покорно потянулся за ним глазами. И тут лезвие сверкнуло, свистнуло – и старая голова гетмана отлетела прочь. Он мог бы погордиться собою: рука его так и не выпустила саблю.
Татарин насадил голову гетмана на пику и поскакал со своими товарищами в степь, туда, где стояли нуреддин и Хмельницкий, старый Хмельницкий.
7Нуреддин был молод, но сведущ в науках и знал правила обхождения. Он несколько лет жил на острове Родос, где турки устроили Гиреям золоченую клетку. Отсюда счастливчики уезжали в Крым на царство, сюда возвращались испытавшие гнев падишаха. Здесь находили смерть свою те из Гиреев, что были неугодны Порте.
Богдан Хмельницкий знал о ходе битвы, знал, что его сын добивает разгромленного врага, а потому устроил в скромном белом шатре своем в честь крымского царевича пир, удивив простотой утвари, еды и питья.
– Я доволен! – говорил Хмельницкий. – Слава Богу, управились с паном Калиновским до Ивана-медвяны. На Ивана, говорят, росы бывают вредные.
– Разве могут помешать росы, даже ядовитые, удару конницы? – удивился нуреддин.
– А кто его знает! – сказал Хмельницкий серьезно. – Управились до этих самых Ивановых рос, и на сердце спокойно.
– Шагин Гирей был воистину сокол, но дурной астролог нагадал падишаху Ибрагиму, будто Порте грозит смертельная беда от человека с именем птицы. Ибрагим был слаб разумом. Он испугался и приказал составить список знатных людей, которые носили имена птиц. Кто-то из услужливых евнухов указал на Шагин Гирея. Знал бы отец бедняги, что, давая сыну гордое имя «сокол», он обрекает плоть свою на золотой шнурок… Впрочем, я тоже человек суеверный. Когда я попал в Родосскую тюрьму, мои четки потрескались, я сам видел это. Но беда миновала, и я нашел мои четки совершенно целыми, без единого изъяна.
– Ваше высочество, хотите научу невеликому колдовству, которое оберегает жизнь в походе? – спросил Богдан. – Меня этому обучила Маруша. Она, бедная, под Берестечком погибла.
– Что же это за колдовство? – Царевичу нравился разговор.
– Как будете уходить в дорогу, велите жене на зеркало воду лить.
– И что же будет?
– Вернетесь ясным, как зеркало.
Нуреддин засмеялся, радостно засмеялся.
– Мне одна повитуха сказала, – нуреддин вдруг понизил голос, – если мальчик стоит во чреве на ногах, то родившись, он будет хитрый, как черт. Гетман, наверное, не знал, что великий хан, мой старший брат, пребывал во чреве, стоя на ногах.
Это был явно какой-то пробный камушек.
– Я преклоняюсь перед мудростью Ислам Гирея! – воскликнул Хмельницкий и спросил простецки: – А каким тайным знаком Аллах отметил ваше высочество?
– О! Я тоже не оставлен милостью Господней, у меня над пупком родимое пятнышко. Знаете, что это значит?
– Нет, ваше высочество.
– Родившемуся с такой отметкой судьба обещает величие.
– Да пошлет Аллах вашему высочеству удачу, – сказал Хмельницкий с легким поклоном, – мы же будем своими ничтожно малыми силами способствовать воле Провидения.
Нуреддин просиял:
– Теперь свадьба сына гетмана не за горами, я подумал, что мой подарок придется ко времени.
Хлопнул в ладоши, и слуга внес огромный серебряный поднос дорогой восточной работы и двенадцать серебряных кубков на нем.
– Благодарю, ваше высочество! Это воистину царская щедрость. За память о нас, простых и сирых людях, дозвольте и мне ответить вашему высочеству скромным подарком.
Хмельницкий поднялся с ковра, приглашая нуреддина последовать его примеру. Они вышли из шатра.
Двенадцать чистокровных валашских кобылиц кормились возле телег. Они, словно по команде, повернули головы и посмотрели на нового своего хозяина. Под солнцем шелковая кожа скакунов сияла золотом.
– Дарю! – сказал Хмельницкий.
И тут одна из кобылиц задрожала, взвилась на дыбы и помчалась в степь, уводя за собой прекрасных подруг.
К шатру подскакал татарин, воткнул перед владыками копье с головой Калиновского.
Голова бедного коронного гетмана скалилась в улыбке. Как знать, может, помешавшийся на величии старик готовил и эту улыбку.
Хмельницкий достал из-за пояса мешочек с деньгами, бросил татарину, тот на лету поймал награду и ускакал в степь, торопясь на грабеж польского лагеря.
Хмельницкий тотчас увел своего гостя в шатер. Гетман был смущен. Со смертью Калиновского рвалась не только нить личной вражды к полякам, но и другая нить: люди его поколения уходили с подмостков жизни, уходили свои и чужие. Среди чужих уже и не осталось никого. Со смертью коронного гетмана Хмельницкий оказывался лицом к лицу с новым поколением политиков, полководцев, героев и трусов. Он знал Оссолинского, Калиновского, Потоцкого, Вишневецкого, Фирлея, короля Владислава, он знал, чего от них можно было ждать. Но он не знал, на какие ходы способен Лещинский, Чарнецкий, молодые Потоцкие, Вишневецкие, Конецпольские – вся эта поросль, обернувшаяся вдруг лесом.
…Один за другим приезжали гонцы.
– Уничтожена последняя рота наемной пехоты!
– Взят в плен Марк Собесский.
– Утонул Стефан Калиновский.
– Взято в плен пять тысяч поляков.
– На Батожском поле – тихо.
Нуреддин поднял заздравную чашу.
– Такого полного разгрома польская армия еще не знала! За победителей!
Богдан Хмельницкий не возражал. Полный разгром польские войска испытали под Желтыми Водами, под Корсунью, под Пилявой, под Константиновом… Но пусть будет так, как хочется нуреддину. Тем более что слава победы распустила крылья за плечами Тимоша, будущего гетмана Войска Запорожского.
– Мы свое дело сделали, – сказал нуреддин.
Это был заход к разговору о плате за помощь.
– Я выкупаю у воинов вашего высочества всех пленных! – Хмельницкий даже рукой взмахнул, показывая, сколь широк и щедр его жест.
– Гетман обещал нам города, – сказал осторожно, но твердо нуреддин. – За пленных воины рано или поздно получат вознаграждение.
– Но я плачу тотчас.
– Мы благодарим гетмана, но какие города он отдаст на нашу бедность?
Отдать татарам город – означало превратить этот город в мертвую пустыню.
– Я дарю вам Коломыю, – сказал гетман, не поднимая глаз. – Это небольшой город, но он очень богат. Поляки и Литва варят в нем соль.
– Коломыю и те города, что ее окружают, – нуреддин нетерпеливо дернул головой, – у меня сорок тысяч, у перекопского бея шестнадцать. Я не могу допустить, чтобы войско вернулось из похода без добычи. Гетман еще не раз будет иметь нужду в нашем войске.
– Не смею возражать вашему высочеству. – Лицо гетмана покрыла сеть морщин, в единый миг он осунулся и постарел. – Сколько вы хотите за Марка Собесского?
– Это мой пленник. Я хочу двадцать тысяч.
– Я заплачу за него тридцать, но просил бы ваше высочество проследить за тем, чтобы войско вашего высочества ограничилось взятием города Коломыи и округи, оставив в покое другие города.
– Я сам прослежу за моими разбойниками, – милостиво согласился нуреддин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.