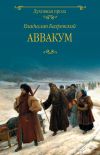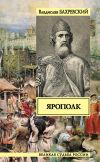Текст книги "Люба Украина. Долгий путь к себе"

Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 55 (всего у книги 63 страниц)
На турецком коне, в сверкающем драгоценными камнями платье, под китой, ехал Тимош в церковь. Толпы людей теснились у дороги, разглядывая жениха. Тимош был суров, его жгло нетерпение: скорей бы свершилось! Лупу мягко стелет… Не выкинул бы какой фокус.
Из церкви юный Хмельницкий приехал сияющий, красивый в своей открытой радости. А Роксанда плакала. Для нее вдруг открылось: игры с ее замужеством кончились, девичество кончилось – она отныне такая же домна, как добрая Домна Тодора.
– Казаков вижу, а где же их жены? – спросил Тимош у Лупу, заходя во дворец.
Казачек забыли пригласить, но тотчас исправили промах, послали за ними. Угощать казачек взялась на женской половине дворца Домна Тодора.
Тимоша потчевал сам Василий Лупу. Великий келарь ставил перед господарем и перед Тимошем одно блюдо за другим. Вилкой протыкал поданное в разных местах, брал кусочек, отведывал.
До пота работал великий виночерпий со своими помощниками. Ему тоже приходилось пригублять вино из чаши господаря. Господарь пил с Тимошем из одной чаши.
– Пей, кушай! – угощал зятя Василий Лупу.
– Пейте, ваша милость! – уговаривал Тимоша хранитель котнарских виноградников.
А Тимош, словно его брали за узду, драл голову, упрямился, отставлял от себя кубки и блюда.
– Пейте! Ешьте!
– Дюже спасыби его милости господарови! – сказал Тимош, незаметно порыгивая. – Есть всего досыто. Чого ж бильше треба! – Наклонился к Выговскому: – От турецкой музыки в ушах свербит, пошли за нашими.
Три скрипача да пузанист – вот и вся казацкая музыка, но Тимош развеселился:
– А ну, казаки!
Квадратный Загорулько пошел колесом по княжеским апартаментам. Словно пожаром хватило голубые стены. Шаровары у Загорульки красные, свитка – красная, так по глазам и ударило огнем.
Тут гуляки-запорожцы сапогами брякнули, ладонями хлопнули и такой каруселью промели господарские покои, что, не удержавшись, раскатились по всем комнатам.
Упросить казака станцевать – все равно что осла с места стронуть, но зато и остановить невозможно.
Танец не кончился, пока танцоры сами не попадали.
– Браво! – кричали боярыни и боярышни.
С женской половины дворца, разливанная, как половодье, потопляя в себе все звуки, катилась напористая свадебная песня:
В поле лебедушка кричала,
В тереме высоком слезы лила…
Тут Галка, жена Карыха, раздобревшая красавица, из-за стола выскочила да, сапожками пристукивая, запела веселое:
Где бы правда, где виденна была,
Что курица бычка привела?
А бычок поросенка принес?
Поросенок бы яичко снес?
А безрукий яичко украл.
Все казачки плечами-то зашевелили, грудьми востопырщились, подкричали Галке:
А ды голому за пазуху сховал,
А слепой ды подсматривал,
А глухой ды подслухивал.
Галка, воздуху набрав, по-голубиному загулькала, басом:
А немой караул закричал,
А безногий вдогон побежал,
Шелудивого за кудри поймал.
Боярыни зажимали уши, закатывали глаза, разводили руками.
– А пошли-ка до нашего стану! – крикнула казачкам Галка. – Разве это свадьба?! Они тут все: плясать пойдут – ножками шаркают, запоют песню – из другой комнаты не услышишь. Пошли сами по себе гулять, пока праздник не подмок!
Казачки на прощание до дна выпивали свои кубки и чары, одно дожевывали, другое прихватывали на ходу, что повкусней, и все потянулись на выход.
Домна Тодора встала у лестницы, провожая гостей, Галка подошла к ней, кивнула через плечо на боярышень, высыпавших поглядеть, как удаляется с пира пестрая, хмельная толпа казачек.
– Чи це на смех мы до вас прыихали? – сказала Галка княгине. – Коли вы такие пышные, чего ж дочку свою за казака выдаете?
Качнулась, пошла мимо, хвостом махнув, да на мраморной-то лестнице и поскользнись.
Поднялась, оглянулась, сверкнув глазами по-кошачьи, а боярышни – ученые, ни одна не прыснула, не хмыкнула.
– Ну и выдры! – сказала им Галка и, захохотав, ухнулась со ступенек на руки своих кумушек.
Тут они разом и грянули:
6
Молодец, Тимош, молодец!
Подрубав вышеньку пид коринец…
Тимош чувствовал: у него дрожит нога. Он поставил ногу на скамеечку, чтобы ловчее было стянуть сапог, и увидал эту мелкую дрожь.
«Господи, да ведь я – боюсь! – Стянул сапог, почесал в затылке. – Подумаешь! Княжна, принцесса, домна! Такая же баба. Только мылом мытая», – уговаривал себя, а робости не убывало.
Роксанда возлежала в постели, розовая, как морская раковина, изумительная, непокорная – до смельчака. Она была так тиха, словно шевельнись – и дворец рухнет. Эта покорность совсем сбила казака с толку. Он разделся, как мышонок.
Стесняясь рук своих, ног, ступая на пальцы, босо прошлепал через комнату и нырнул в свою супружескую постель, проклиная тот час, когда брякнул, сам не зная почему: женюсь, мол, на принцессе.
«Погладить бы ее надо…» – думал с тоской Тимош, затаивая дыхание, но он даже поглядеть не решался в ее сторону.
– Мой казаченько! – позвала Роксанда, и он ожил.
Будто ветром хлестнуло по ковылям. Будто туча пролилась ливнем. Закружил, заласкал – и молния!
– Ты! Ты!
Ударил по лицу наотмашь:
– Кого мне подсунули?
Опять удар, но она не защищалась от ударов, не отстранялась.
– Кто?! – закричал он.
– Великий визирь, – солгала Роксанда. – Он не хотел меня отпустить к тебе. Не хотел, чтоб я стала твоей женой, он хотел…
– Молчи! – Тимош снова треснул княжну своей лапой, и она, застонав, упала в подушки.
Выскочил из постели. Снова сильный, огромный, гибкий, как дикая кошка. Подошел к столу, не стыдясь наготы. Выпил какого-то питья. Это было вино. Полил себе на голову.
– Ну и черт с тобой! – натянул сапоги.
Она поднялась на локте – бело-розовая, как жемчужина, невиданная, неизреченная. Тимош глядел на нее, рот перекося, глядел-глядел да и пошел, как на медведицу, в сапожищах своих.
* * *
Два дня не выходили молодые из покоев.
На третий день был устроен выезд в поле. Поехали Василий Лупу, Тимош, Роксанда, Домна Тодора, Стефан Лупу, логофет Стефан Георгий и еще трое-четверо из самых сановитых бояр, а со стороны казаков – Выговский, полковник Федоренко, толмач Георгий.
Зеленая долина была свежа, искриста, словно не осень стояла на пороге, а только-только начиналась весна.
Вдали, островерхий, как елочка, тянулся к небу храм. С озера сорвалась и пошла утка. Тимош вдруг поскакал за ней, выхватывая из саадака лук и стрелу. Он и сам не знал: перед Роксандой ли выказывал удаль, перед Лупу? Пустил стрелу с правой руки, перебросил лук в левую, еще раз натянул тетиву… Когда кто-то из слуг привез убитую казаком утку, то все увидали – она поражена обеими стрелами.
В четверг был устроен большой пир, и Тимош, обжившийся во дворце, танцевал с Роксандой, да так ловко, что Иляна прикусила губку: этот мужлан смотрелся настоящим рыцарем. А правда-то была в том, что другого рыцаря в Яссах навряд ли сыскалось бы. Танцоров – да, храбрецов – да, но чтоб и еще такого победителя?
Василий Лупу подарил на пиру зятю штуку парчи. Тимош принял подарок не поклонившись.
Отдаривая, поднес Лупу сорок соболей, Домне Тодоре – адамашковую соболью шубку, боярам – по сто талеров.
Приданого за Роксандой было дадено двадцать тысяч талеров. Тимошу господарь пожаловал двух турецких аргамаков да двух валашских. Сверх двадцати тысяч подарил две тысячи золотых червонцев, карету, скарб.
Выговский получил сто пятьдесят талеров, рысий мех на шубу, десять локтей атласу.
Отъезд назначили на завтра, на шестое сентября, но Тимош, обжившийся на новом месте, уже и не желал ехать восвояси. В Яссы пришла тревожная весть – на Украине моровое поветрие.
– Намекни им, что мы не прочь в Яссах пожить, – сказал Тимош Выговскому.
Ласковый Выговский переговорил с логофетом Стефаном Георгием, с Лупу. И тот и другой сожалели, что назавтра придется расстаться с дорогими гостями.
– Боятся они нас, – доложил Выговский.
Вечером, перед тем как отойти ко сну, Тимош задержался в кабинете Василия Лупу. У господаря были Стефан Георгий да Выговский. Лупу на прощание принялся уговаривать Тимоша:
– Все устали от войны. Пора казакам помириться с речью Посполитой. Горько видеть, когда столь замечательное, столь просвещенное государство терпит бедствия и разрушается под ударами судьбы. У старых людей – старые счеты, другое дело – молодое поколение…
Тимош похлопал ладонью по ножнам:
– Пока эта сабля у моего бока, не перестану ее тупить на ляхах.
Лупу не нашелся что сказать, а Тимош, мрачно слушавший уговоры, развеселился:
– Ваша господарская милость, вы теперь мне как второй отец, и я до вас с открытым сердцем… А что, если нам так устроить? И у вашей милости, и у моего родного отца в Истамбуле друзей много. Вот бы испросили вы разрешения купить фирман на валашскую корону. Ваша милость села бы на престол Матея Бессараба, мы бы с Роксандою в Яссах остались, отец – в Чигирине. То-то славно бы получилось! Тут уж и ляхи поостереглись бы Украину разорять, и татары оставили бы Молдавию в покое.
Вид у Тимоша был простецкий, и Лупу вдруг поймал себя на том, что истукан, дубинушка, детина и как там еще величали молодого казака умники-бояре, – человек непроницаемый. Хотел молчать и молчал, не боясь выставлять себя дураковатым, и, может быть, для того только, чтобы теперь столь непринужденно и столь ясно изложить свой план переустройства мира. Не свой – отцовский! Но как все сыграно!
«Осадил своего тестюшку с его польской любовью!» – Лупу посмотрел на логофета – как тому казачий план?
Логофет понимающе улыбался.
– Я буду хлопотать, – пообещал господарь Тимошу.
7Уезжали поутру.
Лупу стоял без шапки, впервые чувствуя себя не господарем, совершившим некую выгодную сделку, но отцом, которому горько было расставаться с любимой дочерью.
Роксанда села в карету.
Тимош в седло. Тронулись.
Шапки Тимош так и не снял на прощание. И не обернулся.
На вершине переката казачий атаман остановил коня и пропускал в долину войско и обоз. Нет, он не устраивал смотра отряду и не умилялся видом Ясс. Он ждал телег, в которых ехали казачки.
Ганку узнал сразу. Тронул коня, поехал рядом. Ганка смотрела на атамана беззастенчиво, как на картинку, и Тимош смутился. Чего это он взялся красоваться? Чего сказать-то хотел?
– Ну как, погуляли? – спросил Галю, жену Карыха.
– Погуляли, – ответила Галя, – голова как котел.
– Опохмелиться надо! – Тимош достал из-за пояса мешочек с деньгами, кинул Гале.
Она поймала.
– А ты, казак, слову господин, – сказала Ганка.
– А как же! – Тимош просиял, дал лошади шпоры, умчался, счастливый, как мальчишка.
Глава пятая
1В середине марта 1653 года Ян Казимир, король Речи Посполитой, созвал в Брест-Литовске чрезвычайный сейм – обсудить жесточайшее поражение под Батогом, союз Хмельницкого с Молдавией, переход украинского населения на земли московского царя.
Партия войны, во главе которой был коронный канцлер Лещинский, ставленник магнатов, на переговоры с казаками о мире смотрела как на отвлекающий маневр. У нее была наготове карательная пятнадцатитысячная армия Стефана Чарнецкого. Сейм начаться не успел, а каратели уже ворвались на земли Брацлавского полка, жгли села и города, а людей уничтожали.
Между тем в Чигирин прибыли королевские комиссары. Именем короля они потребовали от гетмана разорвать союз с ханом и отправить сына в Варшаву заложником мира.
Хмельницкий вскочил на ноги, схватился за саблю:
– Если бы ко мне прислали кого другого, а не вас, людей знакомых мне, уж я бы знал, как мне распорядиться их жизнями! Сына в залог послать нельзя: один – мал, другой только что женился. Прежде чем с меня требовать, пусть король присягнет о ненарушении зборовских условий.
– Но стоит ли вспоминать Зборовские пакты? – удивились послы. – Это дело давнее.
– Зато Батог – дело новое, – усмехнулся Богдан. – Разве я не доказал Польше моего расположения к ней? Поразивши ваше войско на Батожском поле, я стою на месте, а мог бы не только вас вконец разорить, но и за самый Рим загнать! Разговоры эти лишние. С татарми мне разойтись нельзя. Для комиссии будет время, когда война кончится. Переговоры пусть ведет со мною сам король, а когда и где – это в его королевской воле.
В это время на сейме партия умеренных, среди которых первое место отводилось киевскому воеводе Адаму Киселю, сумела свалить Лещинского. Коронным канцлером избрали пана Корытинского.
Адам Кисель мог бы торжествовать, а он слег.
Врач нашел недомогание неопасным для здоровья, но пан сенатор только улыбнулся, выслушав диагноз. Он понимал причину своей болезни и предчувствовал ее исход. Болезнь его была простая: он устал жить.
Адам Кисель любил светлые, просторные комнаты. В Бресте ему удалось расположиться по вкусу. И теперь, лежа на высоких подушках, он тихо радовался свету, заливающему опочивальню, радовался кусочку весеннего, особенно синего неба за окном, но радость эта была тоже особая. Он радовался свету и небу не потому, что они были ему приятны, а потому, что все это существует и без него, само по себе.
Он попросил воды. Ему принесли воду в серебряном сосуде. Он пил и наслаждался. И опять не потому, что утолил жажду вкусной, прохладной водой, а потому, что среди всякой воды, текущей по земле и под землею, есть и такая вот, чистая, дающая человеку бодрость.
Ему было ничуть не беспокойно оттого, что он разделяет мир, существующий для него и существующий сам по себе. Мир для него, для большого сенатора и рано состарившегося человека по имени Адам, худел на глазах, как худеет пропускающий воздух надутый бычий пузырь. Но и это чрезвычайное обстоятельство нисколько не тревожило сенатора.
Вода и вправду несколько ободрила больного, и он взял с ночного столика Библию, открыл наугад и прочитал: «Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его».
– Обо мне, – сказал он вслух.
Все его помыслы последних лет были об устроении между людьми доброго мира. Да вот ведь беда: ни разу в ум ему не пришло спросить у первой попавшейся бабы в его хотя бы Новоселках, каков ей, бабе этой, мир нужен? Нет, он желал для нее своего мира, куда как умного, просвещенного. Да вот что-то не захотели ни казаки, ни поляки жить по-Киселиному. И не то чтобы дурное предлагал он людям! Король за хлопоты киевским воеводством повеличал, Хмельницкий слушал и отличал уважением, московский царь нашел его речи значительными, ибо в них ясно обозначалась связь времен. Что и говорить, звал Адам Кисель государей на прямоезжую дорогу вечного мира.
Да только чем они обернулись, многие труды сенатора? Он стал как неродная нянька в семействе, где дети-драчуны выросли и не только перестали слушать нянькиных увещеваний, но и ей грозились намять бока.
Был бы он человеком ума циничного, холодного – посмеялся бы над всей этой суетой. Казаки бьют поляков, поляки – казаков, а ему чины перепадают. Плохо ли?
Да вот ведь незадача! Угораздило русским родиться. Русский человек, даже весьма ограниченный, никогда не останется вполне доволен ни властью, ни богатством, потому что высшим проявлением русского «я» остается доброе дело для всей деревни, не для пятого-десятого, но обязательно для всей деревни, и дело то должно быть не вещественным – пруд выкопал, церковь поставил, – а духовным, делом вообще. И вот это дело вообще у Адама Киселя не состоялось. Он обещал людям любовь, их собственную любовь друг к другу, а вместо любви все то же: одной дорогой ехали послы, чтобы сплести сеть очередной лжи, а другой – шел убийца. Не стало Иеремии Вишневецкого – сыскался на должность пугала Стефан Чарнецкий.
– Принесите! – крикнул Адам Кисель, делая рукою неопределенный широкий жест.
Слуга, дежуривший возле больного, понял желание господина. В комнату принесли и поставили на полу резной город – забаву сенатора. Составленный из башенок, замков и дворцов, которые Адам Кисель резал всю свою жизнь, город получился большим и чрезвычайно затейливым.
Когда-то у Адама Киселя была мысль построить макет идеального города.
Он пресекал в себе мечты об идеальном государстве, считая непозволительной вольностью выдумывать то, что совершается жизнью и высшим промыслом. Другое дело – внешнее.
Оглядывая теперь свое творение, он видел, что многое у него придумано замечательно, хотя надо бы произвести отбор. Разностильность его дворцов и башен нарушала гармонию порядка. И чего-то еще не было в этом городе!
– Я забыл о домах для работников, – сказал Адам Кисель.
– Что вашей милости требуется? – подскочил к постели слуга.
– И это тоже суета! Все суета, – сказал слуге сенатор. – Затопите печь и сожгите.
– Город вашей милости? – Слуга позволил себе удивиться.
– Да, мой город! Потом позовешь духовника.
«Пятьдесят три года жизни моей, которые позволил мне прожить Господь Бог, пребывал я в православной религии святой восточной церкви Божией, матери моей, в которой лет шестьсот неизменно оставались предки мои, в ней хочу остаться и теперь до последнего моего издыхания».
Адам Кисель хотел настоять на том, что прожил правильную жизнь, что такое совместимо: быть православным и быть верным слугой Речи Посполитой.
Завещание он написал первого мая, умер третьего.
Похоронили его в родовом склепе, рядом с братом Николаем, но казаки, захватившие в одном из походов гнездо Киселей, выбросили их тела из гробов.
2Ненадежным было время на Украине: ни мир, ни война. Доброго дома не поставишь. Сегодня последний гвоздь забьешь в крышу, а завтра – от дома одна труба останется.
Природа тоже людей не миловала. В прошлом году затемнялось солнце, а потом случился жестокий мор по обоим берегам Днепра. В Коростышеве, Самгородке, Погребищах многие люди умерли, а в Прилуках никого почти не осталось.
Да сколько бы ни было на человека смертей, он все-таки жив, потому что ради жизни он себя не щадит, великий он ее старатель.
И в крайнем нищенстве готов человек украшать жизнь из последних своих сил и возможностей.
А потому в иных местах даже о понедельниках помнили:
Кринице, Кринице,
Красная девице!
Воде – дочко Ульяно,
Земле – мати Тетяно,
Камне – брате Петро,
Поздровляю вас из понедилком,
Примайте хлиб-силь,
Давайте нам водици на добро…
Степанида, жена казака Кондрата Осадчего, «понедилкувала» у жены сотника Забияки Оксаны Гарной.
Вокруг Оксаны табунились все женщины Веселой Криницы, малого местечка на большой украинской земле.
Сотничиха хоть и любила своего Забияку без памяти, но пошла замуж лишь после того, как казак в свадебном договоре согласился дать жене полную волю по понедельникам. Не все жены добивались у мужей этого права, но и не все мужья умели устоять перед чарами, хворобами или под одним только точильным камнем своих суженых.
В понедельник поутру женщины отправлялись на базар торговать. Одни продавали кружева и вышивки, другие – соления и варения, третьи – птицу, сало или еще какую снедь.
Как только набиралось достаточно деньжат, женщины покупали вина и закусок и отправлялись в дом к Оксане Гарной. Тут они угощались, пили и пели, говорили по душам, никак не заботясь ни о доме, ни о хозяйстве, ни о мужьях, ни о детях.
Заводилой выступала Оксана. Она среди своих кумушек была и судья, и утешитель.
– Ну что ты нюни распускаешь? – отчитывала она лентяйку Ганну. – Побили ее! А какой бы муж тебя не побил, коли ты прокисшим борщом потчуешь?
– Чугунище-то был какой! Не выливать же! – возразила Ганна. – Я и сама ела – и ничего. Уж очень нежны наши казаки.
– На пузе добра она решила нажить! – вскипела Оксана. – Казаки поехали на охоту за зайцами, и каждый добыл. Один твой вернулся с пустыми руками, в кусту после борща твоего всю охоту просидел.
– Ага! – сказала Ганна, прыская от смеха. – Только, говорит, ногу в стремя, а в животе как пискнет. Я-то и кинусь обратно под куст.
Хохотали так, что посуда на столе сама по себе прыгала.
– Все от нас самих! – сказала, отсмеявшись, Оксана. – Странница одна баяла: «Сотворил, говорит, Бог всяких гадов земных. Поглядел, видит: экая все дрянь, собрал их в мешок и велел человеку отнести подальше да и закопать поглубже. В мешок-то велел не заглядывать. Ну а как же утерпеть? Развязал человече мешок, чтоб только одним глазком поглядеть, чего это Бог таит. Только распустил завязку, а гады и поперли скопом, один другого ужаснее. Бросил тот человек мешок, к Богу прибежал. Бог разгневался да и превратил несчастного в аиста».
– Это чтоб гадов мог собирать? – спросила Ганна.
– Угадала.
– Оксана! – окликнула хозяйку с другого края стола толстущая казачка. – У моей снохи груди, как колеса на арбе, а молока нет. Орет мальчонка с голоду. Чего делать-то?
– Будто сама не знаешь! Буркун белый надо пить! От буркуна даже корова молоко дает.
Посыпались советы. Вспомнили, как рожали первенцев. Каждая про свое спешила рассказать: у одной грудь не брал, другая отучить от груди никак не могла. Кто охал, вспоминая рожу, кто учил, как рожу заговаривать.
– Про Свитязь-озеро никто не слыхал? – спросила Оксана кумушек.
– Это где такое?
– Да будто возле Люблина.
– А чего там?
– Говорят, рыбаки вместо рыбы колокол изловили.
– Колокол?
– Колокол!
– Откуда же он взялся? Церковь, что ли, там сквозь землю провалилась?
– Про то не говорят, откуда взялся. А вот взялся, и все! В сеть попал. Рыбаки его из воды подняли на лодку и стали думать, куда девать. Одни говорят – в церковь отнесем, а другие – в корчму.
– И чего?
– А ничего! Только про корчму помянули, колокол ухнул в воду и на дно ушел.
– Непростой, видно, тот колокол был.
– Еще бы простой! Это не бубенец для козла – колокол, святая вещь.
– Неспроста все это, – сказала толстущая казачка. – К бедствию.
– Довольно с нас бедствий, – перекрестилась молчавшая все время Степанида.
– Мы все треплемся, треплемся! Спой, Степанида! Утешь!
Степанида была в Веселой Кринице человеком пришлым, но успела стать гордостью местной. Ее голос был столь прекрасен, что послушать дивную певицу приезжали за сто верст.
Пела Степанида в церковном хоре, пела, особой платы для себя не требуя, хотя ее и переманивали. Купцы соседнего местечка обещали ей дом поставить, если переедет.
Корыстолюбие Степаниду минуло.
Была она чуткой ко всякой доброте. Как собака, была верна людям, не оттолкнувшим ее.
– Молчунья ты у нас, – сказала Степаниде Оксана. – Вот уж два года в Кринице живешь, а знаем о тебе столько же, сколько в первый день узнали.
– Меня и не спрашивал никто про жизнь мою, – сказала Степанида тихо.
– Вот и расскажи.
Степанида сидела за столом вполоборота, в окошко смотрела. Время, беды и дар ее чудесный сотворили из певуньи величавую женщину. Величавость ее была не напоказ. К ней приглядеться надо было, как к иконе, скрытой тьмою угла.
– Коли вспоминать не хочется, и не надо, – пришел кто-то на помощь Степаниде. – Все мы знаем, Кондрат Осадчий из татарского полона тебя отбил, какой из Немирова гнали.
– Я не из Немирова, – сказала Степанида. – Я жила на левом берегу Днепра. Жениха моего князь Вишневецкий пожелал собаками затравить, да только лазейку ему оставил. Мой суженый и нырнул в скверну.
– Это куда же нырнул? – не поняла толстущая казачка.
– Палачом мой жених стал, – сказала Степанида, повела глазами по лицам казачек, но ни одного лица не увидела – белая лента крутилась и крутилась в голове.
– И ты что же? – спросила, как в прорубь ступила, Оксана Гарная.
– Письма носила, – сказала Степанида. – Матушка моего жениха дала мне те письма. От Хмельницкого они были. Меня поймали, привели на казнь моему жениху.
– Господи! – ахнула лентяйка Ганна, и стало в комнате так тихо, что слышно было, как во дворе лошадь овес хрумкает.
– Он руку себе отрубил, жених мой, – сказала Степанида, – а меня обратно в тюрьму затолкали…
– Какой же крест несут на себе люди! – вздохнула за всех Ганна.
В дверь явственно поскреблись.
– Пожаловали! – двинула бровями Оксана.
И точно: порог переступили сразу двое – Осадчий и сам Забияка.
– Я хлебы поставил, как ты учила, – переступая с ноги на ногу, доложил Кондрат Осадчий, глядя на Степаниду и косясь на Оксану. Показал на Забияку: – Мы вот вместе… ставили.
– Вот и молодцы! – сказала Оксана. – Сами ставили, сами испечете, сами и есть будете… Все ваши дела?
– Все, – покашлял в кулак бравый сотник.
– Доложились, ну и ступайте!
– Оксана! – вступились за казаков казачки. – Ладно уж, пусть идут к столу.
– Ваше дело! А я приваживать бы не стала! – дернула плечами Оксана Гарная.
Казачки, однако, были милостивы, поднесли казакам по чаре, но тотчас и вытолкали за двери.
– Им только дай повадку! Отбою не будет! – гневалась Оксана. – А ну, все наливайте! Все, все! Выпьем за нашу Степаниду! Любила ее, а теперь она мне роднее сестры. По годам ты мне ровня, но будь же мне старшей.
Встала, поклонилась Степаниде, рукою земли коснувшись.
Не умея ответить на этот порыв, Степанида неловко поклонилась в ответ и, чтобы развеять печаль, которая, как туча, повисла над столом, вышла на середину светелки и запела хороводную песенку своей девичьей весны:
Ой не хвалыся, да березонька!
Не ты свою кору выбилыла,
Не ты сее листе да шырочыла,
Не ты сее гилле да высочыла.
Выбилыло кору да яснее солнце,
Шырочыло листе да буйный витер,
Высочыло гилле да дрибен дощык.
Пока пела первую строку, казачки из-за стола вышли да и повели хоровод, подпевая своей соловьиногорлой подруге.
Вдруг дверь рванули. Вошел сотник Забияка, по-другому вошел, не так, как в первый раз.
– Извиняйте меня! Не моя в том вина, что ваш законный праздник нарушаю. Из Погребищ казак прискакал. Коронный обозный пан Чарнецкий напал вчера с войском на ярмарку. Порезал всех, старых и малых.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.